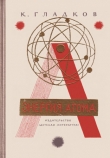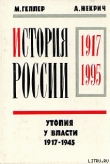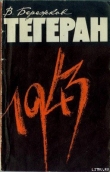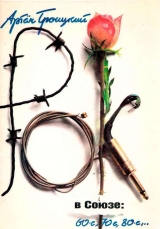
Текст книги "Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е..."
Автор книги: Артемий Троицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)

Коля Михайлов
Фото И. Малорацкого
Я думаю, впрочем, что городские власти пошли на сознательный и умный компромисс, ибо контролировать ситуацию было совсем не просто, как доказывал только что прошедший «день рождения» Свиньи. Но в то утро я долго хихикал и банально высмеивал бюрократические параграфы «Устава» как очевидный анекдот. В этот раз интуиция начисто изменила мне, или я просто недооценил со своими московскими мерками силу и сплоченность ленинградских рокеров.
Вообще, Ленинград и Москва – два совершенно разных города и внешне и по духу. Физически я не переношу Ленинград: он театрально-красив, но абсолютно плосок и прям, как шахматная доска. Единственные отступления от плоскости – это арки мостов, единственные нарушения прямизны – это изгибы рек и каналов. Петербург был построен на пустом месте среди болот, и эта напряженная искусственность, кажется, давит и по сей день. Можно восхищаться архитектурно-геометрическими прелестями Ленинграда и одновременно сходить с ума от какого-то клаустрофобического чувства. Похоже, что это стимулирует творческий процесс (вспомним Гоголя и Достоевского). Кроме того, Ленинград – более "западный" город, чем Москва. Наличие порта и обилие иностранных туристов (особенно скандинавов, приезжающих тысячами на уик-энд) не только создали огромную паразитическую индустрию фарцовки, но и способствовали более оперативному проникновению в массы молодежи всевозможных новых заграничных веяний.
При этом Ленинград заметно меньше Москвы и, несмотря на утонченность, в чем-то провинциальнее. Москва – гигантское столпотворение, ворох не связанных между собою клубков; это место, где можно жить годами, так и не зная, что вокруг происходит. Ленинград более статичен, там все "на виду". Частным проявлением этого и стало то, что в Ленинграде сформировалась единая община рок-музыкантов и примыкающей к ней богемы. Как в большой деревне, там есть места, где каждый, не договариваясь, может увидеть каждого. Главное из таких мест для рокеров, хиппи, панков, художников-авангардистов и т. д. – знаменитое кафе на углу Невского и Литейного проспектов, имеющее неформальное наименование "Сайгон" [47]47
О происхождении названия существует множество одинаково правдоподобных версий. В любом случае оно восходит к 60-м годам.
[Закрыть]. Каждый представитель местной примодненной публики хотя бы раз в день там отмечается, а от пяти до шести вечера у малокомфортабельных стоек с кофе можно найти почти всех и узнать все городские новости и сплетни. Для меня это забавно и не очень понятно, для Ленинграда это святыня. («Сайгон» упоминается в бесчисленных рок-произведениях; у какой-то группы даже есть песня "Мы – дети «Сайгона».) Многие считают, что на этом углу какая-то особая энергетика. А большое зеркало у входа прозрачно с противоположной стороны…
Итак, "дети "Сайгона" объединились в рок-клуб, и 7 марта состоялся первый концерт. Главными группами Ленинграда тогда были "Россияне", "Пикник" и "Мифы". Два последних ансамбля почти идентичны – они играли хард-рок и блюз, а пели нечто очень напоминающее Макаревича; штампы 70-х проникли в них максимально глубоко [48]48
Сейчас обе группы выступают профессионально и звучат чуть более современно.
[Закрыть].
(Юрий Ильченко тем временем халтурил у "Землян", после чего купил автомобиль и бросил "большой рок" вообще.)
"Россияне" были, бесспорно, оригинальны, по-своему очень обаятельны и вызывали жестокие споры среди фанов и экспертов. Если можно вообразить нечто среднее между бесшабашной застольной песней и "хэви метал" – то именно таков был их стиль. Дремуче длинноволосые и беспредельно развязные на сцене, они источали массу энергии и доводили залы до экстаза. Их гитарист и певец Георгий Ордановский, редко выступавший трезвым, выделывал на сцене такие спонтанные акробатические номера, что Лофгрен и Спрингстин могли бы позавидовать. У их бас-гитариста по кличке Сэм на правой руке не хватало трех пальцев. С "Россиянами" было очень весело и свободно, они могли бы быть законченным образцом аутентичного "русского рока", но им не хватало даже элементарной "осмысленности". Поэтому "Россиян" презирали интеллектуалы, и даже далекий от эстетства и снобизма Коля Васин назвал их "талантливыми бездарностями"… Тексты были простоваты и минимальны, а музыка, казалось, состояла из одних припевов. Разумеется, это не мешало им быть настоящей "народной" группой. После легализации "Россиян" рок-клубом на их летние концерты под открытым небом собирались тысячи людей. Ходило даже словечко "россияномания".

Жора Ордановский («Россияне»)
Да, с весны 1981 года концерты начались и проходили с повальным успехом, но это не означало, что рок-клуб [49]49
Организационная структура рок-клуба представляла собой трехступенчатую иерархию. Основание пирамиды – «Общее собрание» членов клуба – несколько сотен музыкантов плюс художники, фотографы, коллекционеры. организаторы и т. д. На «общем собрании» раз в год избирался «Совет рок-клуба» – семь наиболее уважаемых и инициативных членов клуба во главе с президентом, которые управляли всей текущей работой: прослушивали новые группы, находили места для репетиций, устраивали концерты и учебные семинары, занимались прессой, рекламой и т. д. Наконец, на самом верху, «кураторы» – сотрудники Дома самодеятельного творчества: они не вмешиваются во внутреннюю работу клуба, но именно от них зависит окончательное утверждение программ и разрешение на проведение концертов. Независимость рок-клуб получил только в 1989 году.
[Закрыть]решил проблемы все и для всех. Во-первых, группы могли выступать только бесплатно. Надежды «коммерческих» групп («Аргонавты», «Дилижанс»), таким образом, не оправдались, и они вскоре откололись от рок-клуба, предпочтя провинциальные, но профессиональные филармонии.
Во-вторых, у рок-клуба не было ни собственной аппаратуры, ни отдельного помещения: зал ЛДСТ на улице Рубинштейна, 13 приходилось делить с народным театром и прочей городской художественной самодеятельностью. Эти нищенские условия поставили рок-клуб перед необходимостью балансировать между чистым энтузиазмом и традиционными для "сейшенов" хитрыми махинациями.
В-третьих, либерализм "кураторов" не распространялся на "экстремистские" группы. За бортом рок-клуба осталась компания Свиньи и "Трубный зов" – скучная группа (нечто вроде "Юрая Хип" с обильной реверберацией), певшая банально-прямолинейные песни на евангельские сюжеты и пользовавшаяся особой благосклонностью Би-Би-Си и "Голоса Америки". Свой отказ сотрудничать с этими группами рок-клуб мотивировал в основном тем, что они не могли бы давать концерты. "Трубный зов" – потому что религиозная пропаганда в "светских" учреждениях у нас запрещена (у себя в баптистской церкви они могли выступать и выступали) [50]50
Позднее, примерно в 1983 году, двое из «Трубного зова» были арестованы, как было официально заявлено, при попытке перейти советско-финскую границу и осуждены. Так закончилась история единственной нашей номинально «диссидентской» рок-группы. Я не общался с «Трубным зовом» просто потому, что их продукция, на мой вкус, была совершенно неинтересной" и не знаю деталей их «крестного похода». В любом случае результат мог бы быть не столь печальным, если бы рок-клуб и городские власти проявили больше гибкости, а «Трубный зов» больше заботился бы о своей здешней аудитории, а не скандальном паблисити на Западе. В конце 1987 года руководитель «Зова» А. Баринов был освобожден и уехал в Англию. С тех пор о нем ничего не слышно.
[Закрыть]. «Удовлетворители» же, по мнению Совета клуба, просто не могли играть… Действительно, по этой же причине в клуб не было принято и много других слабых и совсем не «панковых» ансамблей.
"Левое" крыло рок-клуба, помимо скандалезных "Россиян", представлял "Аквариум". Поскольку это не только одна из самых значительных, но и самых необычных и влиятельных групп в истории советского рока, о ней стоит рассказать подробнее. "Аквариум" всегда представлял себя не рок-группой, а, скорее, чем-то вроде семьи, общины, живущей в несколько ином, отстраненном мире. Так они трактуют и свое название: вы можете их видеть (а они – вас), но у них своя, "застекленная" среда… Роль лидера в "Аквариуме" играет Борис (Боб) Гребенщиков – немного загадочный, хотя вполне милый и миролюбивый поэт-гитарист-певец, проводящий большую часть времени дома за чаем и читающий почти исключительно сказочно-фантастичес-кую литературу (Толкиен и т. п.) и западные музыкальные журналы. Этот гуру – в меру самовлюбленный, но демократичный и обладающий хорошим социальным тактом. Всеволод (Сева) Гаккель (в оригинале "фон Гак-кель", как совсем недавно выяснилось), потомок одного из первых российских авиаконструкторов, играет на виолончели, он закончил когда-то музыкальную школу. Сева – один из самых светлых и безупречных людей, кого я знаю; спокойный, обезоруживающе бескорыстный, с сияющими глазами и улыбкой святого. Обычно он играет очень спокойно, создавая некий гармонический фон "Аквариума". Но у меня сохранилась – запись одного сумбурного концерта в Москве жарким летом 1981 года, когда в песне "Прекрасный дилетант" Гаккель сыграл такое пронизывающее, раздирающее душу соло, что озноб пробирает при одном воспоминании… Вообще, это одна из самых выстраданных песен "Аквариума":
"Она боится огня, ты боишься стен.
Тени в углах, вино на столе.
Послушай, ты помнишь,
зачем ты здесь?
Кого ты здесь ждал,
кого ты здесь ждал?
Она плачет по ночам,
ты не можешь помочь,
За каждым новым днем – новая ночь.
Ты встретил здесь тех,
кто несчастней тебя —
Того ли ты ждал, того ли ты ждал?
Мы знаем новый танец,
но у нас нет ног,
Мы шли на новый фильм,
но кто-то вырубил ток.
Прекрасный дилетант на пути
в гастроном —
Того ли ты ждал, того ли ты ждал?
И я не знал, что это моя вина —
Я просто хотел быть любим,
Я просто хотел быть любим!.."
И вот тут вступает эта скрежещущая по нервам виолончель.
Андрей (Дюша) Романов – флейта и второй голос. Очень добродушный и компанейский парень, большой любитель выпить и поговорить, особенно об "Аквариуме". (Кстати, именно ему Боб посвятил песню«Мой друг музыкант», заканчивающуюся словами: «Во славу музыки – сегодня начнем с конька…») Дюша – самый трогательный, беспомощный и в каком-то смысле самый «не-западный» компонент в «Аквариуме». Наконец, Михаил (Фан) Васильев, бас-гитарист, перкуссионист и главный канал связи «Аквариума» с внешним миром. Он инженер-программист и единственный, кто имел какую-то карьерувне группы.(Все остальные работали дворниками, ночными сторожами и т. п. – их больше интересует максимум свободного времени.) Он же осуществляет все административно-финансовые функции «Аквариума» – но, кажется, не очень эффективно, если принять к сведению, что с 1972 года, когда группа начала выступать, до самого недавнего времени они так и не скопили достаточного количества денег на аппаратуру и инструменты… Фан любит представлять себя реалистом и прагматиком (он член Совета рок-клуба!), но в действительности он такой же безобидный шалопай, как и все остальные. И к этой основной четверке время от времени волной прибивало различных ударников, гитаристов и одного фаготиста.

БГ

Дюша

Ляпин Фото А. Усова

Сева

Фан

Петя

Тит

Б.Г. – Большом Гуру?
Фото А Усова
В Ленинграде «Аквариум» не был популярен. В конце 70-х они несколько раз выступали перед «Машиной времени» в качестве «разогревающего» ансамбля, и, по словам Коли Васина, «публика страшно томилась, ожидая, когда же это занудство наконец закончится». Слава пришла к ним в Москве, а на берегах Невы они начали набирать очки только в 1982 году, когда к классическому квартету присоединились (на этот раз надолго) очередные рекруты – «электрический» гитарист Александр Ляпин и ударник Петр Трощенков. Ляпин – виртуозный блюзовый гитарист; он прошел джазовую школу, играл в профессиональных ансамблях, но был разочарован и пришел к «Аквариуму», ища выход своему незаурядному, сверхэмоциональному стилю исполнения. (Если не по звуку, то по чувству и пластичности манеры он ближе всех советских рок-гитаристов подошел к Джими Хендриксу.) Ляпин привнес в «Аквариум» то, чего там никогда не было – мощный роковый звук и четкую технику игры. Однако его отношения с группой складывались сложно и «травматически»: с одной сторона,Боб нуждался в нем как в «солидной» опоре и средстве завоевания широкой рок-аудитории, с другой – ревновал, когда Ляпин на концертах своими пронзительными соло и героическими трюками (он играл на гитаре зубами, держа ее за спиной, вызывал оглушительный «фид-бэк» и т. п.) отодвигал лидера в тень и пожинал часть его лавров… Потом, Ляпин был «только музыкантом» и среди хитроумных мистиков «Аквариума» выглядел простачком, несколько выпадал из «отстраненного» имиджа. Он иногда обижался на высокомерное отношение к себе, но был весел, отходчив и продолжал играть, став фактически вторым по популярности членом «Аквариума», несмотря на реальный статус «приглашенного» музыканта. Что до ударника Петра, то он был намного моложе всех остальных, играл надежно и вел себя скромно. По вечерам, если не было концертов, играл в шашлычной в составе местного оркестра.

Первый показ А по ТВ (программа «Мир и молодежь»)
Годом позже, к неудовольствию Фана, место бас-гитариста «Аквариума» занял Саша Титов – исключительно гибкий и мелодичный аккомпаниатор. Как и Ляпина, в объятия БГ его толкнуло полное разочарование в «профессиональном» роке. До «Аквариума» он играл в «Землянах» – и это действительно было как небо и земля… Со временем надежный и отзывчивый Титушка стал главным партнером Гребенщикова и своего рода амортизатором между разраставшимся «эго» лидера и остальными участниками группы.
С приходом этих троих ребят "Аквариум" от акустического реггей и фолк-баллад резко свернул в сторону рок-мэйнстрима в диапазоне от "Роллинг Стоунз" до "Пинк Флойд" с эпизодами в стилях ска и фанк. Кульминацией новой электрической программы стали две песни, написанные под несомненным влиянием Джима Моррисона: "Рок-н-ролл мертв, а я еще нет…" и "Мы никогда не станем старше". В последней из них есть строки:


Майк/"Зоопарк"
"Я не знал, что все так просто,
Я даже стал другого роста,
Но в этих реках такая вода,
Что я пью, не дождавшись тоста…
Мы пили эту чистую воду,
Мы пили эту чистую воду,
И мы – никогда не станем старше!"
Для многих других это мог бы быть очередной красивый, но пустой лозунг. Для «Аквариума» это правда. Благородный инфантилизм – их знак. Из-за него они страдали и благодаря ему одерживали победы; могли выглядеть наивными, мягкотелыми и «недостаточными» и в то же время не шли на компромиссы и не продавали себя. «Чистая вода» рок-идеализма промыла «Аквариум» очень основательно. Иногда это наскучивало, даже раздражало. Хотелось действий, а не проповедей, битого стекла, а не хрусталя… Но стоило очутиться с ними за одним столом, увидеть сквозь дым папирос эти прозрачнодетские взгляды, как злость пропадала. В конце концов, кто из тех, кому сейчас за тридцать, не пил «эту чистую воду»?
Надо сказать, что и Майк играл одно время – в конце 70-х – роль попутчика в "Аквариуме", помогая им своими корявыми гитарными соло. После московского триумфа жизнь его не могла оставаться прежней, и в начале 1981 года было объявлено о создании группы "Зоопарк". Способ создания этого коллектива вполне соответствовал индивидуальности Майка, который, отнюдь не будучи "эзотериком", является в то же время одним из самых созерцательных, ленивых и непрактичных людей своего круга. И здесь он поступил простейшим образом: не стал подбирать музыкантов, чтобы сотворить нечто стоящее, а с легким сердцем ангажировал ужасную дворовую команду под названием "Черный сентябрь", переименовал ее и стал во главе. Мастерства группы не очень хватало даже для его "гаражного" ритм-энд-блюза, но неотразимая ирония текстов и пикантность тем это как-то компенсировали. Членство в рок-клубе мало повлияло на дерзкую музу Майка; одним из шлягеров сезона стала, например, такая песня:
"Мы познакомились с тобой
В «Сайгоне» год назад.
Твои глаза сказали «да!»,
Поймав мой жадный взгляд.
Покончив с кофе, сели мы
На твой велосипед
И, обгоняя «Жигули», поехали на флэт
На красный свет.
Я был невинен как младенец,
Скромен как монах —
Пока в ту ночь я не увидел
Страх-трах-трах в твоих глазах".
Но настоящим шоу-стоппером стало эпическое двадцатиминутное произведение из пятнадцати куплетов и с более чем пятьюдесятью персонажами под названием «Уездный город N». Город населен историческими знаменитостями и литературными героями: диск-жокей Галилей запускает пластинку с возгласом: «А все-таки она вертится!»; Ромео, проводив Джульетту из кино, спешит в публичный дом; Оскар Уайльд служит шефом полиции нравов, а Маяковский торгует на рынке морковью… Раскольников точит на улице топоры и ножницы; Бетховен – бывший король рок-н-ролла – играет в баре на разбитом пианино, а Анна Каренина томится на железнодорожном вокзале города, куда никогда не приходят поезда… Трогательная попытка одним махом разбить множество икон (кстати, в песне присутствует и "торговая фирма «Иисус Христос и отец»), местами очень забавная, местами банальная. Тем не менее одно уже упоминание знакомых, тем более одиозных имен всегда вызывало у публики бурные ответные чувства.

Виктор Цой и наставник
Первый большой концерт «Зоопарка», как можно догадаться, прошел в Москве. Удалось договориться с администрацией и техниками «Машины времени» и одолжить их аппаратуру. От лидера группы это держалось в секрете, но он каким-то образом все же очутился в зале… Можно вообразить себе радость Макаревича, неожиданно обнаружившего, что Майк поет в его микрофон [51]51
Антагонизм этих двух знаменитых рок-авторов нашел отражение и в «Уездном городе N», где есть строчки:
"…Это наш молодежный геройУстроил битву с дураками,Но дерется он с самим собой…" Это, разумеется, намек на знаменитую песню «Машины» и е есочинителя. К чести Макаревича, надо сказать, что он не ответил на этот злой выпад.
[Закрыть].
"Новая волна" накатывала медленно, но верно. В 1982 году появились еще две интересные группы – "Кино" и "Странные игры". "Кино" – дуэт, в котором играли уже известные нам Виктор Цой (вокал, ритм-гитара) и Рыба (соло-гитара). Цой был автором всех песен, в которых сквозило одиночество и неуемная жажда общения и любви:
Дождь идет с утра —
Будет, был и есть.
И карман мой пуст,
На часах – шесть.
Папирос нет, и огня нет,
И в окне знакомом
Не горит свет.
Время есть, а денег нет,
И в гости некуда пойти…"
Так же, как Майк, Цой пел о повседневной городской жизни, но под совсем иным углом зрения. У Майка нет иллюзий, зато есть здоровый цинизм; это видение взрослого человека – у него есть проблемы, но он знает им цену и даже не прочь с ними поиграть. Цой еще вчера был тинэйджером, а в душе им и остался. Его мир искренен, полон смятения и довольно беззащитен. Хочется быть зрелым и саркастичным, но реальность продолжает удивлять…
"Весна – я уже не грею пиво.
Весна – скоро вырастет трава,
Весна – вы посмотрите, как красиво.
Весна – где моя голова?"
И в то же время:
"Я не умею петь о любви,
Я не умею петь о цветах,
А если я пою, значит, я вру.
Я не верю сам, что все это так!
За стенкой телевизор орет,
Как быстро пролетел этот год,
Я в прошлом точно так же сидел,
один, один, один —
В поисках сюжета для новой песни…"
Борис Гребенщиков стал главным поклонником и покровителем Цоя: он говорил, что ни у кого в песнях нет столько чистоты и нежности. Так оно, похоже, и было. К тому же отличные мелодии.
"Странные игры" сразу наделали много шума и приобрели массу поклонников – это была очень эффектная и первая в своем роде группа. Все остальные исполнители "нового рока", от "Аквариума" до "Удовлетворителей", делали ставку на тексты песен и мало заботились обо всем остальном. "Игры" первыми всерьез взялись за аранжировку и постановку шоу. Они играли настоящий ска и, прямо скажем, многое позаимствовали у "Мэднесс" – и музыкально, и визуально. (Даже выходили на сцену "гусеницей" – как "Мэднесс" на обложке первого альбома.) Но вряд ли кто назвал бы их эпигонами – в музыке "Странных игр" присутствовал ощутимый этнический мелодизм, а сценическое действие было по-русски смешным. На "бис" обычно исполнялся такой номер: Гриша Соллогуб облачался в униформу деревенского деда, шапку-ушанку и валенки, брал в руки гармонь и, задушевно закатив глаза, принимался наигрывать "Дым на воде" – затем присоединялись все остальные, и гимн "хард-рока" превращался в народную плясовую. Таким образом адаптированное западными попсовиками "Лебединое озеро" было отомщено.

Фото В. Барановского
«Странные игры»


«Тамбурин»
В «Странных играх» собрались вместе очень разные и яркие типы. Лидер, Александр Давыдов [52]52
Давыдов умер в июне 1984 года, уже уйдя из «Странных игр».
[Закрыть], был загадочно-меланхоличен, два брата-гитариста Соллогубы, Гриша и Витя, – по-панковски агрессивны, клавишник Коля Гусев – язвительно-интеллигентен, саксофонист Алексей Рахов воскрешал в памяти очаровательных стиляг, а Александр Кондрашкин быстро завоевал репутацию лучшего в Ленинграде рок-ударника. К сожалению, обилие индивидуальностей не помогало в написании текстов, и «Игры» использовали стихи западных поэтов-модернистов – конечно, в русском переводе. Еще одной проблемой был вокал: в группе пели почти все, по-разному и одинаково средне. Строго говоря, в «Странных играх» просто-напросто не было лидера, точнее, их было слишком много, и это предопределило недолговечность ансамбля. (Окончательный развал произошел в 1985 году.)
На сцене, однако, они были превосходны – комичны, анархичны и напористы. Они отталкивали друг друга от микрофонов, менялись инструментами, провоцировали публику, но весь этот балаган был отлично организован. Первые концерты "Странных игр" в Москве слегка напугали невежественную аудиторию: черные очки, галстуки, грубые манеры и один номер ("Песня дадаиста") в ритме марша натолкнули некоторых на самые нехорошие подозрения… Именно тогда в Москве произошли возмутившие всех выступления молодых фашистов (о которых знали в основном то, что они носят узкие галстуки и бреют виски), и невинный ленинградский ансамбль едва не объявили их приспешниками. На всякий случай "Игры" перестали исполнять марши…
Первые два года истории рок-клуба были отмечены борьбой всяческих фракций и поисками форм существования. Консолидация наступила весной 1983 года при подготовке к I городскому рок-фестивалю. Из пятидесяти с лишним групп было отфильтровано четырнадцать лучших, которые и выступили в течение трех солнечных майских дней на сцене рок-клуба. Это был не только праздник, но и акт самоутверждения. На фестиваль явились искусствоведы и журналисты, "официальные" композиторы и поэты, культуртрегеры и фаны из разных городов. Из пользующейся сомнительной репутацией рок-резервации клуб в мгновение ока превратился в культурный институт. К счастью, не до конца солидный: дух "Сайгона" продолжал витать над веселой толпой, а чиновники сновали с озабоченным видом, ожидая очередного скандала.
По нашей неизживаемой традиции проводился конкурс. Из хороших групп не удалось наградить только ужасно сыгравший "Зоопарк". А лауреатами стали: "Странные игры", "Тамбурин" (грациозно-мелодичный фолк-рок под управлением импозантного барда Владимира Леви, в прошлом участника "Фламинго" и "Последнего шанса"), "Пикник" и "Россияне" (все – III место); "Мифы" и "Аквариум" (II место) и "Мануфактура" (I место).
"Мануфактуру" до фестиваля никто, кроме Совета рок-клуба, не слышал, так что это был более чем красивый дебют. Группа, ведомая клавишником Олегом Скибой, исполняла мечтательно-романтические песни, пронизанные типично ленинградским настроением – смесью меланхолии и невроза. Фактически это была единая театрализованная программа под названием "Зал ожидания". Она открывалась картиной вокзальной суеты: солист Виктор Салтыков начал петь, лежа на скамейке, закутавшись в пальто. Затем, по ходу дела, он метался по Невскому проспекту, тосковал в освещенном торшером салоне, а в конце представления забрался по лестнице под самый потолок зала с песней про дом, построенный им на облаках… Со своим модным "новоромантическим" стилем, милыми и вполне "безопасными" текстами плюс нежным возрастом "Мануфактура" угодила всем и была признана "большой надеждой". К сожалению, первое "ударное" выступление оказалось и последним. После фестиваля они дали несколько бледных концертов (похоже, что первое место подкосило группу психологически), а летом Скиба и гитарист Дима Матковский были призваны в армию. В дальнейшем они несколько раз реконструировали "Мануфактуру", как фокусники, пытающиеся повторить однажды удачно получившийся трюк, – но без успеха. Эта группа остается редким примером калифов на час советского рока [53]53
Виктор Салтыков стал звездой подростковой эстрады, будучи солистом сначала «Форума», затем «Элсктроклуба». Дима Матковский играет в «Аукционе». Олег Скиба уже давно пытается начать сольную карьеру.
[Закрыть].

Виктор Салтыков («Мануфактура»)
Вместе с «Аквариумом», «Россиянами» и другими «Мануфактура» сыграла в июле на «свободном» фестивале в Выборге, городе к северу от Ленинграда, недалеко от финской границы. Это было не самое важное, но, кажется, самое неожиданное и веселое событие той поры. Пейзаж просто незабываем: пригородный парк «Монрепо» на берегу морского залива, деревья, валуны и шум прибоя, деревянная сцена в десятке метров от теплых волн. Летняя толпа оккупировала большую лужайку перед подиумом и окрестные холмы, желающие могли слушать музыку, не выходя из моря. Светило солнце. Несколько милиционеров с расслабленным изумлением наблюдали все это и внимали песням.
"Я спешу домой в такси,
Моя жена привела любовника.
Мне позвонила на работу соседка —
Она все видела с балкона.
Он пришел к ней в бежевой шляпе,
Принес нарциссы и маленький торт.
Они познакомились летом в Анапе,
Когда я ездил в аэропорт…
Ревность! Ревность!"
Это пела новая московская группа «Центр» (о них позже), единственные трезвые участники концерта. Ленинградские рок-звезды бесчинствовали, пререкались с публикой и играли неважно… Бывало у нас на фестивалях и публики побольше (в Выборге было тысяч пять человек), и звук получше, но такой вольной атмосферы и прекрасной неорганизованности нигде не было. Единственная аналогия, приходящая на память, – это фестивали в Вильянди, в Эстонии, в середине 70-х…
Вильяндиский фестиваль, равно как и толпы одетых в брезент хиппи, канул в прошлое. Однако Эстония, наряду с Ленинградом, оставалась центром интенсивной, хотя и довольно изолированной по-прежнему рок-жизни. Это был единственный регион, где рок всегда находил полную официальную поддержку, и не только в плане его коммерческой эксплуатации. Средства массовой информации, включая ТВ, детально информировали полуторамиллионное население республики о делах жанра. Местный филиал "Мелодии", несмотря на бюрократические проволочки, связанные с московским начальством, наладил постоянный выпуск альбомов рок-групп: в начале 80-х вышли пластинки Свена Грюнберга [54]54
Этот электронно-медитативный диск. «Дыхание», был высоко оценен журналом «Эурок». «Удивительно, как музыканту удалось достичь такого эффекта, используя простейшую технологию», – заметил в заключение рецензент.
[Закрыть], ансамблей «Магнетик Бэнд», «Руя», «Касеке», «Мюзик-Сейф» и других. Таллиннская киностудия сняла музыкальную мелодраму «Шлягер этого лета», где в той или иной форме участвовали почти все заметные эстонские группы. Республиканский Союз композиторов тоже воспринимал рокеров вполне лояльно и даже понемногу с ним сотрудничал, предлагая им собственные «прогрессивные» сочинения и участвуя в организации концертов.
Это трогательное внимание и "тепличная" атмосфера обернулись довольно странным результатом. Эстонская рок-музыка разбилась на два больших клана: с одной стороны, чисто развлекательные поп-рок-группы, с другой – экспериментальные ансамбли, игравшие джаз-рок, симфо-рок и авангард – то, что сами эстонцы окрестили "престижным роком". Лишь одна черта у обоих кланов была общей – безупречное, отточенное исполнительское мастерство. Кстати, многие "престижные" музыканты, когда не хватало денег, подписывали контракт с какой-нибудь из "коммерческих" групп и ездили с ними на гастроли. Не будет преувеличением сказать, что маленькая Эстония дала нашему року не меньше классных инструменталистов, чем Москва и Ленинград, вместе взятые… Минусом всей ситуации (по крайней мере с точки зрения москвича) было то, что между этими двумя полюсами образовался некий вакуум: того, что составляло главную силу российского рока (особенно "новой волны"), то есть групп "сердитых" и социально-озабоченных, в Эстонии как-то не наблюдалось… Хотя и из этого правила были блестящие исключения.
Ход рок-процесса в Эстонии легко проследить по тартуским фестивалям, которые начались в 1979 году и стали ежегодной "выставкой достижения" жанра. Тарту – это что-то вроде эстонского Оксфорда: небольшой город с большим престижным университетом. Узкие улицы, мощенные брусчаткой, старинные домики, парки, холмы, тихая интеллектуальная жизнь, хорошее пиво – фантастически уютное место, хотя и не очень вяжется с рок-н-роллом. Посередине городка протекает речка; в начале мая, когда навигация еще не открыта, пассажирские теплоходы стоят на приколе, и именно в них обычно живут музыканты и их друзья и подруги, приехавшие на фестиваль. (Зная, что происходит на этих кораблях по ночам, можно только радоваться, что никто до сих пор не свалился за борт.) Концерты проходят в самом большом здании Тарту – знаменитом театре "Ванемуйне". Организация на хорошем уровне. Бедные русские, попав в Тарту, ходят с широко раскрытыми глазами и тихо завидуют тому, что происходит: рабочие сцены и техники ходят с радиопередатчиками, милиции не видно, продаются плакаты и значки с эмблемой фестиваля, работают пресс-клуб и ночной бар. В последние годы все концерты снимались на видео и записи демонстрировались ночью в дискотеке вперемежку с новыми западными клипами… "Красиво жить не запретишь", – как говорят у нас в таких случаях. Однако интересно то, что все чудеса делали выпускники, студенты и преподаватели университета– энтузиасты, иными словами. Если бы организацией занимались формальные люди, чиновники, – как это обычно бывает, – картина была бы не столь впечатляющей.

Итак, главные события рок-фестиваля в Тарту, год за годом.
1980. "Ин Спе" (сокращение от "In Speranza" – "в тональности надежды") сыграли "Симфонию для шести исполнителей" Эркки-Свена Тюйра. Пять молодых ребят и девушка, некоторые из них – студенты консерватории, делили свои привязанности между роком и старинной музыкой. "Симфония" была прелестным образцом "средневекового" рока и напоминала ранние сочинения Майка Олдфилда. Серьезность и одухотворенность музыкантов были просто восхитительны. Отец Эркки-Свена живет на маленьком острове, он баптистский пастор. Сами "Ин Спе" тоже начинали играя в храме, что, впрочем, совсем не помешало им стать признанной рок-группой и выпустить два альбома. В 1981 году я пригласил их в Москву, где они тоже имели успех.

Петер Волконский
Сногсшибательно выступил «Пропеллер». Это был настоящий, беспредельный панк-рок. Группа играла быстро, жестко и компетентно, но в фокусе находилось шоу одного человека – Петера Волконского. О, это уникальная личность! Великий гротескный актер, неотразимый певец-дилетант и уморительный танцор среди прочих достоинств. Если у Сирано де Бержерака был только невероятный нос, то у Петера особой нелепостью отмечено все – руки, ноги, осанка, походка, голос. Даже на переполненных прохожими улицах центра Таллинна его невозможно не заметить издалека – такая странная фигура. Он закончил философский факультет Тартуского университета, был режиссером маленького экспериментального театра «Студия старого города», снимался в кино, но главным образом занимался тем, что своей необузданной фантазией и темпераментом, взрывной смесью гения и городского сумасшедшего всячески будоражил спокойную жизнь артистической Эстонии. «Пропеллер» был лишь одним из многих его проектов, самым громким, но далеко не самым долговечным. Через несколько месяцев после «Тарту-80» группа играла на одном из таллиннских стадионов, и после концерта имели место некие «молодежные беспорядки». «Пропеллер» попросили больше не выступать… Хотя странно, почему в аналогичных ситуациях не запрещают футбольные команды? К тому же одна из типично дадаистических песенок Волконского называлась «Ди Вохе»: в ней просто-напросто перечислялись по-немецки все дни недели, но характер подозрений и претензий можно легко угадать.
1981. "Пропеллер" минус Волконский переименовался в "Касеке" и получил "Гран-при" фестиваля за программу инструментальной музыки. Петер появился на заключительном концерте в маске Рейгана, чем усугубил свою ужасную репутацию. "Ин Спе" исполнили настоящую мессу "Lumen et Cantus", написанную в традиции григорианского хорала. "Руя", кумир 70-х, отметила возвращение в свои ряды пианиста и композитора Рейна Раннапа серией мощных и лаконичных (чего раньше не было) песен, построенных на типичных панк-роковых риффах. Песня "Вчера я видел Эстонию" была особенно хороша.