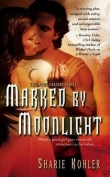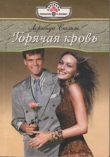Текст книги "Последний день жизни. Повесть о Эжене Варлене"
Автор книги: Арсений Рутько
Соавторы: Наталья Туманова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
АРСЕНИЙ РУТЬКО, НАТАЛЬЯ ТУМАНОВА
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ
Повесть об Эжене Варлене

НАД ПЫЛАЮЩИМ ПАРИЖЕМ
…Кончался последний день сопротивления Коммуны.
Совершенно обессилевший, Эжен Варлен сидел на обрыве, на крутом склоне Монмартра, недалеко от площадкп, откуда немногим более двух месяцев назад красноштанные солдаты Версаля, по приказу Тьера и коменданта Парижа генерала Винуа, пытались увезти стоявшие здесь пушки. А пушки были отлиты на пожертвованные голодающим народом деньги и установлены на холмах Монмартра, Бельвиля и Бютт-Шомона для защиты города от осадивших его прусских армий. Да, именно отсюда, с Монмартра, началась героическая, самоотверженная, но теперь уже безнадежная борьба трудового Парижа с коронованными и некоронованными властителями Тюильри и Версаля.
Хотя, нет, Эжен, ты не прав! Никакая борьба с насилием, даже если она кончается поражением, не может остаться бесплодной: будущие поколения извлекут из нее наглядный и полезный урок. Ваши трагические ошибки и сама ваша гибель многому научат тех, кому суждено сменить вас на земле. Ведь растерзанная, распятая Коммуна – не последний взлет человеческого духа, когда-нибудь настанет век победоносных революций, не всегда же будут править миром титулованные и богатые мерзавцы! Несмотря на нынешний кровавый разгром, необходимо сохранять веру в будущую победу. И если суждено сегодня или завтра умереть, надо принять смерть достойно и мужественно. «Коммуна побеждена – да здравствует Коммуна!»
Сквозь дым пожаров Варлен смотрел на раскинувшийся внизу, объятый огнем Париж, который коммунары пытались, но не сумели навсегда освободить от самовластия сильных и алчных мира сего.
Кончался день, но сумерки не опускались на город, потому что гигантским костром пылало внизу бывшее гнездо императоров – Тюильри, да и вся улица Риволи, самая длинная улица Парижа, охваченная пламенем, огненной полосой рассекала город. За ней, в просвете меж домами, в редких разрывах клубов дыма, багровыми отсветами поблескивала Сена. Чуть левее Тюильри таким же костром полыхала Ратуша. Пронизанный языками пламени дым вздымался над зданием Министерства финансов, над Дворцом Почетного легиона, в Ситэ горели Префектура и Дворец юстиции. Во многих местах Бельвиля и Мепильмоптана бушевали пожары. Они возникали не только от зажигательных, керосиновых и нефтяных снарядов осаждавших, коммунары сами пытались стеной огня остановить или хотя бы задержать наступление врага… И где-то там, в районе Бельвиля и кладбища Пер-Лашез, еще гремели выстрелы – кто-то из последних героических безумцев продолжал сражаться на уцелевших баррикадах…
Варлен сидел лицом к пылающему городу, который так любил и одновременно ненавидел, спиной к ветряным мельницам Монмартра – одна из них, налево от него, рассыпая фонтаны искр, размахивала горящими решетчатыми крыльями. Чуть повернув голову и скосив взгляд, Варлен сквозь ветви жасмина видел эту мельницу, видел, как по улице Розье, гогоча и перекликаясь, проходили взводы вражеских солдат и с победным видом гарцевали на откормленных конях офицеры генералов Галифе и Сиссе. Мелькали сверкающие сабли, синие кепи с белыми околышами, серебряными и золотыми галунами. На рукавах у большинства прохожих пестрели трехцветные повязки – снова воскрес старый символ на месте праведного знамени Коммуны, окрашенного кровью четырех революций и множества восстаний.
Иногда, подталкивая штыками и прикладами, грозно покрикивая, солдаты гнали по направлению к 37-му бастиону арестованных и пленных. Среди них были не только национальные гвардейцы, но и женщины, старики, даже дети. На миг Варлену показалось, что в толпе обреченных он узнал чуть сутуловатую фигуру Марианны Мишель, матери Луизы. Парижане прозвали Луизу за ее мужество и доблесть Красной девой Монмартра.
Возможно, и меньшего из братьев Эжена, хромоногого Луи, сейчас вот так же ведут на расправу, подталкивая в спину штыками… Бедный, дорогой Малыш! Так горько сознавать, что именно деятельность Эжена в Интернационале и Коммуне поставила Луи под вражьи пули.
Скорее бы наступила ночь, тогда попытаюсь добраться до рю Лакруа. Может, еще не поздно, и квартира не разгромлена солдатами и полицией и удастся спасти Малыша хотя бы ценой собственной жизни. Все равно, если не сегодня, то завтра враги опознают меня. В их глазах я – один из главных «преступников», не зря же в трех из двадцати округов Парижа избиратели опоясали меня красным шарфом с золотыми кистями, почетной регалией члена Коммуны… Если Луи арестован, его уже не спасти, но в душе теплится надежда, что он догадался укрыться, спрятаться, у нас с ним в Париже много друзей…
И еще одна пугающая мысль. А что, если при обыске на рю Лакруа ищейкам Версаля удалось обнаружить нехитрый тайничок, где Эжен хранил документы Парижского бюро Интернационала, письма Маркса, адресованные ему и Лео Франкелю, списки тех, кто по его рекомендации вступил в Интернационал? Прп обнаружении списков всем поименованным там, а возможно, и их семьям грозит гибель. Коммунары за эту неделю убедились, что Версаль Тьера и его генералов не знает милосердия, никому не дает пощады.
Как, оказывается, правы те, кто советовал хранить подобные документы вне дома, в недоступных для врага местах. Но мы все, в том числе и я, безоговорочно верили в окончательную победу Коммуны, верили хотя бы потому, что считали ее единственно справедливым правительством парода…
А внизу, на крутых склонах Монмартра, во всю вешнюю майскую силу цветут вишневые и яблоневые сады, на ветвях с нежным шелестом покачиваются под слабым ветерком розовые и белоснежные свечи каштанов. Это угнетает и наполняет странной печалью: ликующая, празднующая весну природа равнодушна к человеческим страданиям, не замечает ни трупов, ни размозженных черепов, словно так и полагается, так и должно быть.
Бог мой, ну почему такие бесполезные мысли лезут в голову?! Сейчас нужно думать лишь о том, как добраться до рю Лакруа, как спасти Луи!
Кусты жасмина и сирени укрывали Варлена со стороны улицы, защищали его. Хотя, по правде говоря, ему, одному из вожаков Коммуны, хотелось прямо и открыто выйти врагам навстречу, принять смерть так же мужественно и бесстрашно, как приняли ее Гюстав Флуранс, Шарль Делеклюз и Рауль Риго, как десятки, сотни других. И он бы, конечно, сделал это, если бы не тайник с документами, если бы не младший брат, Луи. Средний, Ипполит, тот сумеет сам постоять за себя, он всю кровавую майскую неделю сражался на баррикадах. А вот Малыш…
Судьи Версаля не простят ему, что он – брат Эжена Варлена. Этот «мерзавец» – так окрестили Эжена версальские газеты – один из главарей Коммуны, один из заправил Интернационала. А после гибели Делеклюза – гражданский делегат по военным делам Коммуны. Он руководил защитой Парижа, отдавал приказы о поджогах.
А Луи не вынесет, не в состоянии вынести тяжелых испытаний. Немощный, колченогий из-за давнего увечья, он очень ослабел за месяцы двух осад Парижа – сначала прусской, а после заключения мира с немцами версальской, когда город буквально вымирал от голода. Получив в Ратуше доступ к оставшимся после Трошю и Фавра документам, Луи как-то назвал Эжену потрясающие данные статистики о смертности в конце прошлого года. Тогда за ноябрь в Париже погибло от голода более восьми тысяч человек, в следующем месяце земля парижских кладбищ приняла двенадцать тысяч гробов, а дальше стало еще голоднее, еще хуже. Началась круговая версальская осада. У многих – и взрослых, и детей – по неделям не было во рту и крошки хлеба. Ели полупротухшую конину, привозимую с поля боя, ели кошек и крыс, по дикой цене продавали мясо зверей из Зоологического сада, убитых потому, что их тоже нечем было кормить. Даже привезенного из Африки слона, гордость сада, убили и съели…
Варлен сидел, беспомощно раскинув ноги, опершись о землю вытянутыми за спину руками. Все сильнее и сильнее кружилась голова, гасло сознание. Нестерпимо хотелось повалиться в траву и забыться сном. Ведь за неделю, с тех пор как версальцы благодаря измене Дюкателя проникли в Париж через ворота Сен-Клу, и до сего дня никто из коммунаров не спал полностью ни одной ночи, только дремали в часы затишья, опершись спиной или плечом о камни и поваленные фонарные столбы, о бочки и тюфяки баррикад. А Варлену и такого краткого отдыха не выпадало: чуть стихали бои, тут же собирались оставшиеся в живых члены Коммуны, в последние дни – в мэрии VI, потом XI округа, думали и решали, как защищаться дальше.
С каждым днем, с каждым часом вражеские дивизии и корпуса захватывали все новые кварталы. А когда прусские части, стоявшие на северо-востоке от Парижа и якобы соблюдавшие нейтралитет, по приказу Мольтке пропустили через ворота Сент-Уэн версальские войска генерала Монтодана, всем стало ясно, что всякое сопротивление бессмысленно…
Варлен лег, уткнулся лицом в траву. Очень болела голова, ее сильно поранило осколком штукатурки или кирпича, когда снарядом разбило стену над баррикадой на улице Рампошю. Хотелось есть. Когда же он последний раз ел? Кажется, вчера или позавчера возле баррикады на Рампонно один из друзей, Теофиль Ферре, затащил Эжена в чей-то чужой дом, где ему дали чашку суррогатного ячменного кофе и кусочек черного хлеба пополам с мякиной и глиной. И сейчас почти совсем не осталось сил; наверно, самому и не подняться, не встать с земли.
Помнится, что-то важное рассказывал тогда Теофиль? Ах, да, о Луизе Мишель. Теофиль встретил ее на баррикаде площади Бланш, которую защищал женский батальон под командованием Луизы Мишель и Лизы Дмитриевой, русской революционерки. И Луиза, по словам Ферре, высказала ему горькие, но справедливые упреки. «Наша беда, Тео, в том, – говорила она, – что врагов своих мы мерим по себе, наделяем их благородством и великодушием, честью и совестью, теми качествами, которых требуем от бойцов Коммуны, которым следуем сами. Мы всегда были великодушны, наивны и доверчивы, как дети, в то время как наши враги иезуитски изворотливы, подлы и беспощадны. Поэтому мы и погибнем!» Ферре пересказывал эти слова как бы с тайным удовлетворением: убежденный бланкист, он на всех заседаниях Коммуны выступал с требованием более суровых мер по отношению к заложникам в ответ на жестокость Версаля, на ежедневные массовые казни пленных федератов в Сатори…
– Да, может быть, и так, – едва слышно прошептал Варлен, лежа на боку и касаясь пересохшими губами травы, – это не утоляло жажду, но чуть-чуть приглушало ее. – Мы нe убивали пленных, не расстреливали заложников до начала кровавой майской недели… А как она выразилась еще, Луиза? «Необходимо отвечать жестокостью на жестокость, только тогда можно рассчитывать на победу!» И это тоже, конечно, в духе самых яростных бланкистов, тех же Ферре и Рауля Риго, прокурора Коммуны… Что ж, Эжен, может быть, они и правы? Как рассказывали очевидцы, в последние дни победители из Версаля без суда и следствия расстреливали целые толпы, и не из ружей, а прямо из митральез, картечью, – дешевле и проще! И кто-то вчера па баррикаде Фонтэн-о-Руа заметил, что Сена сейчас приобрела в пределах Парижа новый приток: ручей крови, вытекающий из ворот казармы Лобо. Туда, в казарму, сгоняют всех, захваченных поблизости и подозреваемых в участии или даже просто в сочувствии Коммуне. И там их встречает смерть…
Только теперь Варлен со всей отчетливостью понял, почему так врезались в память гневные слова Красной Девы. Принадлежа к «меньшинству» в Коммуне, он был одним из тех, кто до самой последней минуты возражал против расстрела заложников. Он доказывал: хотя заложники и враждебны народной власти Коммуны, хотя большинство из них – буржуа, бывшие чиновники Империи, священники, жандармы, но ведь они взяты из числа мирных жителей… Если солдаты Винуа, Галифе и Сиссе в эти месяцы сотнями убивают пленных федератов, истязают захваченных в плен наших сестер милосердия и маркитанток, то ведь заложники не принимали участия в этих расправах, – пытался он убедить Ферре и Рауля Риго.
Он, Варлен, признавал справедливым расстрел Вейссе, пытавшегося от имени Версаля, по личному предложению Тьора, подкупить генерала Домбровского, обещая полтора миллиона франков за открытые для вторжения ворота Парижа. Преступник, безусловно, заслуживает смерти. Но заложники?..
И когда по улице Аксо два дня назад вели на расстрел пятьдесят одного человека, Варлец пытался помешать исполнению приговора Комиссии общественной безопасности. Но ничего сделать не удалось: конвоиров, ведших осужденных к месту казни, сопровождала тысячная толпа разъяренных и обезумевших в своем горе людей, тех, у кого версальцы уничтожили родных. Этих людей невозможно было образумить, остановить, гнев жег их сердца и души. Полные ненависти и жажды отмщения, они не хотели никого и ничего слушать.
Да, тогда Варлен еще не понимал, как и многие коммунары, что на изуверства и жестокости Версаля необходимо отвечать силой. Не понимал, что среди заложников, за которых он заступался, были и настоящие враги, вроде монсеньера Дарбуа, – и эти враги были уничтожены Коммуной. Это было актом справедливым и необходимым. Но остальные, а их были сотни, по приказу Ферре освобождены вчера из тюрьмы Ла Рокетт.
Именно в последние дни Варлен с особенной остротой понял, когда зародилось в нем наивное стремление к невозможному «миру» с извечными врагами бесправных и нищих. Это шло от человека, кого Варлен с юности почитал своим учителем. Отголоски учения Прудона до сих пор продолжают звучать в его сердце. Ведь никто другой, а именно Прудон когда-то писал о «добрых намерениях, рыцарском сердце и уме» Луи Бонапарта, тупого, самодовольного, ненавистного народу узурпатора, свергнувшего Республику и вскарабкавшегося в пятьдесят втором году на трон великого дядюшки, тоже, к слову говоря, залившего Европу реками крови! И разве одну Европу? Разве не гибли французские парни у подножия тысячелетних пирамид, в раскаленных песках Египта?
Наполеону Малому (так окрестил Наполеона Третьего Великий изгнанник Виктор Гюго, гордость нации, покинувший родину около двадцати лет назад, после государственного переворота пятьдесят первого года, и вернувшийся в Париж только после седанской катастрофы), бывшему императору, когда-то бежавшему из крепости Гам в украденной куртке работавшего там каменщика Баденгс, вероятно, и сейчас не так уже плохо живется в прусском плену! После того как он 2 сентября прошлого года, в завершение бездарной франко-прусской войны, почти без боя сдал Вильгельму и Мольтке восьмидесятитысячную армию под Седаном… За два тысячелетия не было и истории Франции более подлой и позорной страницы!
А на смену Наполеону Малому на вершину власти выползли людишки, мало чем уступающие ему в властолюбии, жестокости, подлости и своекорыстии: Троиц, Тьеры и Фавры, Базены, Сиссе и Галифе… Право, жаль, что Прудон не дожил до нынешнего дня, не видит, как гибнет в огне и крови прекрасный Париж, не видит нагромождений трупов коммунаров. Что бы он при виде этого зрелища сказал о «мире и сотрудничестве» с буржуазией?
Почти засыпая, Варлен расслышал неподалеку сдавленный стон. С усилием приподнял голову, но все плыло и мутилось перед глазами. То ли туман, то ли дым объятого огнем города разъедал глаза, мешал видеть.
Стон повторился. Напрягшись, Варлен вытащил пз кармана носовой платок, опершись на локоть, протер глаза. Нет, поблизости никого не видно, но что-то шелестело и двигалось внизу, под обрывом. За все время, пока Варлен сидел здесь, оп ни разу внимательно не глянул туда. Заставив себя всмотреться в сбегающий по крутому склону сад, он лишь сейчас увидел, что там, между цветущими вишневыми деревьями, в траву свалена делая куча трупов. Вероятно, пленных расстреливали, выстроив на бровке обрыва.
Да, несомненно, кто-то остался там жив – доносились сдавленные, сквозь зубы, бормотание, тихая брань:
– О, черт тебя подери!
Хриплый и злой голос показался Варлену знакомым. Он еще раз протер глаза, заставил себя подвинуться ближе к обрыву. Кто это, кого не добили красноштанные? После расстрела им, вероятно, лень было спуститься под откос и промерить, все ли мертвы? Это и спасло раненого.
Постой, постой, Эжен, да ведь это, похоже, твой старый друг Альфонс Делакур, боец 193-го батальона, которым ты командовал в октябре прошлого года? А ни сколько лет перед тем вы вместе работали в мастерской мадам Деиьер.
Ну конечно же Делакур! Его, рыжебородого, трудно не узнать… Сидя между мертвыми телами, то наклоняясь, то опять выпрямляясь, он с видимым усилием сдирал со своих штанов красные лампасы, уличавшие его в принадлежности к Национальной гвардии. Варлен понимал предосторожность раненого. Оставшиеся в городе гвардейцы, с точки зрения Версаля, все до одного – разбойники и бандиты. После бегства правительства Тьера из Парижа в Версаль, следом за ним кинулись и национальные гвардейцы из буржуазных и аристократических кварталов; сбежало их, по слухам, не так уж мало! А те, кто остались здесь, для Версаля – враги!..
Нет, Варлен не собирался обвинять Делакура в трусости, не осуждал. Может быть, Альфонсу удастся спастись, хотя, вполне вероятно, красные прострочки на местах отодранных лампасов рано или поздно выдадут его версальцам, и тогда ему не ждать пощады. А у Делакура семья: милая работящая жена и две дочки.
С первого дня вступления в город солдаты Винуа, Галифе и Сиссе разыскивают в захваченных кварталах родственников федератов и без всякого следствия и суда беспощадно расправляются с ними. «Вырывают зло с корнем», чтобы не осталось даже крохотных его побегов… Что ж, так поступали все завоеватели. Чингисхан сровнял с землей цветущий Самарканд, римские легионеры запахали плугами развалины разрушенного ими Карфагена…
Два раза Варлен шепотом окликнул Делакура, но тот, занятый своими лампасами, не слышал. А позвать громко Варлеи боялся: можно привлечь внимание с улицы и погубить не только себя, но и этого несчастного, уже пережившего только что страх смерти.
Тут чуть было притихшая боль в голове снова опалила мозг, накатилась опрокидывающей волной. Почти теряя сознание, Варлеи лег, уткнулся лицом в траву. И вдруг наступила спасительная, благословенная тишина. Запах травы напомнил милые, родные запахи далекого детства. Так пахло во время сенокосов в лугах на берегах канала Урк и Сены, куда Эжен ходил с отцом и братьями косить траву. Так же звенели, притаясь в ромашках и люпине, кузнечики, и так же вторил их звону задорный смех сестренки Клеми и ее подружки, озорницы Катрин…
И странно: воспоминания давних дней как бы наслаивались на только что пережитое – в дымке прошлого проплывали очертания полуразрушенных баррикад и огненные сполохи взрывов. И сквозь розовые краски детства проступали лица друзей последних лет: Жюля Андрие, Жюля Валлеса, Артюра Арну, Шарля Делеклюза, многих, многих других… Лица то расплывались в тумане, то возникали снова, приглушенно звучали голоса… И почему-то настойчиво, неотступно звенело в памяти: «Если к правде святой мир дороги найти не умеет…»
И опять сознание гасила, заливала тьма…
«МЕЧТЫ И БУДНИ КОММУНАРА ЭЖЕНА ВАРЛЕНА»
(Тетради Луи Варлена. 1871 год)
«Семь лет назад, когда я с ученической робостью начинал вписывать первые строчки в эти дневниковые тетради, Эжен всячески ободрял и поощрял меня, стараясь внушить мне уверенность, что, при надлежащем усердии, со временем я смогу написать что-нибудь путное, полезное людям. И, подогревая свое мальчишеское честолюбие картинками грядущей славы, я иногда урывал у сна часок-другой, чтобы записать чьи-то поразившие меня мысли, вычитанную у кого-то из „великих“ незабываемую фразу, рассказать об интересном событии.
Но, пожалуй, не это главное, что побуждает меня писать. Мне хочется как можно больше и подробнее рассказать об Эжене, о моем брате. Мои мысли и ощущения, записанные в этой тетради, – это лишь отражение, отсвет того, что говорит и делает Эжен. Я не сочиняю его жизнь, а пытаюсь описать, воссоздать ее.
Теперь, перелистывая дневники, я с радостью убеждаюсь, что за годы, проведенные в Париже, благодаря деликатной, едва ощутимой, но постоянной настойчивости брата и его влиянию я чрезвычайно преуспел. Я уже не тот простодушный, лопоухий, хотя и по-крестьянекп „себе на уме“, паренек, которого когда-то Эжен чуть ли не силой привез сюда из провинциального Вуазена. Там, на родине, в столице департамента, городишке Клэ, я окончил четыре класса начальной школы, и мне казалось, что я все знаю. Но только здесь, в Париже, я стал постигать людей и скрытые пружины личных, общественных и социальных отношений. Правда, надо сознаться, что, к сожалению, я частенько бывал недостаточно прилежен, и потому многое не попало на страницы дневника.
Сейчас, в эти поразительные дни Коммуны, я чувствую себя обязанным как можно подробнее записывать в дневники все происходящее, тем более что большинство ученых-историков после революции 18 марта сбежапо вместе с Тьером и его сворой в Версаль. Нет, конечно, я не смею возомнить себя настоящим историком, не так уж я самоуверен. Начиная свои дневники, я вовсе не собирался писать историю событий в Париже, – мне просто хотелось рассказать людям о моем брате – добром, одаренном, умном человеке. Но с особенной силой меня потянуло к дневникам вчера, когда поздно ночью, уже лежа в постели, брат сказал мне с обычной для него сдержанной страстностью:
– Да, Малыш, такого еще никогда не знала история! Мы присутствуем…
Внезапно он замолчал и, приподнявшись на локте, повернулся ко мне. Сквозь узенькие щелки жалюзи в мансарду проникал неяркий лунный свет, и даже в полутьме я видел, каким радостным огнем пылают глаза брата.
– Нет, Малыш! Я не так выразился, ее точно, – поправился он. – Мы не присутствуем, а сами, вот этими руками, укладываем первые камни фундамента небывалою на земле государства. – Он досадливо кашлянул. – И снова не то слово!.. Не государства! Это слово не выражает главного смысла того, что мы хотим возвести. Что же это будет? Свободная, равноправная федерация городских и сельских коммун? Не знаю… Вероятнее всего, так… Твердо знаю лишь одно: построенное нами будет самым честным и справедливым обществом… У нас, Малыш, нет единого плана, нет проекта в целом, среди нас, к великому сожалению, нет людей, искушенных в строительстве подобного рода. Мы даже не можем представить себе, как оно должно выглядеть – то, что мы строим. Но одно мы знаем непреклонно: там не должно быть бездомных и нищих, каждый работник должен подучать за свой труд все необходимое для жизни! Там на перекрестках улиц по вечерам не будет испуганных и голодных или навязчиво-нахальных девчонок-проституток, не будет там стариков, сходящих с ума от голода и нищеты, копающихся в отбросах, не будет самоубийц!
Эжен секунду, как бы взвешивая, выверяя сказанное, молчал, а я боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ненароком его неожиданного вдохновения.
– Там, Малыш, в нашей будущей Коммуне, – почему-то шепотом, но с прежней страстью продолжал Эжен, – там не останется места жирным паукам, вроде Рулана и Шнейдера, сосущим кровь из простого люда и превращающим ее в золото луидоров и долларов!.. Конец старому правительственному и клерикальному режиму, конец милитаризму, бюрократизму, эксплуатации… Пусть мы начинаем наугад, каждый камень укладываем ощупью, пусть мы, вероятно, во многом и не раз ошибемся! Но ведь мы, Малыш, первые, а первым суждено трудное! Помнишь восточную поговорку: след рождает дорогу? Так вот – это мы сегодня прокладываем дорогу будущему обществу свободных людей… Да, да, Малыш! Не зря же мы пишем на знамени и в декретах Коммуны прекраснейшие из слов: Свобода, Равенство, Братство! Но не для всех, Малыш. Свобода и Равенство – для тружеников!
Эжен замолчал; в полутьме влажно поблескивали белки его глаз.
– Не думаю, Малыш, что здание, которое мы начали строить, окажется схожим с „фалангами“ Фурье, что в нем полностью воплотятся прожекты Сен-Снмона и Кампапеллы. Ничего пока нельзя предсказать точно. Но надеюсь: наша Коммуна – начало будущей светлой и справедливой эры!
Глубоко вздохнув, Эжен лег, откинул голову на подушку. Счастливо и, словно сожалея о невольном порыве, чуть виновато, негромко засмеялся.
– Что-то необычно разболтался я нынче, Малыш, а? Чуть не стихами заговорил, будто мой тезка „седой юноша“ Потье! Словно невидимая волна подхватила и понесла. Хоть бы ты одернул меня!.. Давай-ка спать, милый!
Он лег на бок, лицом к стене, натянул одеяло. И вдруг снова с живостью повернулся ко мне:
– Но я же забыл главное! Завтра, Малыш, ты отправишься со мной в Ратушу. Дело, видишь ли, какое… Наши ежедневные заседания протоколируются наспех, небрежно и не всегда точно. А точность необходима, ведь мы много спорим, прежде чем принимаем тот или иной декрет… Секретарь Коммуны Антуан Арно жалуется, что ему не под силу без стенографов справиться с протоколами. Ему еще после заседания необходимо вместе с Лонге подготовить отчет для печати, дли „Журналь офись-ель“ и афиш Коммуны… А это не гак-го просто, Малыш, как может показаться на первый взгляд! Ведь мы говорим, например, о военных приготовлениях в борьбе с Версалем, и этого нельзя печатать, мы ие имеем права, как последние глупцы, открывать врагу все свои карты, оповещать ею о наших замыслах… Борьба-то, вооруженное столкновение со сбежавшими в Версаль мерзавцами, видимо, неизбежна, они сами хотят этого. Как ты полагаешь?
– Наверио, так, брат, – кивнул я.
– И в то же время нужно, чтобы протоколы заседаний Коммуны были полными и абсолютно точными. Ведь, повторяю, мы немало спорим, иначе не найти правильных путей, Истина-то рождается в спорах, утверждали древние!.. Так вот, с завтрашнего дня в помощь Арно и Шарлю Лонге, помогающему готовить материалы для прессы, начнет работать маленькое бюро стенографов под руководством Тюилье. Оказывается, Малыш, заседания так называемого „правительства национальной измены“ в Версале стенографируют двадцать четыре опытных секретаря, а мы сегодня подобрали для Тюилье всего двух. Для этой работы требуются предельно преданные, проверенные люди. Важно, чтобы сведения о секретных решениях не смогли попасть во вражеский лагерь… Ты понимаешь, да?! И я предложил: будешь стенографировать и ты. Коммуна оказывает тебе доверие, Луи, потому что ты – мой брат.
Я вскочил с постели, обхватил руками шею Эжена.
– Спасибо тебе!
В ответ он засмеялся с оттенком иронии:
– Э, погоди благодарить, Малыш! Работа предстоит весьма и весьма нелегкая! Мы заседаем ежедневно по шесть-семь часов, а иногда и два раза в день. Необходимо выработать и утвердить взамен отвергнутых новые законы, установить новые нормы поведения, создать новые учреждения!.. Так что собирай все силенки! Надеюсь, не подведешь меня! Я тебе верю, как самому себе, Луи!.. А теперь знаешь что? Спать! Дел завтра – гора, невпроворот…
Взволнованный до слез, счастливый, я покорно улегся, но уснуть долго не мог… Вот благодаря Эжену и я оказался, верное, завтра окажусь в зале Ратуши, где бьется горячее сердце Коммуны!.. И вот тут-то вспомнил я о полузабытых дневниках…
Да, как бы ни уставал, с завтрашнего дня я обязан записывать все значительное, происходящее в Париже, ведь мы стоим на пороге нового, небывалого века, и каждое свидетельство этих дней может оказаться драгоценным. Рядом со мной живут и борются такие замечательные люди, как Эжен, Шарль Делеклюз, Теофиль Ферре, Рауль Риго, Гюстав Флуранс, Лео Франкель, Жюль Валлес, Луиза Мишель…
Я проклинал свою леность! Устав за день у переплетного станка, вечером я уже не в силах был заставить себя сесть за тетради дневника. Тянуло пойти в ближайший клуб – большинство церквей и школ по вечерам превращаются в рабочие клубы, – хотелось послушать страстные речи, о которых недавно невозможно было и мечтать… Я виноват в том, что более подробно не описал в дневниках осады Парижа пруссаками, которая началась 19 сентября; не написал о том, как Жюль Фавр, член Временного правительства, возникшего после крушения Империи, ездил с унизительнейшим поклоном в ставку бундесканцлера Бисмарка, умолять о перемирии, как прусские вояки 1 марта заняли район Елисейских полей на западе Парижа и как правительство Тьера согласилось уплатить контрибуцию в пять миллиардов франков, чем и закончило позорнейшую войну…
Не описал я должным образом и стихийных народных восстаний против этих подлецов правителей. Решительное наступление парижского народа все приближалось, о чем ярко свидетельствовали восстания в октябре семидесятого и в январе нынешнего, когда народ захватил Ратушу. Правительство перенесло свои заседания в Лувр, где по соседству с Тюильри оно чувствовало себя в большей безопасности. Не упомянул я и об угрожающем предсказании Бисмарка Жюлю Фавру: „Если Париж не будет взят в течение нескольких дней, правительство ваше будет свергнуто чернью!“ А они, наши правители, этого страшились больше всего. Мой Эжен принимал участие в обоих восстаниях, его имя стало известно всему Парижу. Да, тогда мы нерушимо верили в близкое провозглашение свободы, а во главе народа стоял „вечный инсургент“ неистовый Огюст Бланки. Именно он писал в октябре в одной из афиш:
„Временное правительство низложено, перемирие с пруссаками отвергнуто, поголовное вооружение декретировано. Выборы в Коммуну состоятся в течение 48 часов“. Увы, тогда они не состоялись!
Да, о многом я не успел, не смог записать! Всеобщее вооружение трудового Парижа было необходимо для победы над прусскими армиями, по наше гнусное правительство боялось этого как огня и шло па поводу требований Бисмарка, соглашавшегося оставить оружие шестидесяти старым, то есть буржуазным, батальонам и настаивавшего на более жестокой блокаде города, чтобы вынудить национальных гвардейцев из народа сдать свое оружие в обмен на хлеб для их семей. Какое изуверство!
Остались за гранью моей своеобразной летописи будни Центрального комитета Национальной гвардии, который до провозглашения Коммуны, то есть до 28 марта, стал полновластным и единственным хозяином Парижа; незабываемый праздник 18 марта, день победы трудового люда. Национальные гвардейцы из буржуазных кварталов почти все бежали в Версаль. Необходимо заметить, что, формируя батальоны, правительство Трошю ограничивалось буржуазными округами Парижа, не решаясь выдавать оружие рабочим и студентам. Поэтому-то за ружье, за мундир и за штаны с красными лампасами и за кепи обязывали платить наличными, а у большинства рабочих, конечно, не было этих наличных. И вооружались только богатые. Вот тогда-то народ и прозвал правительство национальной обороны, как они сами пышно величали себя, „правительством национальной измены“. Да, они боялись вооружить народ, предпочитая отдать Париж прусским завоевателям, народа они боялись больше, чем иноземного вторжения. А Центральный комитет гвардии вооружал рабочих бесплатно. Армия, как таковая, и полиция перестали существовать. Их сменил вооруженный народ. Мой Эжен стал членом ЦК Национальной гвардии, и его единогласно избрали командиром 193-го батальона. В отличие от прежней регулярной армии, где офицеры избивали рядовых солдат, как последних собак, в Национальной гвардии властвует закон о смещении в любое время провинившегося, не оправдавшего доверия командира… Батальоны сведены в каждом из двадцати округов Парижа в легионы, но командир легиона тоже может быть в любое время смещен гвардейцами! Народовластие! Вот это мне и нужно как можно подробнее описать в дневнике. И о дне выборов в Коммуну, ярчайшем на моей памяти празднике, где Эжена на площади Ратуши опоясали красным шарфом с золотыми кистями…