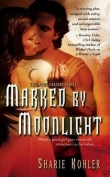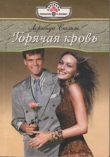Текст книги "Последний день жизни. Повесть о Эжене Варлене"
Автор книги: Арсений Рутько
Соавторы: Наталья Туманова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Эжен выбрался из толпы, дошел до ближайшего сквера и, вытирая со лба холодный пот, присел на садовую скамью у мраморной чаши фонтана, посреди которой резвились в простовато-изящном танце фавн со свирелью в руках и молоденькая пастушка, кокетливо приподнявшая подол платья. Эжен видел их смутно, словно сквозь дым…
А колокола над Парижем не уставали греметь победную песнь. Где-то в ресторане неподалеку бесновалась плясовая музыка, кто-то пьяным голосом орал: «Ах, Катрин, Катрин, я жадно жду тебя, милашка, в моей постели…»
Ага, Катрин! Вот что еще все время хотелось вспомнить. Остались ли они с дедом Огюстом живы при захвате пруссаками родного Вуазена, суждено ли встретиться Луи и Катрин? И если встретятся, как сложится их жизнь? Ведь Луи обо всем думает так же, как и ты, Эжен, это ты привел его в свою веру, и если он останется жив, он не откажется от борьбы. Кто это говорил, что семена правды более живучи, нежели семена плевел и зла? Нет, не помню…
Но как бы ни сложился дальше жизненный путь Луи, если ему удастся сейчас ускользнуть от расправы, он, конечно, не пойдет по пути Прудона! Если бы покойный Пьер-Жозеф дожил до нынешней кровавой вакханалии, он и сам, вероятно, отрекся бы от благостных призывов к миру между жертвами и палачами, между волками и овцами. И путь «вечного узника» Огюста Бланки вряд ли привлечет Малыша. Так что же остается, Эжен?.. Доктор Маркс, да?..
От путаных, метавшихся мыслей Эжена отвлекло внезапно возникшее беспокойство, оно исходило откуда-то извне и мешало сосредоточиться, решить что-то последнее, что еще предстояло решить. Может, его томило неясное, тайное желание дождаться ночи и под кровом се багровой от пожаров полутьмы спуститься в последний раз к берегу Сены? Чем не выход? Ведь никто не узнает, что трагическое решение он принял сам, никто из оставшихся в живых друзей не осмелится упрекнуть его в трусости… Но он с презрением отогнал эту мысль.
Беспокойство не покидало Эжена, он неспешно, с усилием поднял голову и огляделся. На какой-то из башен пробило три. Рю Лафайет по-прежнему шумела сотнями голосов за столиками кафе, грохотали колеса карет и экипажей, откуда-то доносилась бравурная мелодия оркестра, перезванивались колокола…
Сквер был почти пуст, но на противоположном краю скамьи, где сидел Эжен, пристроился мужчина и, сложив на набалдашнике трости руки, с торжествующим и напряженным вниманием разглядывал Эжена. Худое, изможденное лицо показалось Эжену знакомым, но он не сразу узнал кюре Бушье. Тот, прежний, из какой-то давным-давно забытой жизни, пастор был всегда свеж и розов, словно яблочко из сада в августовскую пору, я губы у него никогда не привила такая язвительная и победно-торжествующая улыбка. Тот Бушье, из прежней жизни, даже в часы самых яростных словесных схваток с Эженом, даже грозя грешнику бесконечными муками ада, не позволял себе сбрасывать маску человеколюбия и благочестия, приличествующих сану служителя господа бога. Может, перемена объясняется тем, что на Бушье была не сутана, а обыкновенный гражданский костюм?..
Эжен не стал мучить себя поисками ответов, он просто сидел и смотрел в торжествующее лицо священника. Так прошли две или, может быть, даже три нескончаемо долгие минуты.
– Вы узнаете меня, коммунар Варлен? Бывший коммунар Варлен?
Эжен не ответил. Он медленно вскинул взгляд и долго смотрел в небо поверх красных черепичных крыш, поверх шпилей и куполов соборов, – там кое-где, в просветах между клубами дыма, синел нежный перламутр майского неба. Эжен вдруг с тоской и горечью вспомнил, как они с Малышом ходили в мастерскую надгробий выбирать недорогую, но приличную мраморную плиту для старика Эме! Они с братом облюбовали плиту, договорились о цене, но за суматохой последовавших событий так и не довели дела до конца. Больно кольнуло сердце: не отдал ты, Эжен, последнего долга отцу, так могила старика и останется простым земляным холмиком, на котором, наверно, уже пробилась первая зеленая травка… Да, многого не успел ты сделать в жизни, перед многими остался в долгу…
И словно из какой-то далекой дали, из другого мира донесся до него голос Бушье:
– Вы не желаете со мной разговаривать, господин бывший коммунар? Вы, видимо, забыли, что именно благодаря вам мое имя оказалось в списках заложников, что именно вы ввергли меня в ужасные казематы Мазаса и Ла Рокетт? – Бушье подождал ответа и, не дождавшись, саркастически усмехнулся: – Видимо, страх перед неминуемой расплатой лишил вас, гражданин Варлен, и памяти, и дара речи?
Не отвечая Бугаье и не глядя в его сторону, Эжен вслепую нащупал лежавшую на скамейке шляпу. Нет, он не надеялся уйти, да и не хотел этого делать, он прекрасно понимал, что двери жизни за ним захлопнуты навсегда. Но он не мог сидеть в непосредственной близости от этого «святого» служителя церкви. Он надел шляпу и встал.
– Но грех неизбежно наказуем! – тоже поднимаясь, с угрозой сказал ему в спину Бушье. – Когда-то в спорах со мной вы не раз пазывали мне количество сожженных святой инквизицией еретиков! Помните? Или предпочитаете не вспоминать о кощунственных обвинениях, которые вы осмеливались бросать в лицо матери-церкви?! А сколько крови нам пришлось пролить, чтобы покарать вашу безбожную Коммуну?! Опять молчите?..
Не отвечая, Эжен уходил в сторону от шумящей, ликующей рю Лафайет. Но сделать ему удалось но более пяти шагов.
– Господин лейтенант! – послышался сзади громкий, переходящий в визг крик Бушье. – Господин лейтенант! Вон идет один из главарей Коммуны, один из убийц монсеньера Жоржа Дарбуа. Его имя – Эжен Варлен!
Не оборачиваясь, Эжен остановился, и через несколько секунд чья-то тяжелая ладонь властно легла на его плечо.
– Ваше имя!
Эжен молчал.
Он с трудом различал перед собой румяное, розовощекое лицо, щеголеватые, пушистые усики, пристальные, холодно-беспощадные глаза.
– Ваше имя?
И так как Эжен продолжал молчать, лейтенант обернулся к проходившему неподалеку взводу, махнул рукой. Солдаты, повинуясь приказу офицера, подошли.
– Обыскать!
И через минуту десятки рук ощупывали карманы Эжена, все его тело. Бумажник, носовой платок, очки Марии Яцкевич, перочинный нож, часы – вскоре все оказалось в руках краснощекого лейтенанта.
Эжен наблюдал за происходящим безучастно, словно все это было не с ним и не имело к нему ни малейшего отношения. Открыв бумажник, краснощекий лейтенант старательно пересчитал деньги… Двести восемьдесят четыре франка… Так и не удалось тебе, Эжен, передать деньги Луи, переслать матери в Вуазен…
– Господин лейтенант! На часах – именная надпись! Да, часы, подаренные ему когда-то товарищами за победу в первой забастовке переплетчиков!
Чужие руки и так и сяк вертят самую дорогую и памятную для него вещь, отчетливый, но почему-то едва различимый голос читает вслух: – «Варлену – в знак признательности от рабочих-переплетчиков. Сентябрь 1864 г.».
– Это ваши часы?
– Да… мои.
– Прекрасно! Значит, вы действительно Эжен Варлен, руководивший после смерти Делеклюза сопротивлением?
Эжен молчал.
– Да или нет?!
Эжен молчал, глядя поверх крыш прощальным взглядом на багровые, словно окровавленные полосы дыма, на синие просветы меж ними. Да, прощай, жизнь, прощайте, мои дорогие, и живые, и мертвые! И все же ни о чем не надо жалеть! Помнишь, вчера, сидя вечером на обрыве Монмартра, ты говорил себе: «Никакая борьба с насилием, даже если она кончается поражением, не может остаться бесполезной…» Жаль только, что такие уроки даются человечеству слишком дорогой ценой…
Звериный рев сотен глоток как бы вернул его с неба на землю. С некоторым даже удивлением он оглядел собравшуюся вокруг него бесноватую толпу.
Он как будто и не чувствовал, как связывают ему наломленные назад руки, он как бы посторонним зрителем присутствовал при чьей-то казни в одном из парижских театров. И боли, физической боли не испытывал. Появилось ощущение огромной высоты, словно он откуда-то сверху смотрел и на самого себя, и на своих палачей.
Слов он но различал, видел лишь красные, распаленные ненавистью лица, искривленные криком рты и пену в углах губ, видел, как сверкали в прорвавшемся сквозь дым солнечном луче наполненные вином бокалы, звеневшие в честь – нет, не в честь! – а в ознаменование его гибели! Вспомнил, как в позапрошлом году, когда в Зоопарк впервые привезли купленного у Гагенбека льва, они вместе с Малышом ходили смотреть на могучего плененного зверя. Лев метался в клетке, а надежно защищенная решеткой толпа любовалась красавцем и владыкой Африки. Какой лютой ненавистью и какой жаждой свободы горели янтарно-огненные глаза зверя, с какой яростью разглядывал он людей перед решеткой. Эжен и Малыш стояли в стороне, отнюдь не любуясь муками плененного красавца зверя, а, наоборот, сострадая и сочувствуя ему! Они молча переглянулись и быстро пошли прочь.
Почему вспомнилась эта полузабытая сцена? Не потому ли, что теперь он сам, Эжен, оказался подобен плененному и бессильному в своем гневе зверю, что и у него не оставалось даже мизерного средства отмщения пленившим его негодяям? Правда, у него оставалась гордость, бесстрашие и презрение – последние скорбные паруса, которые донесут его до недалекой гавани…
На несколько секунд внимание Эжена привлекло белое пятно в толпе окружающих его злобных багровых лиц. Бушье?.. Да неужели это лицо Бушье, минуту назад выдавшего его, отдавшего на самосуд? Эжену казалось, что там стоял совершенно иной человек! Что-то изменилось в рисунке, в выражении лица, мииуту назад исполненного жажды кары. Что? Их взгляды столкнулись всего на мгновение, но и мгновения оказалось достаточно, чтобы Эжен почувствовал себя победителем, он, а не служитель господа бога Бушье, благостный и праведный, он, Эжен Варлен, которого через несколько минут растерзают и вобьют каблуками в землю…
Но нет, не скорой смертью было суждено умереть коммунару Варлену, мечтавшему о справедливом переустройстве мира! Кто-то сильным ударом трости сбил с его головы шляпу, и на лбу появился первый кровавый рубец. Следом кто-то швырнул в него пустой бутылкой. Она ударила с такой силой, что, если бы окружавшие пленника солдаты но поддержали Эжена, он упал бы. Бутылка попала прямо в лицо, выбила глаз.
На какие-то доли секунды это удовлетворило жестокость толпы, но выбитый глаз был виден не всем, стоящие вдалеке продолжали кричать:
– Смерть! Смерть!
Краснощекий лейтенант, видимо, еще не полностью овладевший искусством убивать подобных себе, испугавшись, что не сможет остановить ярость толпы, растерянно оглядывался. Он, конечно, знал, какая крупная дичь попала ему в лапы, какая его ждет награда. Или, может быть, боялся ответственности, если не остановит самосуда? К счастью, неподалеку показался еще взвод солдат, и лейтенант взмахом руки подозвал их. Эжена окружили плотной стеной.
И последний раз вскинув взгляд, уже смутно видя, почти не различая лиц, Эжен вэдрогнул и едва слышно спросил:
– Малыш? Ты?..
Да, в десятке шагов от него, в месиве багровых человеческих физиономии мелькнул разинутый в неслышном крике рот брата, побелевшие от ужаса глаза и губы. Что кричал Луи, разобрать было невозможно, ни одного слова. Эжен как будто различал мелькавший над головами людей костыль. Луи колотил по головам, по плечам, по всему, что попадалось под удар. И его тоже били и тащили куда-то появившиеся на шум жандармы! Гаснущим сознанием Эжен понимал, что Малыш пытается заступиться за него, сам лезет на верную гибель.
Последним усилием воли Эжен снова вскинул голову, и то ли ему почудилось, то ли он действительно услышал голос Луи:
– Бра-а-ат!
В эту минуту кто-то снова швырнул через плечи солдат чем-то жестким Эжену в лицо, и он потерял сознание.
А когда пришел в себя и глянул туда, где только что белело лицо Луи, там лишь колыхались ненавистные треуголки жандармов…
Толпа, окружавшая Эжена и его конвоиров, полностью запрудила улицу Лафайет, стоявшие вдалеке, чтобы лучше видеть, карабкались на карнизы домов и подоконники, влезали на стулья и столики кафе. Казалось, нет сил остановить толпу, остановить расправу над пленным.
Преодолев замешательство, лейтенант выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Крики стихли, вероятно, многие предполагали, что лейтенант просто убил Эжена, представление окончено и смотреть больше нечего.
Но Эжен Варлен все еще стоял на ногах, поддерживаемый солдатами с обеих сторон, по лицу его текла кровь.
– В чем дело? – возмущенно крикнул в лицо лейтенанту пожилой человек с серебряной звездой на груди. – Почему вы щадите негодяя?!
И, поднимая голос до крика, угрожающе размахивая пистолетом, лейтенант ответил:
– Категорический приказ генерала Галифе и адмирала Сиссе! Коммунаров расстреливать на том месте, где они восемнадцатого марта убили Лекоита и Клемана Тома! Я выполняю приказ моих командиров. В случае непослушания прикажу солдатам открыть огонь! Очистить дорогу!
Из толпы закричали:
– На Монмартр его! На pю Розье!
И кто-то подхватил с визгливым смешком:
– Да и рано убивать! Надо поводить! Помучить! На Монмартр его!
…Так исполнилось жестокое предсказание кюре Бушье. Через два долгих часа, проведя, протащив Эжена чуть ли не по всему Парижу, конвой и не отстававшая от него более чем трехтысячная толпа привели пленнику на вершину Монмартра. И здесь метрах в пятидесяти от дома номер шесть, на перекрестке улиц Лабонн и Розье, Эжена Варлена, совершенно обессилевшего, прислонили к стене и убили выстрелами в упор. И, уже лежа на земле, смертельно раненный, он приподнялся на локте и крикнул:
– Да здравствует Коммуна!
Бушье стоял на противоположной стороне улицы, и, когда все окончилось, лейтенант конвоя увидел и узнал его. Отпустив солдат, лейтенант подошел к Бушье, козырнул.
– Мосье! Я лейтенант шестьдесят седьмого линейного полка, моя фамилия Сикр. Я должен представить моему командиру рапорт о состоявшейся казни и прошу вас засвидетельствовать события рапорта. Не будете ли вы так любезны зайти со мной хотя бы в это кафе? Я не задержу вас…
Следом за лейтенантом Сикром Бушье вошел в кафе, молча присел к столику. В лице у него не было ни кровинки, и он не мог произнести ни слова.
Сикр попросил у владельца кафе чернила и, достав из своей походной сумки бланк рапорта, заказав стакан вина, принялся неторопливо, по-ученически старательно писать. Хозяин кафе поставил стакан вина и перед Бушье. Вино было цвета крови. Бушье невольно глянул в окно, – на той стороне улицы толпа вокруг неподвижного тела Эжена редела, кое-кто, проходя мимо, пинал мертвого ногой. Глянув почти с суеверным ужасом на стоявший возле его руки стакан, Бушье так резко отодвинул его, что стакан опрокинулся, и вино пролилось на стол.
– Не извольте беспокоиться, мосье! – готовно подскочил хозяин и принялся вытирать стол не особенно чистой салфеткой. – Прикажете повторить, мосье?
Бушье отрицательно покачал головой. Он пристально смотрел на перо лейтенанта Сикра, читая слово за словом, повторяя про себя, словно ему предстояло запомнить их на всю жизнь.
«Господин полковник!
Имею честь донести, что сего 28 мая, воспользовавшись разрешенным мне отпуском, я отправился в лазарет на улице Сен-Лазар, 90, навестить раненного 19 января с. г. офицера, капитана Дарио из Рокфиксада в Арьеже. На улице Лафайет ко мне обратился человек в штатском с орденом Почетного легиона в петличке…»
Перо лейтенанта Сикра перестало двигаться по бумаге, лейтенант отпил полстакана вина и спросил Бушье:
– Простите, мосье! Назовите ваше имя.
Бушье не ответил. Лейтенант Сикр с удивлением поднял на него взгляд.
– Ваше имя, мосье? Это нужно для рапорта. И вам, разумеется, полагается награда. И уверяю: довольно значительная! Итак, ваше имя, звание, адрес?..
Бушье молча, с видимым усилием встал и, спотыкаясь, пошел к двери.
Он переходил улицу, направляясь к остановившейся на той стороне телеге, куда трое солдат поднимали мертвого Варлена. Но вот щелкнул бич возницы, телега тронулась, зацокали о камень подковы першеронов. Бушье стоял неподвижно и смотрел вслед.
– Ну и дурак! – негромко сказал лейтенант Сикр, обмакивая в чернильницу перо. И продолжал писать:
«…и попросил задержать неизвестного мне человека, назвав его Эженом Варленом и заявив, что это – бывший член Коммуны. Мосье, не назвавший себя, присовокупил, что был в свое время по настоянию Варлена арестован и сидел в тюрьме, пока существовал гнусный режим разбойников Коммуны.
Я поспешил исполнить обращенную ко мне просьбу. Варлен, видя, что я направляюсь к нему и что его узнали, пытался скрыться в направлении улицы Кадэ. Я схватил его силой и повел до улицы Лафайет, где мне на помощь подоспело несколько вооруженных солдат 3-го линейного полка.
Крепко скрутив Варлену руки ремнем за спиной, я повел его под надежной охраной к дивизионному генералу Лявокуне на Монмартр… Но так как схваченный отказался отвечать на вопросы, по приказанию генерала я в сопровождении солдат повел арестованного к забору сада, где 18 марта с. г. были убиты доблестные генералы Леконт и Клеман Тома. Толпа в 3–4 тысячи человек, присутствовавшая при казни, одобрила ее криками „браво“.
С совершенным почтением к вам, господин полковник, ваш покорный слуга Сикр, лейтенант 67-го линейного полка…»
Да, рапорт обещал немалую награду, и лейтенант Сикр, поскольку отпуск у него не окончился, позволил себе выпить еще два стакана вина.
Когда он вышел из кафе, начинало темнеть. Распарываясь о шпили соборов, по небу ползли дымы пожаров, кое-где полыхало пламя, розовые отсветы плясали на стенах. Гремела музыка, и не уставали трезвонить колокола, – видно, добровольные звонари то и дело сменили друг друга…
Остановившись на пороге наполненного посетителями кафе, лейтенант Сикр с удивлением всмотрелся. На скамейке возле одного из домов на той стороне улицы неподвижно ссутулилась чья-то фигура… Неужели тот самый дурак, который отказался от награды за поимку одного из главарей коммунаров?.. Ну и ну!
ЭПИЛОГ
…И снова цвел май. Снова раскачивались в теплых струях ветра белые и розовые свечи каштанов, пылали в садах и скверах огненно-красные тюльпаны, с яблонь и вишен уже успел облететь цвет, но молодая, еще не опаленная летним зноем листва нежно зеленела.
Привычно опираясь на самодельную суковатую палку, когда-то заменившую ему сломанный костыль, Луи шагал рядом с Делакуром по знакомым улицам, с щемящей горечью всматриваясь в когда-то знакомые дома, в лица людей.
Да, города, как и люди, умеют забывать пережитые ими трагедии, заживают, зарубцовываются раны. Париж позабыл голод и нищету двух бесчеловечных осад, ужасы той «кровавой майской недели», приукрасился, похорошел. Засверкали свежей облицовкой израненные снарядами и пулями дома, сверкало золото и серебро вывесок, зеркально играли под майскими лучами нарядные, набитые снизу доверху витрины. И так же ворковали под карнизами крыш голуби, так же кокетливо смеялись девушки и так же играли на лужайках в металлические шары мужчины в разноцветных жилетах…
Луи и Делакур шагали молча, лишь изредка перекидываясь незначительными словами, которые не передавали и не могли передать и тысячной доли того, что этим людям хотелось сказать друг другу. Луи, два часа назад приехавший в Париж с Бискайского побережья, все не мог прийти в себя, а старина Делакур, хорошо понимая состояние товарища, не торопился ни с рассказами, ни с расспросами. Все придет в свой час, в свое время. Каждый из них возвращался памятью к незабываемым дням, к грозным событиям, отгремевшим три года назад на отих улицах, к дорогим – и невозвратным! – теням прошлого.
Делакур сосал неизменную трубку, к которой пристрастился с недавних пор, а Луи, ни на секунду не забывая о погибшем брате, с жадностью вдыхал воздух чистый и хмельной после трехлетнего мрака и смрада понтонов, где осталась погребенной часть его жизни…
Они шли по рю Риволи. И здесь все искрилось и сверкало. Париж вернул себе и звание и прелесть первого города, прекраснейшей столицы мира, созданной гением прославленных одиночек и миллионами рук безымянных тружеников, которым именно Коммуна стремилась дать возможность насладиться всеми радостями жизни. Что ж, Коммуна не устояла…
«Все вернулось на круги своя!» Лишь за коваными узорчатыми решетками Тюильри, где когда-то возвышалось помпезное обиталище властителей Франции, шелестела на расчищенном пепелище зелень недавно высаженных молодых деревьев… «Да, город не изменился, но мы-то стали другими, – думал Луи, поглядывая по сторонам. – И я сам, и шагающий рядом со мной старина Делакур, и многие, многие другие… Дни Коммуны и трагические дни ее гибели не моли пройти для людей бесследно, на каждом сердце они оставили неизгладимую печать. В нас живет вера в будущую Коммуну с ее благородными мечтами и делами…»
Делакур, покуривая, украдкой присматривался к Луи, наблюдал за его отражениями в зеркальных стеклах витрин и распахнутых настежь дверей и до сих пор не мог прийти в себя от изумления, пережитого два часа назад, когда Луи перешагнул порог переплетной мастерской Делакура. Раньше, при жизни Эжена, Делакур не замечал поразительного сходства во внешности братьев, но теперь, когда Луи оброс бородой и черные кольца волос, с такой же, как у Эжена, ранней проседью на висках, прикрыли уши и шею, сходство стало пугающе неправдоподобным. После стука в дверь и ответного «Не заперто! Входите!» и Делакур, и Мари, сидевшие с дочками за завтраком, вскочили с места, словно на пороге их убогого жилья появилось привидение.
– Эжен! – крикнул Делакур.
И Мари, словно эхо, повторила за мужем шепотом:
– Эжен?
Они оба не видели, как убивали Эжена на улице Гозье, не знали, куда исчез Луи, – их потрясение было совершенно объяснимо.
И только тогда, когда Луи сделал два шга своей характерной, ковыляющей походкой, Делакур понял, что он и Мари обознались… Но и теперь, идя рядом с Луи, Делакур нет-нет да и поглядывал на своего спутника с чувством почти суеверного недоверия.
Они шли к дому мадам Деньер: Катрин продолжала жить и работать у нее, там же хранились спасенные Лун три года назад кое-какие документы Эжена и дневники самого Луи. Их надо было вызволить оттуда любой ценой, да и Катрин после возвращения Луи вряд ли захочет остаться там. Хотя кто знает, судьба и время иногда так резко меняют людей, их привычки, привязанности, убеждения! Может, за годы тюремных понтонных скитаний Луи Катрин успела превратиться во вполне современную парижскую девушку, тем более что, по словам Делакура, она стала на редкость хороша, «расцвела, ну прямо что твоя роза!»
Сидя за завтраком у Делакуров, Луи ни словом не обмолвился о своих чувствах к девушке-озорнице из провинциального Вуазена, а Делакур, хотя кое-что знал о прошлом семьи Варленов, не решался касаться деликатных тем. Ведь кто может угадать, как обернется дальше! Сам Делакур уволился из мастерской Деньер в прошлом году, когда Клэр вышла замуж за владельца одной из крупнейших типографий Парижа. Супруги объединили свои капиталы и дела, а Делакур, хотя и был искренно благодарен Деньер за то, что она спасла ему жизнь, уберегла, укрыв в своем доме от расправы, предпочел уволиться и сейчас брал работу на дом, где дочки и Мари по мере сил помогали ему…
Минован Лувр, друзья перешли по одному из мостов на левый берег Сены, ни о чем не сговариваясь, дошагали до рю Лафайет.
Сквер с мраморной чашей фонтана, где резвились фавн с дудочкой и улыбающаяся пастушка, существовал по-прежнему, но его недавно отремонтировали, фигурки пляшущих зачем-то покрыли серебряной краской. И та скамейка, на которой тогда сидел Эжен, стояла на прежнем месте, но и ее окрасили в ярко-зеленый цвет – сиденье и спинка сливались с разросшейся кругом листвой жасмина и акаций.
Луи остановился возле скамьи и долго молча смотрел на нее, на струи фонтана, на катающих разноцветные обручи нарядных девочек и их чопорную няню в туго накрахмаленном чепце, прятавшую седые букольки под желто-розовым зонтом.
– Это началось здесь, – глухо сказал Луи. Делакур молча кивнул.
– Я увидел их еще издали, – с усилием продолжал Луи. – Эжен разговаривал с каким-то пожилым мосье, но я не успел подойти. Они оба встали, и Эжена тут же окружили солдаты и моментально вокруг собралась толпа. Я кричал, рвался, кого-то ударил костылем по голове, меня схватили, а так как я продолжал сопротивляться, запихнули в тюремную карету… Потом жандармы узнали, да я и не скрывал этого, что я брат Эжена Варлена и одно время работал при Коммуне в Ратуше. Осудили и отправили на понтоны…
Площадку перед скамейкой недавно посыпали желтым песком, на нем отчетливо печатались следы детских башмачков и полоски от обручей.
– Здесь я видел его последний раз! – глухо сказал Луи, не в силах тронуться с места. – Вы знаете, Альфонс, он очень любил Беранже, особенно вот эти строки: «И нам улететь бы к теплыни, туда, где не зябнут зимой… морозами изгнаны ныне, вернутся все птицы весной»… Нет, не все птицы вернутся…
Делакур видел, что Луи готов разрыдаться, с грубоватой лаской и силой взял его под руку:
– Ну, ладно, Малыш! Эжен любил еще и такие слова своего тезки Эжена Потье: «Любви и равенства давно все ждет, все алчет, голодая! Но в землю брошено зерно, и жатва вызреет тройная!» Давай не терять веры!
Дом Деньер был недавно и роскошно отремонтирован, на фронтоне появились лепные украшения, над входом – фигурный, напоминающий корону стеклянный козырек в позолоченной оправе, и даже когда-то бронзовый молоток оказался позолочен. Луи невольно вспомнил робость, с которой три года назад прикасался ладонью к этому молотку. Что ж, спасибо мадам Деньер за то доброе, что она сделала для него, спасибо за спасенные документы Эжена, спасибо за Катрин. Сочувствие и сострадание, оказанные тебе в горестные, трагические дни, – разно их можно забыть?!
Постучал Делакур. Шагов за дверью не было слышно, но тяжелая, окопанная по краям бронзой дверь распахнулась сразу, словно за ней только и ждали этого стука.
На Катрин было отделанное кружевами платье и изящный фартучек, из тех, что обычно горничные носят в богатых и так называемых приличных домах. Она открыла дверь с заученной приветливой улыбкой, обрадованно поклонилась Делакуру, но вдруг увидела Луи, и лицо ее застыло, она ухватилась рукой за косяк двери. Нет, ее не обманула изменившаяся внешность Луи, может быть, потому, что в первую минуту она видела только его глаза, а в них отражалось все, что их когда-то сближало, делало дорогими друг другу. В выражении глаз Луи сквозила такая несказанная нежность и в то же время робость, вопрос, надежда, что оторваться от них было невозможно.
В глубине дома раздался властно-ласковый голос Клэр:
– Катрин! Ты не позабыла подозвать карету? Нам с Проспером пора.
И Луи увидел на лестнице мадам Клэр. Чуть касаясь перил, она спускалась по лестнице, а следом за ней шел мужчина с лихо закрученными нафиксатуареннымн усами и с тем выражением властности, важности и довольства на лице, которое присуще только богачам. На Клэр – темно-лиловое бархатное платье, на пышной груди – драгоценные украшения. Полуобернувшись к мужу, она что-то говорила, кокетливо и лукаво смеясь. Мадам мало изменилась за эти годы, только стала немного полнее.
Но вот Клэр, не слыша ответа онемевшей Катрин, глянула вниз и в ярко освещенном солнцем проеме двери увидела за спиной Делакура… Эжена!
Покачнувшись, она ухватилась обеими руками за перила, губы ее шевельнулись, произнося неразличимые слова.
Делакур шагнул через порог.
– Вы уж извините, мадам Денвер, – снимая шляпу, но, как всегда, с решительной грубоватостью сказал он. – Вот Луи когда-то оставил у вас кое-какие свои вещи. Он отбыл присужденный ему срок и хотел бы…
– Луи?!
Клэр истерически рассмеялась, растерянно оглянулась на мужа. Тот, отстранив жену, первым спустился в прихожую, с пристальной ненавистью всматриваясь в Луи.
– Если вас интересует судьба вашей малограмотной писанины, так я вам сейчас все объясню. Скажите спасибо, что я не передал те бумажонки в полицейское управление или еще куда. В этом случае вы не выбрались бы из тюрьмы так скоро! Благодарите за это мою жену! Но вы, кажется, и так получили достаточно увесистую оплеуху?! Я обнаружил вашу пачкотню при ремонте и перестройке дома и попросту приказал уничтожить этот хлам. И больше мадам ничем не может быть вам полезна. – Он с требовательным видом повернулся к Катрин:
– Вас просили подозвать карету. Где она?
Не отвечая, Катрин торопливо, отрывая пуговички, стаскивала с себя кружевной передник. Аккуратно повесив его на перила лестницы, она, не глядя ни на Клэр, ни на ее мужа, выбежала на улицу, обхватила Луи зa шею.
– Я знала… знала, ты обязательно вернешься!..
Через полчаса они сидели в «Мухоморе», кабачке дядюшки Огюстона, в полутемной задней комнатке, выходившей окном на кирпичную стену. Выпроводив завсегдатаев, заперев дверь и не отвечая ни на стук, ни на звонки, Огюстен угощал нежданных гостей, чем мог, жадно слушая рассказы Луи о том, что творилось на понтонных тюрьмах. И сам рассказывал то, что знал о судьбе коммунаров – и тех, кого казнили или сослали, и тех, кому удалось укрыться за границами Франции.
Катрин неотрывно смотрела на Луи, не выпуская его руки из обеих своих, словно все еще не веря происшедшему, глаза ее заволакивало слезами то радости, то жалости и сострадания.
Голос Луи огрубел за эти годы и как бы обрел силу, но говорил Луи медленно, не торопясь, видно было, что пережитое уже отболело, стало привычным, потеряло остроту. И рассказывал он скупо и неохотно.
– Да, понтоны эти – списанные с судоходства барки и баржи, проржавевшие и полусгнившие, которые уже опасно пускать в море. Брошенные хозяевами у берегов Бискайского залива, поставленные на мертвый причал, их за бесценок скупило правительство Тьера и затем сменившего его Мак-Магона. И – превратило в тюрьмы. Да и что им оставалось делать, палачам Коммуны? Все, и большие, и маленькие, бастилии Франции, от Марселя до Гавра были набиты битком, а расстреливать без конца тоже стало немыслимо, ведь они пролили реки крови… Вот и нашли выход, откупили или сняли в аренду у бывших владельцев списанные с морей за ветхостью суда…
– Ты ешь, Луи, ешь! – подкладывал на тарелку Огюстен. – Небось пришлось изрядно поголодать?
Луи с нежностью и тревогой глянул на сидевшую рядом Катрин.
– Может, дядя Огюстен, не стоит ковырять старые болячки, а?
– Э, нет, Малыш! – решительно возразил Делакур, набивая трубку. – Необходимо, чтобы народ знал всю правду! И мы не какие-нибудь христосики, чтобы следом за одной исхлестанной щекой подставлять другую! Рассказывай, дружище, рассказывай! Какие же они, эти понтоны?