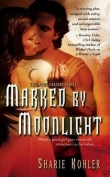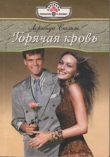Текст книги "Последний день жизни. Повесть о Эжене Варлене"
Автор книги: Арсений Рутько
Соавторы: Наталья Туманова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
– Ах, дорогой Толон! – рассмеявшись, воскликнул Маркс. – Вы, видимо, полагаете, что до царственных ушей дошла проповедь Прудона и Баденге внял ей?! И снизошел к народным бедам, стал добреньким? Нет! Просто трон под ним слишком уж сильно заскрипел, зашатался! Вот и все! Он и швырнул вам косточку: радуйтесь, мусольте ее, господа прудонисты! Вы одержали величайшую победу!
И Маркс снова засмеялся, горько и укоризненно.
– Нет, дражайший Толен, вы скоро увидите: Баденге придумает какую-нибудь спасительную для него штучку, вроде очередной военной авантюры. Придумает Франции нового внешнего врага, пририсует ему рога и копыта, и вы все сломя голову броситесь защищать нацию, а значит, не только себя, но и Шнейдеров и самого Баденге! Маленькое кровопускание никогда не повредит великому народу, – говаривал некий скорпион в министерском мундире. Что ж, неплохо придумано! О да, на вас напялят военную форму, и вы броситесь на всякого, кого вам подставят, броситесь с воинственным кличем: «За императора, за отечество!» А за что сейчас умирают французские ребята в Мексике, в Индостане, в Алжире, в Китае? Вы полагаете, что Баденге и правда надеется возродить былое военное величие Франции своими бездарными походами? Э, нет, дорогой Толен, это лишь то самое «маленькое» кровопускание, на которое уповал Талейран. Не более того! А удушение героической Итальянской республики, – вы и эту подлость простили усатому узурпатору? Ну вы поистине добрейшая душа, достойный последователь Пьера-Жозефа!
Чуть заметно покрасневший Толен поднял было руку, но Маркс жестом остановил его:
– Одну минутку, Толен! Я ответил еще не на все ваши вопросы! Ах, вы добьетесь разрешения рабочих собраний? А на каждом таком собрании разве не будет сидеть десяток шпиков или даже, быть может, переодетых жандармов? За малейшую хулу на императора или членов его августейшей семейки, на его политику вам будут давать такую оплеуху, что вы не скоро очухаетесь! Разрешат газеты? И будут душить им горло цензурной гарротой! Нет, господа, видно, не настала для вас пора прозрения от слепоты прудонизма!
И рассерженный Мавр ожесточенно притиснул к пепельнице на столике недокуренную сигару.
– Я просто поражаюсь, глядя на вас, прекраснодушные политические деятели: ведь даже женщины порой стоят ближе к революционной истине, нежели вы! – Из бокового кармана сюртука Маркс извлек небольшую книжечку. – Однако, предвидя некоторые из ваших возражений, я, друзья, отправляясь на сегодняшний вечер, захватил с собой написанную мной около двадцати лет назад «Нищету философии». Мне хочется напомнить, что я заканчиваю ее цитатой из романа вашей соотечественницы Жорж Санд! Эта умная женщина, которой я когда-то имел честь преподнести сию книжицу, кончает свой роман «Ян Жижка» мудрыми словами: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса!» Каково сказано, а?! И я с ней совершенно согласен, она гораздо дальше ушла по дороге революции, чем вы, господа прудонисты!
Маркс достал из жилетного кармана часы, мельком глянул на циферблат и перевел свой взгляд на Лауру.
– Кажется, нам пора, дочка? Поищи-ка, пожалуйста, где наши? – И когда Лаура, кивнув, ушла, снова обратился к французским друзьям – А разговор мы продолжим у меня дома. Первого октября приглашаю вас к себе на скромный семейный обед. Сознайтесь, многие из вас даже не разворачивали мою книжку лишь из предубеждения, лишь из любви к Прудону. Угадал, да?!
Варлен невольно подумал: «А он весьма проницателен, этот ученый Мавр! Верно определил и наше теперешнее состояние, и прошлую боязнь полемизировать с Прудоном! И все же сейчас я не могу отказаться от учения моего незабвенного учителя, не могу так легко, после одного разговора с Марксом, предать то, во что верил всю мою сознательную жизнь!»
Маркс передал свою книжку Толену, но Эжен в тот же вечер взял ее у него, ночью дважды внимательно перечитал и многое передумал над ее страничками. У него перед глазами стояли последняя встреча с учителем незадолго до его смерти, похороны и речь Эжена Потье над разверстой могилой, – все так памятно, так живо, словно он пережил это лишь вчера. Да, кощунственно восставать против учителя после его смерти, когда он лишен возможности защищаться и привести в доказательство своей правоты новые аргументы! И в то же время нельзя не признать убедительности доводов доктора Маркса. И с тем большим нетерпением Эжен ждал обеда, на которыл был цриглашеп.
Два дня до встречи в семье Маркса Варлен провел во всевозможных хлопотах. Бродил по книжным магазинам, кое-как объясняясь, покупал нужное, в одном букинистическом магазине купил и «Нищету философии». Ему хотелось поскорее вернуться в Париж и у себя дома, в спокойной обстановке своей мансарды, положить рядом две социально-философские работы: «Философию нищеты» и «Нищету философии», свести их в жестоком поединке.
Обед у доктора Маркса был и правда весьма скромен – ни изысканных блюд, ни дорогих вин. Но Эжен всегда был равнодушен к материальной стороне жизни. Ею мучили сомнения, он спрашивал себя: так что же, Маркс – последователь и единомышленник Огюста Бланки, который считает, что лишь при помощи за говоров и цареубийств народ в лице его лучших представителей может прийти к власти? И у него на языке вертелось множество вопросов, которые не терпелось задать Марксу.
Когда он постучал бронзовым молотком в дверь его квартиры, ему открыла Лаура, в ее милых зеленовато-темных глазах вспыхнула улыбка.
– Я рада видеть вас! Вы, наверно, всегда и всюду чуточку опаздываете? Уже явились и Юнг, и Беккер, и Де Пап, и большинство из ваших. И опять, как обычно, ведутся страстные политические дебаты. Наш дорогой Мавр нe в силах отказаться от благородной идеи переделать этот несовершенный мир на свой лад. И я всецело на его стороне!
Лаура взяла у Эжена трость и шляпу, а он не удержался, чтобы не ответить в тон ей:
– Да, я вижу, мадемуазель Лаура, что вы изо всех сил помогаете доктору Мавру в его труде и тоже как будто не щадите сил!
– А что делать мне, если я верю своему дорогому Мавру так же, как вы верите Прудону, а?!
Он не успел ответить на ее язвительный вопрос – дверь в комнаты распахнулась, и на пороге появилась девочка лет десяти, в светлом платьице, выражением глаз и улыбкой напоминавшая Лауру.
– Познакомьтесь, мосье Эжен, наша шалунья, моя сестрица Элеонора, она же – Тусси. Ведь ты позволишь нашему гостю называть себя так, Тусси?
Чуть чопорно, подхватив пальцами подол платьица, девочка присела.
– Если мосье Эжену угодно меня так называть, пожалуйста, я и для него – Тусси! А ты – Какаду! И – Птичий глаз!
Обе они рассмеялись, рассмеялся и Варлен, но, слыша громкие мужские голоса за дверью, заторопился. Хотелось поскорее попасть туда, послушать, по выражению доктора Маркса, «звон скрещивающихся шпаг».
Бродя но книжным магазинам, Варлен задержался, – и Толен, и Бенуа Малон, и Лимузен уже были здесь.
Не желая прерывать беседы, он поклонился от двери общим поклоном, а Лаура, осторожно взяв его за руку, провела и усадила на свободное место в торце стола. Немолодая женщина, позднее Эжен узнал ее имя – Елена Демут, придвинула ему тарелку, положила из большого блюда цветной капусты и спаржи, кусочек бекона, придвинула бокал.
Лаура присела рядом с Варленом, спросила шепотом:
– Что будете пить, застенчивый мосье Эжен?
– Все равно…
– Так я и полагала…
Говорил, обращаясь преимущественно к Толену а Малону, доктор Маркс:
– Дело объясняется крайне просто, друзья! Династия Бонапартов представляет не революционного, а консервативного крестьянина, не деревенское население, стремящееся собственными силами, наряду с городами, ниспровергнуть старый порядок, а деревенское население, которое, наоборот, тупо замыкается в отжившем старом порядке и ожидает спасения и преимуществ для себя и своей парцеллы от призрака Империи. Династия Бонапартов представляет не просвещение, а суеверие крестьянина, не его рассудок, а его предрассудок, не ею будущее, а его прошедшее, его современную Вандею! Вот чего не понимал и не хотел ни понимать, ни видеть Прудон!
Вопросительный и одновременно иронический взгляд Маркса скользнул по лицу Варлена.
– Прошу прощения, господа, – чуть поклонился он остальным. – Я рад приветствовать за своим столом еще одного защитника проповедей Прудона, мосье Эжена Варлена! И сейчас позволю себе ответить ему на угадываемые в его глазах вопросы словами самого же Прудона. – Маркс встал, отступил шагов пять в глубину комнаты, к книжному шкафу, взял с полки зеленую папку и, полистав ее, достал сложенное вчетверо письмо. – Дорогой Варлен! Прошу именно вас внимательно послушать, что написал мне много лет назад ваш учитель. Читаю: «Я исповедую теперь почти абсолютный антидогматизм в экономических вопросах. Не нужно создавать хлопот человеческому роду идейной путаницей: дадим миру образец мудрой и дальновидной терпимости; не будем разыгрывать из себя апостолов новой религии, хотя бы это была религия логики и разума. Я предпочитаю лучше сжечь институт частной собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, устроив Варфоломеевскую ночь для собственников…» Вот так писал мне мосье Прудон. Попытаемся перевести данные призывы на обыкновенный человеческий язык. Под Варфоломеевской ночью для собственников Прудон безусловно разумеет революцию и со всей своей апостольской страстностью предостерегает: не нужно! Нельзя! Табу! И далее пишет: «Попутно я должен сказать вам, что намерения французского рабочего класса, по-видимому, вполне совпадают с моими взглядами». – Маркс сложил мелко исписанные листочки. – Вот так. А я позволю себе усомниться, что рабочий класс нынешней Франции предпочитает кабалу и рабство истинной свободе, империю насильников – народной республике. Не так ли, дорогой Варлен?
Эжен чуть растерялся от прямо обращенною к нему вопроса, но запальчиво спросил:
– Значит, прав Бланки?! Значит – заговоры, восстания, убийства из-за угла, насилие против насилия, да?
Маркс ответил не сразу, внимательно рассматривая Варлена из-под крутых и чуть тропутых сединой бровей.
– Огюст Бланки! – задумчиво, с уважением и с какой-то странной печалью протянул он, садясь и придвигая к себе бокал белого вина. – О нет, дорогой Варлен! Бланки – цельная и могучая душа, человек неиссякающего стального мужества! Вся его жизнь – беспрестанный подвиг. Я помню его в Париже весной сорок восьмого года, мы с женой и дочерьми тогда жили там. Париж бурлил, ликовал, праздновал: только что свершилась революция. Луи-Филипп, а за ним Гизо и герцогиня Орлеанская бежали в Англию. Всегда великодушный в дни своих побед французский народ не препятствовал их бегству. И вот тогда, в один прекрасный солнечный день, на площади Согласия я увидел Бланки. Он был предельно изнурен, измучен, его только что привезли в Париж из тюрьмы-крепости Мон-Сен-Мишель, где он отбывал пожизненное заключение, заменившее ему смертную казнь, к которой его приговорили судьи «короля-гражданина» Луи Филиппа за попытку неудавшегося восстания тридцать девятого года. Напомню и вам, Эжен, и вам, господа, что, выйдя на свободу, Бланки уже не застал в живых ни жены, ни единственного ребенка! Это ли не величайшая человеческая трагедия?! – Маркс опять пристально посмотрел Эжену прямо в глаза. И продолжал: – Нет дорогой Варлен, я не могу сказать об Огюсте Бланки ни одного плохого слова! Это – безупречный рыцарь революции, проносящий ей в жертву все самое дорогое, что у него есть! – Задумчивым взглядом Маркс обвел сидевших за столом. В этом взгляде необъяснимо сочетались и уважение, и грусть, и жалость. Но когда Маркс заговорил снова, в его голосе уже не было даже оттенка этих чувств. – И все же Бланки не прав! – убежденно и с силой сказал он. – Победоносные революции могут быть свершены не заговорщиками в таинственных черных масках, с кинжалами под полами истрепанных плащей. Да, да! Подлинно победоносные революции совершается пародами. И – только народами! Если за спиной любого самоотверженного и честнейшего вождя не стоит народ, любой заговор, любое восстание, даже если оно называет себя революцией, неизбежно обречено на трагическую гибель. Такова неумолимая логика истории, которой, увы, не разумел достопочтенный Прудон… Не понимает этой беспощадной логики и Огюст Бланки. И благодаря этому его героические, заслуживающие всяческого уважения усилия и принесенные им жертвы – все – впустую! Нет, друзья, у народных революций другой путь…
Потом разговор перекинулся на женский и детский труд, распространенный по всей Европе и повсюду – преступно ужасный. Доктор Маркс слушал не перебивая говоривших, едва слышно барабаня пальцами по краям стола. Елена Демут угощала кофе. Наконец, когда все высказались, Маркс вздохнул устало и тяжко, словно сам сию минуту отошел от неумолимо вращающегося прядильного колеса.
– Для книги, которую я сейчас пишу, – сказал он, – мне пришлось переворошить уйму материалов. И должен вам сказать, что детский труд – самое позорное явление нашего низкого века, и первейшей задачей подлинно народной революции будет уничтожение этого варварства… И мне понятно, почему этот вопрос вы так остро ставите перед собой… А я назову вам несколько цифр, почерпнутых мной здесь, в великой, могучей и процветающей Британии! В прошлом веке дети в Англии начинали работать с четырех и пяти лет! Да, да, мосье, с четырех и пяти! Городские власти обязывались отнимать детей у родителей и следить, чтобы дети не покидали стен мануфактур. В Германии и Австрии, замечу попутно, правительство выдавало премии владельцам мануфактур за каждого работавшего ребенка. И работали дети по тринадцать-четырнадцать часов в сутки, жили в ужасных условиях, смертность была поистине чудовищной! Вот так, дорогие собеседники. И сие зло, сия подлейшая язва может быть излечена лишь той социальной революцией, о которой мы мечтаем и за которую боремся, а не мирными прудонистскими соглашениями с кровососами!
И последнее, что запомнилось Варлену в тот день, – коротенький разговор с Лаурой, сидевшей за обедом рядом с ним. Он сказал ей:
– Ваш Мавр, мадемуазель, проявляет подчеркнутый интерес к моей родине, к Франции. Почему? Ведь его волнуют проблемы революционного движения всей Европы и Америки, всего мира.
– Сейчас я вам покажу объяснение, – шепнула Лаура, вставая. Отошла к одному из книжных шкафов и через минуту вернулась с уже тронутым желтизной листком бумаги. На нем было крупно напечатано: «Временное правительство Французской республики. Свобода, Равенство и Братство. От имени французского народа.
Париж. 1 марта 1848 года.
Мужественный и честный Маркс!
Французская республика – место убежища для всех друзей свободы. Тирания Вас изгнала, свободная Франция вновь открывает Вам свои двери. Вам и всем тем, кто борется за святое дело, за братское дело всех народов!
Привет и братство!
Фердинанд Флокон».
И, улыбаясь своей всегдашней улыбкой, Лаура спросила:
– Это что-то объясняет вам, Эжен?
Вместо ответа он с глубоким уважением поцеловал ей руку.
НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ
Луи не возвращался в дом Денвер более трех суток – все не терял надежды отыскать брата или хотя бы что-то узнать о нем. Ему, ковылявшему от баррикады к баррикаде, с улицы на улицу, из одного округа города в другой, никто не чинил препятствий: ну что спросишь с убогого, да к тому же, судя по выражению лица, потерявшегося от горя? На Луи лишь косились с состраданием или брезгливой жалостью, а одна сердобольная старушка, проходя мимо, сунула ему в карман печеную картофелину. Ночью Луи сжевал ее без соли, не очистив от кожуры.
Он и сам не понимал, откуда брались силы, но бродил и бродил, словно лунатик, лазил по разгромленным баррикадам, переворачивал там и тут трупы, смотрел в мертвые, застывшие лица—«Не он! Слава богу! Не он!» – и отправлялся дальше, к другому месту побоища. А такие моста попадались через каждые сто – двести метров, на любой улице, на любом бульваре, на всех площадях.
И лишь с наступлением ночи, в багровой дрожащей полутьме, Луи не ложился, а буквально падал на скамью в попадавшемся на пути бульваре или парке, пытаясь уснуть. Так он провел первую ночь в парке Монсо, вторую – на кладбище Монмартр, где кованые чугунные ворота оказались распахнутыми настежь и будка привратника разнесена снарядами вдребезги, а третью – в безымянном садике – сам не запомнил где.
Но и на предельно измученного на него по ночам не снисходили забытье и милосердие сна, не снисходили лишь потому, что его не покидало, да и не могло покинуть, чувство бесконечной тревоги за Эжена, – она не оставляла его и во сне. Правда, в каком-то дальнем закоулке души теплилась надежда, что, побывав на pю Лакруа, Эжен получил записочку с именем Клэр, оставленную Луи их давнему другу владельцу кафе «Мухомор». Следовательно, необходимо сохранить силы, чтобы наведываться к Деньер. Да, да, пусть изредка, но обязательно нужно заходить туда, тем более что именно там в холщовой сумке хранятся драгоценные для Эжена документы, а Луи не считал себя вправе решить, как с ними в конце концов поступить.
Ночами он лежал на жестких садовых скамейках, уставясь неподвижным взглядом в небо. Там, в небе, будто колебля черные узоры древесной листвы, бесконечной чередой катились пепельно-белые, окрашенные понизу красным облака. В ветвях пронзительно и жалобно кричали птицы, кружась возле разрушенных гнезд.
Ноги Луи, отекшие за голодное время осады, опухали все больше. В довершение несчастий на развороченной снарядами площади Сент-Августин он оступился и подвернул ногу – даже с тростью ходить стало нестерпимо больно. Эту довольно дорогую и модную, инкрустированную перламутром трость брат купил Луи в день его рождения полгода назад, вскоре после возвращения из бельгийских скитаний. Вручая ее, Эжен не особенно весело пошутил: «Ну, теперь ты, Малыш, можешь при случае бахвалиться, будто ранен прусским штыком или саблей, скажем, под Седаном или Мецем! Эдакий заслуженный имперский вояка, а?! Не хватает только гвардейских шевронов да военных медалей на груди, а так маскарад – полный!»
О шутке брата Луи не раз вспоминал в эти дни в своих безрезультатных поисках. Чувствуя под ладонью костяной набалдашник трости, он как бы ощущал рядом Эжена, и это вселяло уверенность, что тот жив, что они обязательно встретятся. И они действительно встретились, но рассказ об этом – путь позже…
Под вечер третьего дня вторжения на улице Риволи зажигательный снаряд ударил недалеко от Луи в стену, и сбитой с фасада гипсовой статуей какой-то греческой богини убило ковылявшего внизу старичка. Костыль его взрывной волной отшвырнуло в сторону.
К этому времени Луи достаточно насмотрелся на картины смерти, сердце перестало отзываться на них, словно окаменело. Самого его в тот раз не задело ни осколками снаряда, ни обломками стены; стоя в подъезде, он долго не трогался с места, глядя на убитого. Тот не подавал никаких признаков жизни, а костыль, на который Луи так жадно посматривал, валялся шагах в пяти. Переждав, пока осели пахнувший керосином дым и кирпичная пыль взрыва, Луи подошел к убитому.
Старикашка оказался одним из тех наполеоновских ветеранов (уж не тот ли это вояка, бушевавший в «Лепестке герани»?), которые всего восемь дней назад, при свержении наполеоновской Вандомской колонны, когда лопнули канаты кабестана, вопили, исступленно ликуя: «Стой, Цезарь! Держись, император!» А через час по-старчески бессильно рыдали, когда новые канаты опрокинули основательно подрубленную громадину колонны на песчаную подушку и когда отколовшаяся при падении бронзовая голова их кумира, их поверженного идола с глухим мертвым звоном покатилась по мостовой. О, наполеоновские ветераны ненавидели Коммуну, пожалуй, не меньше, чем Тьер и его версальская свора!
Торопясь, пока пламя не охватило полуразрушенный дом, Луи отошел от убитого и подобрал костыль: мертвому он никогда больше не понадобится. До блеска отполированный ладонями ветерана, украшенный крупными позолоченными буквами «Н», костыль оказался Луи немного коротковат, но все же с его помощью было несравненно легче передвигаться. Трость практически стала Луи не нужна, даже просто мешала, но бросить подарок Эжена, конечно, не поднималась рука. Придется отнести ее, припрятать где-то, вероятнее всего – у мадам Деньер.
С невольной благодарностью покосившись последний раз на убитого вояку, Луи побрел дальше. Куда? Он и сам но знал. Круг его поисков стремительно сужался: в первый день вторжения версальцы захватили близкие к воротам Сен-Клу аристократические кварталы Отей и Пасси, где их встречали как долгожданных гостей, заняли Гренель и Батиньоль, затем коммунары вынуждены были оставить Монпарнас и пролетарский Монмартр, а также значительную часть Латинского квартала и правобережье центра.
Луи останавливал каждого попадавшегося ему навстречу национального гвардейца, кидался к тем, на чьих кепи серебрились офицерские галуны.
– Где Эжен Варлен, командир Шестого легиона? Вы не видели Эжена Варлена? – без конца спрашивал он – Где Коммуна и штаб Центрального комитета?
Иные отмахивались от него, спеша по своим делам, другие хмурились, подозревая в нем версальского лазутчика, – они наводнили Париж еще до начала штурма. Один старый бородатый гвардеец с испятнанной кровью повязкой на шее даже замахнулся и чуть не ударил Луи кулаком по лицу.
– А тебе зачем понадобилась Коммуна и штаб, шпик проклятый?! – крикнул он с такой яростью, что Луи отпрянул.
– Я шпик? Я?! – с возмущением и растерянностью переспрашивал он еле шевелящимися губами. – Да разве я…
Но бородатый не дал договорить.
– А это что?! – рявкнул он, ткнув штыком гласно в позолоченпую букву «Н» на костыле. – Ишь вырядился под пролетария, продажная шкура! Из-за вас, сволочей, она и гибнет, наша Коммуна! Скажи спасибо своему увечью, а то прикончил бы тебя к чертовой матери! У-у, тварь!
И, плюнув на стоптанный башмак Луи, гвардеец побежал к баррикаде, над которой еще развевался красный флаг.
Дрожа и чуть не плача от незаслуженной обиды, Луи доковылял до мраморной чаши небольшого фонтанчика, присел на ее край и, кривясь от боли, сначала пальцами, потом зубами принялся сдирать с костыля проклятую наполеоновскую эмблему. И, наконец отодрав, отшвырнув в сторону, оглядел костыль. А что ж, по совести говоря, гвардеец мог по такой улике заподозрить в Луи вражеского шпиона. Кто-то вчера рассказывал на баррикаде у Мадлен, как попы и монашки сигналят фонариками с церковных колоколен в сторону врага.
Парижские фонтаны пересохли давно, с начала прусской осады, еще до войны Коммуны с версальцами, но вчера прошел дождь, и на дне мраморной чаши, на краю которой примостился Луи, застоялось тусклое, припыленное озерцо воды. В нем лежали сорванные пулями ветки каштанов, белели увядшие лепесткя облетевшего цветка. Нагнувшись, Луи не смог дотянуться до воды рукой пришлось опуститься на колена. Вода была грязная и теплая, прогретая солнцем, но он с жадностью сделал глоток, зачерпнув воду ладонью, потом обильно смочил лоб и щеки. Покосившись на прислоненный рядом костыль, подумав, наскреб с земли горсть пыли и образовавшейся в ладони грязью старательно затер след содранной с костыля эмблемы.
– Луи?! – обрадованно крикнул кто-то позади. Вздрогнув от неожиданности, Луи узнал голос Жюля Валлеса. С быстротой, какую позволяли усталость и больная нога, он обернулся и встал.
Да, с тротуара к фонтанчику бежал один из близких друзей Эжена Валлес, тоже член Коммуны, редактор газеты «Крик народа», писатель, книги которого Луи любил и неоднократно перечитывал. Сейчас Валлес был в форме командира батальона, поверх мундира сбился на сторону красный шарф с золотыми кистями. На тротуаре за его спиной остановилось с полусотни гвардейцев.
– Ты ранен, Малыш? – крикнул Валлес. Опираясь на трость и костыль, Луи шагнул навстречу:
– Нет, гражданин Валлес! Но моя проклятая нога… Где Эжен?
– Ночью мы расстались с ним в Ратуше… Он жив, жив, успокойся! Но ты видишь, что творится! Враг наступает повсюду, и, подчиняясь приказу Делеклюза, мы рассредоточили силы по округам. Боюсь, не ошибка ли это?..
– Но где сейчас Эжен, где?
– Не знаю, Малыш, не знаю. Как члену Военной комиссии, ему приходится поспевать всюду. Ночью, если натупит затишье, Коммуна соберется в здании Пантеона. Мы должны находиться возможно ближе к линии боя.
У баррикады вспыхнула чуть было притихшая перстрелка, и кто-то из гвардейцев позвал с тротуара: – Командир Валлес!
– Иду! – крикнул через плечо Валлес. – Прости, Малыш! Я передам Эжену при встрече, что видел тебя!
– И еще скажите ему: на рю Лакруа, в кафе «Мухомор».
– Скажу! Держись, Малыш! И верь: последнее слово Коммуны не сказано!
И батальон Валлеса, вернее, его остатки бросились к баррикаде, защищавшей перекресток. Луи видел, что там секундой раньше упал скошенный картечью красный флаг, и какой-то парнишка, подхватив его, карабкался на гребень баррикады, чтобы снова укрепить знамя.
Луи с горечью смотрел вслед Валлесу: неужели и его убьют? Он любил книги Валлеса, где было много понятного и близкого ему, Луи. Как и всех прогрессивных литераторов, Империя Баденге всячески преследовала Валлеса, арестовывала, судила, сажала в тюрьмы. Но в нем, как и в старшем брате Луи, Эжене Варлене, нельзя, невозможно убить преданность революции и Республике, их нельзя запугать! Валлес был дорог Луи не только сходностью судьбы и убеждений с Эженом, его сердечно трогало и подкупало внешнее сходство Жюля Валлеса и брата: та же прическа, та же окладистая с ранней проседью борода, тот же смелый и ясный взгляд темных глубоких глаз.
Значит, к вечеру нужно быть у Пантеона, – если ночь приостановит бои и в Пантеоне соберутся уцелевшие члены Коммуны, Эжен обязательно явится туда, он никогда не манкирует обязанностями депутата. А уж в такие решающие часы об этом не может быть и речи. Если, конечно, к тому времени Эжена не повалит навзничь на какой-нибудь баррикаде шальная или прицельная пуля, адресованная именно ему. О, версальцы с особой тщательностью целятся в серебряные и золотые галуны – отличительные знаки командиров.
А сейчас следует избавиться от трости, доковылять до дома Деньер: а вдруг все же Эжен, получив записку в «Мухоморе», улучил минутку и забежал к Клэр. Ведь его не может не волновать судьба спасенных Луи документов. Да к тому же Луи изнемог, хотелось хотя бы на часок забраться в темный закуток под лестницей, уткнуться лицом в подушку, полежать. Иначе ночью просто свалишься где-нибудь на полпути к Пантеону…
До дома Деньер он добрался под вечер. Баррикада, перегораживавшая улицу, еще не была захвачена ворсальцами, но стены близких к ней зданий были изрядно побиты снарядами, словно дома только что переболели оспой. Странно, но Луи совершенно не думал о собственной безопасности, не гнул головы, когда поблизости свистели пули и осколки, вел себя так, словно был заколдован, защищен от любой угрозы невидимой стеной.
Бродя по городу, он жадно ловил случайные слова, обрывки чужих фраз и благодаря им достаточно ясно представлял себе общую картину версальского наступления.
На второй день вторжения в Париж, вернее, дажо в первую ночь солдатам Галифе, Сиссе и Кленшана удалось, идя от ворот Сен-Клу вдоль внутренней стороны городских валов, зайти в тыл, ударить в спину сторожевым постам федератов и уже к вечеру 22 мая овладеть Севрскими и Версальскими воротами на юге, а на запале отбить защитников от ворот Отей, Пасен и Майо, – во все эти ворота сейчас и вторгался в город многотысячный поток дивизий и армий, возвращенных Вильгельмом и Мольтке версальским правителям из недавнего плена. Через два дня их части уже прорвались к Монпарнасскому и Западному вокзалам, хозяйничали и разбойничали в большей части Латинского квартала, в непосредственной близости от дома Деньер. Даже неискушенному в стратегии Луи положение представлялось катастрофическим, хотя и сердце его и душа отказывались верить в возможность близкой гибели Коммуны.
На робкий троекратный стук молотком в дверь открыла Софи, но, еще не перешагнув порога дома, Луи услышал наверху, на лестничной площадке взволнованный голос Клэр:
– Кто там, Софи? Это Луи? Да?
– Собственной персоной, мадам!
По интонациям женщин Луи сразу понял: нет, Эжен не появлялся здесь. На секунду шевельнулось в душе сомнение, – а стоит ли заходить, но Клэр уже сама сбежала вниз и, отстраняя Софи, с испугом уставилась на костыль Луи.
– Тебя ранили, Луи?! – воскликнула она с такой искренней и сердечной тревогой, что измученный юноша с трудом сдержал просившиеся па глаза слезы. – Да проходи же скорей!

Через минуту он уже сидел на кровати в крошечном закутке под лестницей. На столике в принесенном Софи бронзовом шандале горели свечи, на тарелках дымилось горячим ароматным паром еда. Стоя в дверях, Клэр пристально всматривалась в изможденное лицо Луи.
– Я не спрашиваю, Малыш, – тихо сказала Деньер. – Если бы его убили, ты не вернулся бы сюда, да? Я чувствую! Но ты видел его?
– Нет, мадам Деньер. Я встретил Жюля Валлеса, он разговаривал с братом прошлой ночью в Ратуше.
– Вот и славно! – со вздохом облегчения кивнула Клэр. – А теперь ешь, Малыш, ешь, на тебе прямо лица нет! Мы поговорпм потом! Ешь!
Она ушла, неторопливо простучала вверх по лестнице каблучки. Луи не мог не оценить деликатности случайной благодетельницы, она понимала, что он голоден, как волк в ненастную зиму, и не хотела мешать. Софи тоже не заглядывала в каморку, и он ел, забыв о вилке, прямо пальцами хватая и отправляя в рот куски мяса и вареную рассыпчатую картошку. До начала уличных боев Клэр каждый день посылала Софи на бульвар Монмартр, в знаменитый ресторан Поля Бребана. Да, несмотря на все ужасы войны и блокады, рестораны Бребана и Маньи продолжали исправно снабжать горсточку постоянных набранных клиентов приличными обедами из неисчерпаемых и надежно охраняемых погребов.
От жадности и голода у Луи тряслись руки, – пять минут назад он и не представлял себе, до какой степени голоден, до чего обессилел. И, уже опустошив тарелки, поставленные перед ним Софи, вдруг застыл с открытым от изумления ртом. Постой, Луи, постой!.. Да ведь Клэр, кажется, назвала тебя Малышом, как звали только в семье, в Вуазене, а здесь, в Париже, лишь двое – Эжен и Жюль Валлес! Откуда же она знает?!
Внезапное подозрение, почти уверенность в правильности догадки охватили его. Опустившись на колени, он пошарил под кроватью – сначала рукой, потом тростью. Там ничего не было. Значит, Деньер унесла к себе и читала его тетради, его дневники, самое сокровенное, чего он не показывал даже Эжену!