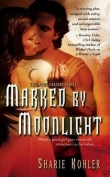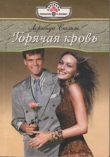Текст книги "Последний день жизни. Повесть о Эжене Варлене"
Автор книги: Арсений Рутько
Соавторы: Наталья Туманова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Но, Альфонс… – Мари виновато и беспомощно развела руками.
Нахмурившись, Делакур принялся обшаривать карманы, отыскивая в них последние сантнмы и су. Варлен усмехнулся:
– Собираешь остатки своего последнего гвардейского жалованья? Да что у тебя могло остаться от тех жалких тридцати су, которые вам ежедневно выплачивал Журд? На весь месячный оклад рядового национального гвардейца сейчас, наверное, не купишь и дохлой крысы. Мари, вот кошелек. Возьмите, сколько нужно.
Мари с робким вопросом глянула на мужа. Тот, досадливо пожав плечами, швырнул на стол горсть тоскливо зазвеневших монеток.
– Считай, залезаем к тебе в долги, старина Эжен!
Варлен ответил с обидой:
– А ведь ты совсем недавно называл меня другом, Альфонс!
Пока мужчины обменивались замечаниями, Мари взяла из кошелька Варлена три десятифранковые бумажки и вернула ему кошелек. Но он достал еще несколько кредиток и протянул ей:
– Возьмите, Мари: все сейчас непомерно дорого. Однажды слышал жалобу какой-то старушки: крохотный кочанчик цветной капусты – полтора франка. Возьмите!
– Благодарю вас, мосье Эжен!
Она сказала «мосье», и это резануло слух Варлена, – да, дорогое слово «гражданин», видно, опять надолго окажется под запретом.
– Мари, разве я для вас «мосье»? – спросил он с грустной улыбкой.
– Простите, гражданин Варлен, – виновато и через силу улыбнулась Мари. – Я вовсе не хотела вас обидеть!
– Ну и ступай! – С грубоватой лаской Делакур похлопал жену по спине. – Но пойди не к Клюжи, она – хитрая бестия, может догадаться! Ведь ни тебе самой, ни нашим синичкам вина не нужно, а? Значит, топай, моя драгоценная женушка, к «Старым друзьям», там открыто. Купи пожрать и выпить. Но будь осторожна, Большая Мари, как старая кошка! В кабачке вроде полно и синюшных мундиров, и красных штанов. Если хозяин спросит, придумай что-то похожее на правду, хотя врать ты и не мастерица!
Мари поспешно накинула старенькую жакетку, надела шляпку и скрылась за дверью. Торопливо проскрипели под ее ногами деревянные ступени. С минуту Варлен и Делакур сидели молча, потом Эжен с чувством произнес:
– Еще раз спасибо, друг! Я совсем потерял от слабости голову.
– Немудрено, – грубовато отозвался Делакур. – От такой пушечной да ружейной музыки у самого господа бога башка пойдет кругом! – И повернулся в сторону выцветшей занавески; – Эй, синички-сестрички! Что вы притаились там, словно мышки, перепуганные котом? Маленькая Мари! Аппет! А ну, марш сюда! Это же дядя Эжен, твой крестный отец, крошка Мари!
С робостью поглядывая на Варлена, девочки вышли из-за шторки. Старшая, веснушчатая и большеглазая, как мать, тянула за руку младшую, обе до жалости худенькие, ручонки, как тоненькие щепки.
Эжен всматривался в девчушек с никогда ранее не испытанной нежностью, – вот они, крохотные росточки завтрашнего дня, за будущее которых пролилось в эту майскую неделю столько крови! А ведь и ему хотелось бы быть отцом, чтобы вот такие беззащитные маленькие ручонки обнимали твою шею и доверчивые, незамутненные ложью глазки смотрели на тебя с такой же безграничной радостью и преданностью…
На мгновение с поразительной отчетливостью, словно изображенное яркими красками на стене мансарды, встало перед ним улыбающееся лицо мадам Деньер, ее сочные, яркие, не знающие помады губы, пышные белокурые волосы, ниспадавшие на плечи, голубые глаза, так часто смотревшие на Эжена с откровенной, призывной лаской. Он два года работал старшим мастером в ее известной всему Парижу переплетной, и все кругом тогда были убеждены, что Варлен обязательно женится на рано и внезапно овдовевшей хозяйке процветающей мастерской. Кто же отказывается от счастья, когда оно само падает ему в ладони? Да и что скрывать – Клэр Деньер очень нравилась Эжону, в ней были и красота, и не выразимое словами женское очарование, хотя она умела быть и настойчивой, и непреклонной. К Эжену она явно благоволила.
Но, женившись на ней, Варлен, естественно, стал бы хозяином мастерской, где теперь вместе с ним работало двадцать таких же переплетчиков, как он сам и тот же Пелакур – они, не разгибая спипы, сидели у станков по двенадцать часов в день. И что же он, Варлен, стал бы полновластно распоряжаться бывшими товарищами и друзьями, покрикивать на них? Представить себе такое он не мог и неожиданно для всех попросил у мадам Деньер расчет. Может, он убегал от самого себя, от чувства, которое против воли зрело и нарастало в нем? Он не позволял себе глубоко задумываться над этим.
«Разве я обидела вас чем-нибудь, Эжен? – с укором спросила Деньер в ответ на его просьбу. – Или вы находите, что я недостаточно плачу за вашу работу? Вы – мастер первого класса, я готова платить вам, сколько скажете!» Смущенный, он не мог смотреть хозяйке в глаза, но и объяснить откровенно, почему уходит из ее мастерской, тоже не мог. Да, по правде говоря, и не хотел. Она вряд ли поняла бы сумятицу чувств, обуревавших его в те дни. «О, дело не в оплате, мадам Деньер, – ответил он, теребя свое кепи и глядя в окно. – Но, видите ли… я решил перетащить в Париж моих стариков, снял для них домик в Пюто и хочу найти работу поближе. Они уже не молоды, им необходима постоянная помощь». Это была ложь, он почувствовал, как наливаются жаром щеки, – раньше никому и никогда не лгал. Но он не мог сказать Клэр правду.
А мадам Деньер восприняла его просьбу по-своему, по-женски, – гордая и самолюбивая, она, видимо, подумала, что у Эжена есть на примете другая… «Я никого не держу у себя силой! – с плохо скрываемым гневом ответила она, кусая губы, – Можете оставить работу в мастерской хоть сегодня!»
Воспоминание мелькнуло в памяти и погасло, и вместо красивого и яркого лица Клэр Денвер Варлен снова увидел закопченные стены дешевой мансарды, вылинявшую шторку и две детские головенки.
Ах вы, синички-сестрички, – приговаривал между тем Делакур, обнимая льнувших к нему дочерей. – А негодный папка никаких гостинцев сегодня вам не принес. Обижаетесь, синички, да?
– Да что ты, пап, совсем нет! – скороговоркой лепетала Маленькая Мари. – Мы так плакали, когда пришла мадам Клюжи и сказала, что тебя убили.
– И вы поверили такой глупости, синички? – добродушно расхохотался Делакур. – Ну, посмотрите: разве такого большого и сильного вашего папу кто-то может убить? Э, нет! Ваш папа кому угодно даст сдачи! А пока, Маленькая Мари, принеси-ка нам попить водички. У нас изрядно пересохло в глотках. Не так ли, Эжен?
Крошка Ашш осталась сидеть на коленях отца, крепко прижимаясь к его груди, а Маленькая Мари, топоча деревянными сабо, побежала в каморку-кухню и через минуту принесла полную воды синюю эмалированную кружку.
И наверное, никогда в жизни Эжен ничего не пил с таким наслаждением, как тепловатую, отдающую жестью воду. С нежностью глядя через край кружки в бледное, осыпанное майскими веснушками детское лицо, он чувствовал, как с каждой каплей возвращается к нему и ясность мысли, и сила воли, покинувшие его после того, как истощился в карманах запас патронов к карабину.
Он выпил до дна. Мари побежала на кухню и снова наполнила кружку.
– Теперь тебе, папочка!
– Благодарю, дочка! Ты у нас славная маленькая маркитанточка. Да?
– Да, папа! Я вырасту и стану настоящей маркитанточкой у тебя и у мосье Эжена!
– Прекрасно, а, Эжен? Значит, мы с тобой никогда не умрем с голоду!
Эжен не успел ответить – заскрипели ступеньки лестницы, распахнулась дверь, вернулась Большая Мари. Прошла к столу, достала из кошелки две бутылки, высыпала на потертую скатерку четыре горсти жареных кукурузных зерен.
– Вино только такое, Альфонс! И поесть, кроме кукурузы, ничего нет. Все съели солдаты. Я кое-что оставила от вчерашнего обеда…
– Подождите, Мари, – остановил ее Эжен. – Нам, пожалуй, достаточно и этого. Расскажите-ка, что слышно там, «У старых друзей»?
Но Делакур требовательно похлопал ладонью но столу.
– Не спеши, дружище! – С грубоватой и в то же время нежной ласковостью он обнял жену за талию. – Сначала подай-ка нам кружки, большеглазая. И сама садись к столу. Ишь совсем прозрачная стала, в чем только душа держится? А вы, синички-сестрички, перепархивайте к столу!
Мари ушла на кухоньку, а девочки торопливо уселись по обе стороны отца, с голодной зверушечьей жадностью поглядывая на рассыпанные по столу кукурузные зерна.
– Клюйте, синички! – скомандовал отец.
И тоненькие, исхудавшие ручонки протянулись над столом. Глядя на них, Эжен вспоминал рассказ вернувшегося с фронта Теофиля Ферре, ездившего туда в качестве газетного корреспондента. Наполеона Малого повсюду сопровождал по полям сражений обоз из пятидесяти или шестидесяти фургонов и карет, возивший серебряную императорскую посуду, любимое Баденге шампанское, клетки с фазанами, предназначенными к царственному столу, многоведерные бочки, где плескалась живая рыба, ящики с апельсинами и персиками…
Делакур между тем деловито расставлял глиняные кружки, разливал вино.
– А ну, дружище Эжен и Большая Мари, давайте-ка выпьем за то, чтобы когда-то все же воцарилась на земле всемирная и справедливая Коммуна простых людей.
Словно по команде, они трое встали, стоя чокнулись и молча выпили. Эжен заметил, что Большая Мари украдкой глянула в угол, где едва различимая при свете свечи белела статуэтка мадонны.
Вино горячо и быстро разливалось по телу. Обняв девочек и прижав их к себе, Делакур задумчиво грыз кукурузные зерна. Всматриваясь в его лицо с провалившимися глазами и выдающимися скулами, Эжен с тоскливой горечью спрашивал себя: о чем в эти секунды думает этот внешне грубоватый, но добрый и отзывчивый человек? О завтрашнем дне своих «синичек», о большеглазой Мари, о том, что ждет его самого? Но вот Делакур тряхнул головой и снова, взяв бутыль, разлил по кружкам терпкое красное вино.
Эжен попытался было отстранить свою кружку, но Делакур настойчиво подвинул ее к нему.
– Э нет, дружище Эжен, убери лапы! Я знаю, ты не охотник до вина, но сегодня оно нам просто необходимо. Отнесись, как к лекарству! Сейчас поспим часа три, и надо что-то придумывать. Кто знает, что ждет нас завтра! Большая Мари, что слышно там, «У старых друзей»? Кто там?
– Полным-полно красных штанов. И бретонцы, эти жестокие свиньи. Потом бакалейщик, каретник, бывшие чиновники из мэрии, которые прятались все время…
– А болтают что?
Измученное лицо Мари сразу еще больше осунулось и побледнело.
– Пьяный капрал из линейных кричал, как во дворе тридцать седьмого бастиона расстреливали. Из митральез. Капитан скомандовал: «А ну, кто тут в годильотах, отходи к стене! И не вздумайте сбрасывать обувь, сволочи, босые – тоже марш к стене!» Вы извините, Эжен, за грубость, я просто передаю слова капрала… И их убивали картечью…
Варлен не носил годильот, но, конечно, знал, что это специальная обувь бойцов Национальной гвардии – она называлась так по имени обувного фабриканта, мосье Годильо.
– А другой офицер грозил, что утром везде проведут обыски…
Варлен и Делакур переглянулись: значит, они не ошибаются, завтра, а может быть, и не только завтра, а еще много дней продлится бойня. Передохнув, нужно уходить, иначе поставишь под пулю всех, кого застанут рядом с тобой…
– Да, они немало пролили крови и в сорок восьмом, и в пятьдесят втором, в декабре, когда наш Наполеончик провозгласил себя императором! – задумчиво пробормотал Делакур. – Кстати, ты знаешь, Эжен, что подлюга в генеральском мундире, Винуа, был когда-то начальником каторжной тюрьмы в Ламбессе, в Алжире? О, он закопал там в горячий песочек не одну тысячу таких, как мы с тобой. Не зря говорят, что кровь, пролитая Баденге, доходит до брюха его лошади!
– Ну, теперь-то она поднялась и повыше! – хмуро отозвался Варлен.
На кухоньке что-то шипело и фыркало, и вскоре Большая Мари принесла сковородку с десятком кусочков поджаренного мяса. Но Эжен, невольно гяявув в исхудавшие лица девочек, не решался прикоснуться к жалким крохам еды. Делакур тоже не стал есть.
– Ну, ладно, – сказал он. – Во здравие будущей Коммуны!
Они чокнулись кружками и выпили.
– А теперь, Большая Мари, уложи его в постель, пусть похрапит часок-другой. Да вытри ты слезы, большеглазая, ты же у меня двух гренадеров стоишь! Вспомни, как плечо о плечо сражались на баррикадах и как прекрасно мы были тогда молоды! Ты – вовсе девчонка, и сражалась гвардейски! Ну-ну! – построже прикрикнул он. – Возьми себя в руки, Мари! Покажи Эжену, где лечь.
Мари покорно вытерла слезы и увела Эжена за синюю занавеску. Там стояла деревянная кровать, а в изножье – широкая самодельная детская. Они были едва различимы в падавшем из столовой свете.
– Нет, Мари! – Варлен решительно покачал головой. – Я не лягу здесь. Постелите мне где-нибудь на полу. Вам же самим негде лечь.
– Но…
Не слушая, Варлен, наклонившись, выбрался из-под занавески. Делакур, слышавший их коротенький разговор, кипнул жене.
– Постели на кухне мое пальто и дай подушку, – сердито глянув на Варлена, буркнул он. – Все равно не переспоришь! Порой упрям, как бык на испанской корриде!
Через минуту Варлеи улегся на пальто, постеленное Мари, в кухне, с наслаждением вытянул ноги. И лишь сейчас почувствовал всю тяжесть усталости, накопившейся за последние дни.
За занавеской Делакур грубовато и ласково шутил с девочками, успокаивал и утешал Большую Мари. И Эжен с тайной гордостью, относя это каким-то образом и к самому себе, думал о том, какое благородное сердце таится под простой, обтрепанной одежкой рабочего человека. В разговоре с женой Делакур даже не заикнулся о своей ране, не плакался на то, что довелось пережить, стоя на обрыве перед наведенными в упор дулами шаспо.
Ты всегда думал о себе, Эжен, что у тебя избыток сил, необходимых для борьбы с высокопоставленной сволочью, а посмотри-ка на Делакура, – тебе, пожалуй, далековато до него… Хотя, нет, мне тоже не в чем упрекнуть себя: и в знаменитой тюрьме Сент-Пелажи, и в одиночной камере Санте, и стоя перед неправедным судом Империй, и в изгнании, я, кажется, ни разу не сподличал, не потерял мужества и совести…
И тут сон словно темной волной затопил сознание; голоса Альфонса, Большой Мари и «синичек» стали глохнуть, отодвигаться, затихать. Разлившееся по всему телу тепло покачивало и убаюкивало, и в памяти неожиданно зажурчали струи полузабытого ручейка детства, и засмеялась чему-то сестренка Клеми, и задиристо залаял вислоухий Муше. Из давно забытого прошлого вдруг возник образ деда Дюрю, отца матери, с его неразлучной глиняной трубочкой и восторженными рассказами о Великой: революции, когда народ сверг Бурбонов и вдребезги разнес ненавистную Бастилию, сглодавшую каменными челюстями неведомо сколько прекрасных жизней…
ВОСПОМИНАНИЯ. СНЫ…
Детство! Помнишь, как журчал ручеек, как прыгала по коричневой гальке прозрачная вода, покачивая нежные зеленые водоросли, какие рождала она чистые звуки, унося своим течением все горести и тревоги? Ручей огибал отцовский дом и виноградник в уютном и милом Вуазене, и вы, мальчишки, считали ручей собственностью семьи. Твои братишки, Ипполит и Луи, да и ты сам, самый старший, любили пускать по ручейку кораблики из сосновой коры или из бумаги и всегда спорили: чей быстрго доплывет до канала Урк. И победитель восторженно ликовал, прыгал по берегу, крича от радости и размахивая руками… И старый платан, посаженный кем-то из ваших предков, привычно и успокаивающе шелестел над головой. А по вечерам флейта слепого соседа Огюста выпевала невдалеке свою печальную песенку. Но странно – была в ее печали какая-то мудрая и мирная, успокаивающая радость.
Набегавшись до потери сил, ты и братья, отдыхая, валялись в траве на берегу ручья. И твой вислоухий любимец, одноглазый песик Муше обязательно пристраивался рядом и горячо дышал в щеку, высунув язык. Хороший, верный был пес и больше других – или это только мерещилось? – любил тебя. Нет, наверно, все-таки правда – ведь именно ты подобрал его с переломанное лапой в придорожной канаве, сбитого промчавшимся мимо роскошным экипажем.
Голоса за занавеской звучат тише, словно отодвигаются все дальше. И ты снова беспечным мальчишкой носишься по берегу, но стараешься следить за тем, чтобы младшие братья не вытаптывали люцерну, которую отец скоро, сняв промокшую от пота рубаху, будет косить, запасая на зиму корм для коз, – ни коровы, ни лошади старик Эме так и не нажил…
И хотя день тихий и безветренный, откуда-то, должно быть с юга, надвигается гроза, – слышишь приглушепные расстоянием редкие удары грома? Да, дождь сейчас был бы на пользу виноградникам, их припыленная зелень истосковалась по влаге. Лишь бы, как опасается сосед, Огюст, обошлось без града, как случилось в прошлом году. Тогда сплошь побило неокрепшую завязь на кустах и деревьях, и виноградари всю зиму кляли непогоду и жаловались на неурожай. Еще бы: и себе продуктов и вина в обрез, и на рынки в город везти нечею…
А вон, смотри, за живой изгородью жимолости мелькает темноволосая головка сестренки Клеми, из-за ее плеча смеются синевато-светлые глаза Катрин, внучки Огюста.
Ну и озорная девчонка, эта Катрин! Переплыть канал перед самым посом какой-нибудь заржавелой баржи или буксира для нее – плевое дело, пустяк! И в ответ па притворно-яростную брань шкипера и матросов только хохочет да трясет русалочьими волосами. Право, вовсе не удивительно, что она запала в сердце братишке Луи, такая приглянется любому! А Клеми старается во всем подражать подружке, хотя ей нередко попадает за их лихие проделки и от матери, и от отца…
Почему вдруг так ясно вспоминается Катрин? Должно быть, из-за Луи, – ведь именно она виновата в том, что у братишки покалечена нога! Однажды летом, в пору сенокоса, Катрин вызывающе крикнула ему: «А ну, попробуй догони!» Раззадоренный мальчишка во всю прыть кинулся за ней и напоролся на вилы, прикрытые свежескошенной травой, брошенные каким-то растяпой остриями вверх…
Подожди, Эжен, но ведь несчастье с Луи произошло уже позже того, как ты перебрался в Париж, каким же образом ты попал на сенокос? А! Наверно, приехал в Вуазен передать папаше Эме скопленные за весну двадцать или тридцать франков? Видимо, так. Старик всегда радовался твоим франкам и даже су – они были неплохим подспорьем в не слишком-то зажиточном хозяйстве.
Французскому крестьянину всегда жилось не особенно легко. В неурожайные годы Эме нанимался к соседям побогаче, помочь в поле и на виноградниках. А в самые трудные годы ему и брату Полю приходилось идти в подсобные рабочие на алебастровый завод или фабрику гобеленов в «столице» департамента Сены и Марны, городке Клэ, за каналом. Там работали в те годы за шесть или восемь су по четырнадцать часов в день. Позже, когда Ипполит подрос, он предпочитал приезжать на заработки в Париж, пристраивался подмастерьем в штукатурную или малярную артель, – хорошо, что ему можно было жить у Эжена, всегда крыша над головой!
Тогда строительные рабочие требовались повсюду: барон Осман, префект департамента Сены и мэр Парижа, реконструировал центр города, прокладывал новые, прямые и широкие авеню, улицы, бульвары. Правда, потихоньку поговаривали, что делается это отнюдь не для красоты, а просто для удобства жандармов и войск в борьбе с восставшими. О, Империя не забыла и не могла забыть ни разрушения Бастилии, ни тридцатого, ни сорок восьмого, ни пятьдесят первого и второго годов…
Да, я думал о Катрин, о Луи. Несмотря на ее озорство и всяческие проделки, Катрин всегда была добра и отзывчива, как и ее мать, мадам Жозефина, содержавшая единственную в Вуазеие лавочку. Сколько раз Катрин приносила Луи, а заодно и мне пусть и дешевенькие, но такие приятные, холодящие нёбо конфетки – словно сладкие кусочки льда таяли во рту. Когда Луи лежал с искалеченной ногой, Катрин приходила каждый день, и они вместе с Клеми часами просиживали возле кровати больного…
А позже, лот пять спустя, обе девчонки взахлеб плакали, когда, обжившись в Париже, я приехал в Вуазен, чтобы увезти Луи к себе. Я понимал, что брату трудно и тяжело будет жить в деревне. Он не мог по-настоящему работать ни в поле, ни на винограднике, – крестьянская работа и вполне здоровому человеку тяжела, попробуй-ка все лето под палящим солнцем гнуть спину целый день, от темна до темна! Правда, не было случая, чтобы кто-то из родных упрекнул Луи, да и бессовестно упрекать – беда стряслась не по его вине, просто несчастный случай, такое могло приключиться с любым из нас. И все же я понимал, как ему тяжко…
И еще: я догадывался, да и сейчас думаю так же, – он любил, а может быть, и теперь любит Катрин той первой, чистой, мальчишеской любовью, которая на всю жизнь оставляет в сердце неизгладимый след. И уж, конечно, Луи все те годы мучила мысль: а как же дальше, в будущем, как ему, калеке, содержать семью, если он женится? Или ему, полному замыслов и самых обыкновенных желаний, на всю жизнь суждено одиночество? Не в монастырь же идти, к доминиканцам или францисканцам! Представляю, как подобные мысли изводили, в какую тоску вгоняли самолюбивою мальчишку! Поэтому-то я после недолгих раздумий и увез его в Париж, собираясь обучить переплетному мастерству, которое к тому времени полностью освоил.
Да, да, я тогда уже обзавелся жильем, снимал мансарду на рю Дофин, купил за девяносто франков кровать, матрас, стол и прочее имущество, сам смастерил второй переплетный станок, для Луи. А спать мы с ним сначала могли на одной постели, как спали с Ипполитом, когда он временами приезжал на заработки в Париж. При сидячей работе за переплетным станком изуродованная нога не мешала Луи, и, в конце концов, он и без моей помощи мог зарабатывать достаточно на себя и на семью. Правда, я ничего заранее не обещал Луи, не рисовал ему радужных картин будущего, но сам с удовольствием думал о том дне, когда мы с ним привезем в Париж Катрин, они повенчаются, и мой бедный Малыш будет счастлив…
С какой неописуемой радостью Луи каждую осень, к сбору винограда, собирался в Вуазен, каким нетерпеливым ожиданием загорались глаза, как звенел голос! Я возил его на родину каждую осень, хотя для поездок мне и приходилось порой отрываться от важных и неотложных дел. Но меня за все вознаграждала их встреча: с такой непосредственной и нескрываемой нежностью бросалась к нему Катрин! А иногда, если я заранее извещал о приезде, девчонки встречали нас на станции Митри-Морц. По правде говоря, такая встреча и не составляла для них особенного труда: переходили по крутому пешеходному мостику канал, садились в Клэ на омнибус и спокойно доезжали до вокзала, где и дожидались поезда.
А нам с Луи путешествие и подавно не было обременительно – уселись в вагон на Нордкар и покатили по железной дороге по линии Париж – Гарсон. Конечно, я прекрасно понимал, что этот путь от Парижа до Клэ представлялся Луи непомерно длинным, ему но терпелось поскорее увидеть Катрин! Как они нерасторжимы: любовь и юность!
А я всю дорогу с щемящей грустью и чувством странной вины смотрел в окно на знакомые холмики и поля, на зеленые куртины лесов, на крошечные земельные участки, где повсюду горбились согнутые в работе спины, белели выцветшие чепчики женщин. Кое-где, в тени кустов, на разостланных там одеялах, копошились грудные ребятишки, – значит, не с кем оставить дома…
Естественно, годы жизни в Париже отдалили меня от вековечных забот, какими жила, живет и всегда будет жить деревня, мне стал ближе обездоленный, обделенный судьбой рабочий люд городских трущоб и окраип: каменщики и литейщики, переплетчики и бронзовщики, грузчики и строители. Вероятно, это потому, что в городе я впервые особенно отчетливо увидел вопиющее различие, пропасть между раззолоченной роскошью и предельной нищетой, бесправием и произволом. Способствовали тому и мои встречи с республиканскими журналистами и писателями, кое-кто из них нередко навещал мою мастерскую, – кстати, за эти встречи я прежде всего благодарен своей профессии переплетчика. Сейчас мне приятно сознавать, что не только необходимость отдать в переплет книги, а и нечто иное – человеческие симпатии и интерес приводили многих в убогое мое жилье.
И все же часть моего сердца, может быть даже лучшая его часть, осталась навсегда привязанной, прикованной к деревне, – ведь невозможно забыть, вычеркнуть из памяти тот уголок земли, где ты впервые увидел небо и распростертый под ним прекрасный зеленый мир, где ты сделал первые, робкие и неуверенные шаги навстречу протянутым тебе материнским рукам.
И как ни странно, именно в Париже, в огромном, почти двухмиллионном, городе, живущем совсем иными заботами и словно бы по другим законам, нежели деревня я лучше стал понимать старика отца, мучившпе его тревоги, вечную угнетенность перед возможностью неожиданной беды, перед нуждой и голодом, грозившими навалиться на семью.
И еще одна, собственно, общая для всех французских крестьян беда: рождается в семье два сына, и клочок земли, сада и виноградника, эту несчастную парцеллу, приходится делить надвое. Но неизбежно наступает время, когда делить виноградник и огород дальше просто невозможно: урожай с мизерного земельного участка не сможет прокормить две, даже самые маленькие, семьи. А у старика Эме нас, сыновей, родилось трое, – значит, кто-то должен уступить свою дольку земли другим, уйти в Клэ на алебастровый завод, на фабрику гобеленов или перебраться в Париж, обучиться какому-то ремеслу. В нашем роду такая судьба выпала мне, старшему. Ипполит оставался помогать дряхлеющим родителям, а с Луи, с калеки, какой спрос?
…Вот такие мысли неизбежно приходили мне в голову, когда осенью мы с Луи отправлялись в Вуазен помогать старикам убирать урожай. И еще я думал о привязанности, о какой-то буквально исступленной любви отца к земле, которую он всю жизнь обрабатывал и холил, – он знал нашу парцеллу, наверно, как свою, иссеченную глубокими черными морщинами ладонь. Земля дарила ему не только коросту пожизненных каменных мозолей, но и подлинную радость творчества. У него, должно быть, по отношению к земле было чувство, родственное тому, какое он испытывал к нам, его детям: Клеманс, Луи, Полю, ко мне…
Когда Империя начала франко-прусскую войну и прусские войска стремительно приближались к Вуазену, мои старики были вынуждены покинуть родную деревню, бросить все, нажитое за долгую и трудную жизнь: трехкомнатный домишко, виноградник, огород, небольшой сад. Отец, вообще-то человек мужественный и достаточно жесткий, не мог сдержать слез, рассказывая о небывалом урожае винограда, который пришлось оставить под копыта и орудийные колеса бошей, – хватило бы на двадцать бочек вина! Я первый раз в жизни видел, как плачет такой закаленный мужчина, каким был отец.
Оставаться же в Вуазене им было просто невозможно, это значило обречь себя на унижения, на издевательства, а вернее всего – на смерть! Идя почти церемониальным маршем по незащищенной после седанской катастрофы стране, захватчики полностью уничтожали все живое в селениях, сжигали дотла не только крестьянские дома, но и все пристройки, амбары, сараи, даже собачьи конуры, если им мерещилось, что кто-то пытается оказать или оказывал хоть малейшее сопротивление. Правда, в самом начале войны таким паническим, как считалось, россказням не придавали особенной веры, но вернувшийся из-под Седана и чудом избежавший смерти и плена капрал принес в Вуазен прусскую листовку со словами из приказа Вильгельма и Мольтке по армиям: «Щадить франтиреров[1]1
Партизан (фр.).
[Закрыть] —достойная порицания леность. Это изменники. Все деревни, где появляется измена, следует сжигать, а все мужское население – повесить!» Можно ли было ждать пощады от армии, у каждого солдата которой лежал в кармане такой приказ?!
…Что оставалось делать? Погрузив на ручную тележку кое-какой домашний скарб, старики с неимоверными трудностями по забитым беженцами дорогам дотащились до Парижа. Но у Эжена жили Луи и Поль, также ставший к тому времени бойцом Национальной гвардии; Эме с женой пришлось просить приюта у ее брата, владельца переплетной мастерской, Ипполита Дюрю. Там же тогда жила и Клемане, не так давно вышедшая замуж за парижанина, мосье Пруста.
Да, на Эме в те дни невозможно было смотреть, – так мучительно он тосковал по брошенному дому, по хозяйству, по тому, что, собственно, и составляло смысл всей его жизни, во что он вложил все старания и надежды, все силы и душу. И вполне понятно, почему обессилевший от царившего в Париже голода старик все же не вытерпел и однажды на заре, тайком от родных, отправился пешком – поезда не ходили из-за взорванных тоннелей – в Вуазен.
Пруссаки еще не добрались до домика Варленов, но там на постое по-хозяйски бесцеремонно расположились солдаты французского линейного полка, якобы для защиты канала Урк от победно шествовавших завоевателей. Очень скоро стало понятно, что это было только игрой в сопротивление – крикливые вояки вовсе не собирались отдавать свои драгоценные жизни в защиту отечества. Взломав двери и винный погреб Варленов, они пировали и кутили вовсю, а владельца дома встретили грубостями и насмешками: «Мы жертвуем собой, чтобы защитить твое добро, старый хрыч, а тебе жалко для нас бочонка вина?» Когда же Эме осмелился упрекать солдат в недостойном воинов поведении, они по приказу капитана просто вышвырнули старика за ворота. Верного Муше, оставленного возле дома на попечение Катрин, остервенело бросавшегося на чужаков, они пристрелили еще до появления старика Варлена, – мертвый пес валялся, вытяну в лапы, у своей конуры…
В доме дядюшки Дюрю Эжен не бывал с давних пор, с пятнадцатилетнего возраста, когда дядя, вначале взявший было Эжена к себе в переплетную мастерскую, однажды застал нерадивого подмастерья не за работой, а за чтением оттисков «Истории Французской революции» Жюли Мишле. Обозвав племянника лодырем и дармоедом, надавав подзатыльников, дядя выставил его на улицу без единого су в кармане, видимо уверенный в том, что несостоявшийся мастер не останется бедствовать в Париже, а смиренно вернется в Вуазен, под отчий кров.
Произошло то в декабре. Промерзшая земля звенела под ногами, крупными хлопьями валил с низкого серого неба снег. Мальчишеская гордость не позволила Эжену в трудный час послушаться советов и окриков дядюшки, он остался в Париже…
Несмотря на мягкость характера, Эжен не мог ни забыть, ни простить дяде той подлой, бесчеловечной расправы за его, такую естественную в мальчишеском возрасте, любознательность, и, даже когда у Дюрю поселилась бежавшие из Вуазена старики, Эжен ни разу не побывал там. Изгнанный солдатами из собственною дома, убитый горем Эме сам пришел на улицу Лакруа к Эжену и рыдал, обнимая сына, как маленький, незаслуженно обиженный ребенок.