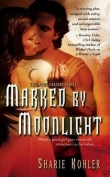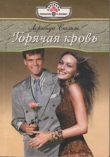Текст книги "Последний день жизни. Повесть о Эжене Варлене"
Автор книги: Арсений Рутько
Соавторы: Наталья Туманова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
И еще одно. Помню, как перед отъездом Эжен мечтал выкроить в Лондоне свободный день и съездить на принадлежащий Британии остров Гернси в проливе Ла-Манш, где столько лет томится наш Великий изгнанник Виктор Гюго. В дни государственного переворота в декабре пятьдесят первого Гюго защищал Республику, а после победы Бонапарта вынужден был бежать за границу. Его бессмертные творения не издаются, ни один театр не ставит ни „Эрнани“, ни „Рюи Блаза“, ни „Кромвеля“. И лишь контрабанда приносит иногда в Париж голос „короля поэтов“. Помню, с какой горечью Эжен сказал мне перед отъездом:
– Ах, Малыш, Малыш! Какое было бы для меня счастье пожать руку, написавшую эти звенящие строки: „Для алой мантии его монаршей славы вам пурпуром, ткачи, не надо красить нить: вот кровь, что натекла в монмартрские канавы, – не лучше ли в нее порфиру опустать?“ Это о нем, о нашем императоре! Я рад был бы не только пожать могучую руку Гюго, а хотя бы издали увидеть крышу, давшую ему приют на чужбине. И я верю: трон Баденге рухнет и великий Виктор вернется к нам!
Но поехать на Гернси Эжену не удалось: в Лондоне навалилось много дел, а потом пришла пора возвращаться.
В первое же воскресенье по приезде Эжена мы с ним рано утром отправились в рабочий пригород Венсенн, что за крепостным валом, на самой границе Венсенского леса. Как было заранее условлено, там на обширной зеленой поляне перед кабачком „Седой пастух“ нас уже поджидало около сотни рабочих из Бельвиля, Менильмонтана, Вильетта. Эжен должен был рассказать им о Лондонской конференции, о парижских секциях Интернационала, – тогда о них знали лишь немногие.
День был солнечный, ясный, хотя осень уже позолотила местами листву каштанов. Владелец кабачка, обрадованный предстоящей выручкой, вынес на поляну, под развесистые кущи деревьев, все столики своего небогатого заведения, на них – кувшины с пивом и квасом, бутылки дешевого вина. И что меня удивило – в толпе, ожидавшей нас, оказалось немало женщин, а некоторые из них привели с собой и детей. И оделись все, словно на праздник: яркие цветастые кофточки и косынки, кокетливые чепчики, а кое-где и шляпки.
Прежде всего нас с Эженом заставили выпить по стакану вина, и отказаться от простодушного, сердечного угощения было невозможно, это значило бы обидеть хороших людей.
Я пишу это ночью. За окнами спит притихший, обезлюдевший на несколько часов Париж, лишь башенные часы каждые тридцать минут нарушают тишину. Уснул и Эжен, набегавшийся за последние дни и уставший до полусмерти. Как и другие делегаты, ездившие в Лондон, он выступает на рабочих собраниях, во всевозможных кафе и закусочных по многу раз в день. И слушают его удивительно!..
Но я начал рассказывать о поездке в Венсенн. Стоит мне хоть на секунду прикрыть веки, я вижу перед собой глаза Эжена, горящие, словно два черных факела, его чистый лоб, вскинутую над головой руку. И слышу голос. У него такой красивый баритон, недаром же его сделали запевалой и солистом в певческом обществе.
Слушали Эжена в напряженном молчании, в коротенькие паузы было отчетливо слышно, как чирикали в ветвях каштанов невидимые птицы.
Эжен рассказывал о волне революций, захлестнувших в конце сороковых годов всю Европу, о революциях, которые крушили империи и опрокидывали троны, повергали в ужас и разгоняли по заграницам королей и королев, буржуа и торгашей, маркизов и баронов. И ветер свободы, как не раз бывало в прошлом, развевал над головами восставших мятежные знамена. Но волны революций, как бы могучи они ни были, неизбежно разбивались об устои монархических крепостей, и снова торжествовали властолюбие и жадность, оставив на городских мостовых лужи крови да на местах боев и казней десятки, сотни, а иногда и тысячи могил. Революции гибли, горячо говорил Эжен, лишь потому, что мы, рабочие, всегда и во всех странах разрознены нуждой, бесправием, голодом и произволом. И именно сейчас, как никогда, необходимо объединение!
Возгласы поддержки и аплодисменты дали Эжену коротенькую передышку. Многие за столиками встали, и какой-то бородач в заплатанной на локтях блузе крикнул:
– Дорогой Варлен! За такое доброе дело полагается выпить!
Выпили не шумно, но торжественно, многие подходили к нашему столику, чокались с братом и со мной.
А Эжен продолжал. Я еще никогда не слышал, чтобы он говорил с такой страстью, обычно брат сдержан в собран, пытается доказать свою правоту логикой, пусть холодными, но неопровержимыми доказательствами, а сегодня стал совсем другим. И вообще я заметил, что поездка в Лондон заметно изменила его, он стал решительнее и как бы тверже.
– Говорите еще, Эжен Варлон! – кричали за столиками, когда Эжен замолкал. Поднимались и глухо звенели жестяные кружки, кое-где падали па столики и на головы людей увядшие каштановые листья. Многие передвигали столики или пересаживались поближе к нам.
И Эжен говорил снова, изредка улыбаясь своей теплой и чуть стеснительной улыбкой.
– Да, каменотесы и литейщики, милые измученные непосильной работой женщины! Объединение, провозглашенное конечной целью интернационального братства трудящихся, стало могучей движущей силой! И не одни мы понимаем это! Ощущают, понимают нашу растущую силу и враги, те, кто присваивает себе львиную долю нашего труда, наших сил, кто отрывает куски наших жизней! Не зря Империя Луи Бонапарта, играя в либерализм, пытается подкупить нас грошовыми подачками! В прошлом году нам швырнули обглоданную кость с царственного стола, отменили проклятый закон Ле Шанелье, разрешили собираться для обсуждения наших нужд. И в то же время заткнули нам рот полицейским кляпом, запретили говорить о политике. И на каждом нашем собрании должен восседать чин, блюдущий интересы Империи! Нам разрешили издавать рабочие газеты, но не дают возможности писать о политике, об императоре и его министрах! Так, газету „Рабочая трибуна“ закрыли на четвертом номере за статью Лимузена о непомерно высокой, непосильной для нас квартирной подате. Правда, мы тоже кое-чему обучились за эти годы, мы вновь и вновь воскрешали свою газету под измененными названиями – до тех пор, пока у нас находились на ее издание деньги!
– Славная была газета, что и говорить! – крикнул кто-то.
Эжен удовлетворенно кивнул.
– После отмены закона Ле Шанелье правительство Бонапарта скрепя сердце разрешило забастовки, и в двух прошлогодних забастовках переплетчики Парижа одержали первые свои победы, добились сокращения рабочего дня и увеличения оплаты труда. Разве такой факт не говорит о нашей нарастающей силе? – Из жилетного кармана Эжен торжественно вынул серебряную луковку часов, отстегнул цепочку и показал собравшимся. – Вы видите эти часы? На их крышке выгравировано моим другом Бурдоном: „Варлену – в знак признательности от рабочих-переплетчиков. Сентябрь 1864 г.“. Я горжусь этим подарком товарищей, но показываю их вам не из бахвальства, а для того, чтобы убедить вас в необходимости солидарности и борьбы. Потому что, в конце концов, дорогие друзья, это борьба за жизнь ваших детей, за ваши собственные жизни, за то, чтобы ваши жены и сестры не падали у прядильных станков в голодные обмороки, не рожали на полу цехов недоношенных детей, не умирали от истощения и труда в тридцать – тридцать пять лет. Мы, переплетчики Парижа, сейчас работаем одиннадцать часов в день, а многие из вас еще стоят у машин по тринадцать и четырнадцать! Вы можете добиться улучшения условий труда и уменьшения рабочего дня, если будете действовать сообща, если придете к нам, в секцию Интернационала на рю Гранвилье, Дом сорок четыре! В случае забастовки и столкновений с хозяевами, вы можете рассчитывать на нашу поддержку, на, пусть и небольшую, денежную помощь!..
Я бывал с Эженом на многих таких собраниях. И надо сказать, что они не всегда проходят спокойно и мирно. Иногда в самом разгаре раздается условный свист пикетчика. Значит, приближается либо ажан, либо шпик, которых в Париже развелось несметное количество. Об этом можно судить хотя бы по песенке, которую мальчишки распевают по рабочим кварталам во всю глотку: „Хлеб дорог, а деньги редки. Осман все время повышает квартирную плату, правительство скупо, и лишь сыщикам платят хорошо!“
Заслышав условный сигнал, Эжен огорченно разводит руками и, прервав речь, начинает с прибауточками рассказывать о чем-нибудь более безобидном, виденном в Лондоне, о том, как живут тамошние докеры и матросы, как они организовали свои тред-юнионы. Шпика обычно сейчас же опознают, он всегда выделяется: либо ведет себя развязно, либо пугливо ежится и озирается по сторонам. И двое дюжих парной тут же подхватывают прилежного служаку под руки и, балагуря, тащат в ближайший кабачок: „Мосье, не лучше ли опрокинуть лишний стаканчик, чем слушать пустые речи?“ И собрание продолжается своим чередом…
Я с гордостью записываю эти подробности и счастлив, что у меня такой брат, которого в случае опасности всегда найдется кому заслонить и уберечь от беды.
А теперь… мне хочется проделать один рискованный опыт. Слова Эжена о том, что я при желании и настойчивости могу стать писателем, всерьез запали мне в душу. Пусть многие сочтут это необоснованными претензиями честолюбивого юнца, но – попробую! Я попытаюсь написать рассказ об Эжене, не будучи свидетелем его поездки…
Итак, я перевоплощаюсь в Эжена Варлева, я его alter ego. Я говорю теми же словами, которыми говорил он, вижу его глазами окружающих; в моей груди бьется его сердце… Надеюсь, брат не осудит меня за чрезмерную самонадеянность, когда прочитает написанное мной…»
ALTER EGO ЭЖЕНА ВАРЛЕНА
(Тетради Луи. 1865 год)
Весь день на улице перед домом Деньер гремел бой, хлопали выстрелы, изредка надрывно бухала на баррикадах пушка, пронзительно и по-детски жалобно ржала, видимо, смертельно раненная лошадь, отчаянно кричали люди.
Клэр не подходила к окнам, не открывала жалюзи, не раздвигала штор. В двух или трех местах шальные пули разбили стекла, со звоном сыпались осколки за бархатом занавесок. Оставаться в столовой было небезопасно, да к тому же от стрельбы и криков у Клэр мучительно разболелась голова.
Строго приказав Софи не выходить на улицу и дверь открывать лишь на условный троекратный стук, Клэр перебралась в спальню, – здесь окна смотрели во двор, под ними зеленый по-парижски крошечный садик, два цветущих вишневых деревца, кустики жасмина и роз. Они часто казались Клэр узниками тюрьмы, эти нежные хрупкие создания, рожденные для свободы и простора, но обреченные жить и умереть в окружении камней… И все же жалкий садик доставлял ей немалую радость. Заботливый покойный муж, приобретя дом, сразу же велел специально пробить в стене спальни дверь, а за ней пристроить балкон. Летом там ставили шезлонг и круглый столик, – в свободную минуту Клэр любила посидеть здесь в одиночестве, почитать, подумать… Но сейчас плотно прикрыла и эту дверь: грохот боя на баррикаде доносился и сюда.
Прошлая ночь миновала для Клэр сравнительно спокойно, бои шли тогда в районе Марсова поля, Дома Инвалидов и на набережных Сены вблизи Тюильри. Ночью стрельба почти стихла, но Клэр просыпалась три или четыре раза и думала об Эжене и Луи: где сейчас эти сумасшедшие, что с ними? Но за всю ночь в дверь никто не постучал.
В спальню Клэр унесла и две тетради Луи. Не могла принудить себя заняться каким-либо делом, да и не было и не могло быть в такие часы никаких дел. Оставалось только притаиться и ждать, когда окончится побоище, да молить всевышнего, чтобы снаряды версальцев пощадили дом.
Во внутренних комнатах достаточно тихо. Привычный уют. Шкафы любимых книг в тисненных золотом и серебром переплетах, мраморные копии любимого Микеланджело, над диваном – гордость Клэр – подлинный Корреджо. Но покоя все равно нет. Она долго, до усталости, до изнеможения, ходила из угла в угол, наконец позвонила Софи, попросила подать крепкий кофе.
И, выпив чашечку, почувствовала себя бодрее, снова вернулась к тетрадям Луи. Открыла десятую, незаконченную тетрадь, прочитала последнюю строчку – написана она неровно и крупнее других:
«Если с Эженом что-то случится, я не могу и не хочу больше жить».
Ну еще бы! – подумала Клэр. Нетрудно понять чувства, водившие этой рукой. Хромоногому Луи старший брат был всем: единственной опорой, отцом и матерью сразу, нянькой, учителем, умным и добрым другом. Для обиженного судьбой Луи именно так оно и есть – ведь без Эжена пришлось бы калеке сидеть на церковной паперти с протянутой рукой…
Клэр отложила последнюю тетрадь и взяла ту, которую начала читать вчера, полистала ее странички, кое-где закапанные свечным воском. Вот, кажется, именно здесь она остановилась…
Год 1865. Сентябрь, 23
«Итак, год 1865. Поездка Эжена в Лондон…
Французская делегация и гости, отправляющиеся на Лондонскую конференцию Интернационала, занимают в вагоне поезда „Париж – Гавр“ четыре соседних купе. Почти все хорошо знают друг друга, всех связывают одни заботы и надежды, все вынуждены одинаково гнуть спину по многу часов в день, чтобы заработать несколько франков на свой горький, нелегкий хлеб. В одном купе с Эженом красильщик Бенуа Малой, граверы Анри Толен и Фрибур и художник по тканям Эжен Потье. Каждый надел в этот вояж лучшую одежду, начистил до блеска поношенные штиблеты, все радостно возбуждены. И с торопливой тщательностью ощупывают карманы: все ли на месте, не позабыто ли что?
Эжен в последний раз выглядывает в окно на своего Малыша, видит по лицу Луи, что тот взволнован и огорчен отъездом брата, но заставляет себя улыбаться: он рад и горд за Эжена. Опираясь на изящную тросточку, которую брат подарил ему ко дню рождения, Луи машет свободной рукой. Ему будет грустно и одиноко без Эжена, но он старается скрыть свои чувства. Хорошо, что за последние годы он по-настоящему пристрастился к книгам, а перед отъездом Эжен позаботился о том, чтобы на время разлуки у Малыша было что читать.
– До встречи, брат! – кричит Эжен, высовываясь в окно.
Остальные в купе тоже льнут к вагонному окну, машут шляпами, кепи, шлют воздушные поцелуи. И для отъезжающих, и для провожающих поездка в Лондон – важнейшее событие. Облеченные доверием товарищей, Делегаты Парижа впервые едут на международный рабочий съезд. И даже одно это чрезвычайно важно!
По перрону озабоченно проходит железнодорожник в красной фуражке, три полнозвучных медных удара отзванивает вокзальный колокол, пронзительно свистит впереди невидимый из вагона паровоз. Поезд трогается. Плывут за окнами белые клубы пара, падучими звездами пролетают искры. Мелькают закопченные станционные постройки, ремонтные мастерские, паровозное депо, поворотный круг. Вскоре эта кирпичные постройки сменяются убогими деревянными лачугами окраинной нищеты. Босоногие мальчишки в рваных одежонках, задорно крича, бегут вдоль насыпи… Париж остается позади.
– Ну-с, друзья, в добрый путь! – откидываясь на спинку сиденья, торжественно изрекает, поглаживая свою смолянисто-черную бороду, Анри Толен. Он и Фрибур – главы делегации, но ничем не выдают, не стараются подчеркнуть свое старшинство, сейчас не время для соревнования честолюбий, Эжен доволен, может быть, даже счастлив, но снова и снова продумывает, что же сказать, если ему будет предоставлено слово? Ведь впереди не приятельская беседа в одном из парижских кафе, а международная встреча рабочих. Прошел всего год после того, как в малом зале лондонского Сент-Мартинс-холла был организован Интернационал, а в Цариже он уже завоевал огромную популярность, и совершенно очевидно: его значение в жизни рабочих будет расти и в конечном счете принесет им хотя бы относительную независимость и права.
Варлен очень жалеет, что не знает достаточно хорошо ни английского, ни немецкого, – слишком мало довелось учиться. На конференцию прибудут представители многих стран Европы, но, не поняв их дословно, он, вероятно, далеко не все сможет уяснить и оценить. Вернется в Париж и сразу же вместе с Малышом засядет за учебники. Друг Жюль Андрие не откажется помочь, он прекрасно владеет не только латынью и древнегреческим, но и многими другими языками.
А за окном проплывает тронутая осенней позолотой земля. Крестьяне снимают урожай садов и виноградников, заметно пожухла зелень листвы, кое-где в давильнях уже начинает бродить молодое вино – терпкий, щекочущий аромат брожения ощущается повсюду. Что ж, самая радостная для земледельцев пора, в этом году вемля достаточно щедро оплачивает их труд. Сколько же разбросано по стране таких селений, как крохотный Вуазен, мимо скольких жизней и судеб пронесет их за день пыхтящий, высокотрубный, шумный паровоз!
Однако о чем с такой печальной страстностью беседуют попутчики и друзья Эжена? А, они вспоминают, как совсем недавно погребли, опустили в землю Пер-Лашез дорогого учителя – Пъера-Жозефа Прудона! Вечные ему память и слава! Эжен имел счастье много раз слушать его речи и беседовать с ним, и Прудон всегда напоминал ему доброго пастыря, желавшего всем людям мира и спокойствия.
„Когда я оглядываюсь на историю нашей многострадальной родины, да и всей земли, я просто содрогаюсь от ужаса: неужели для того, чтобы простой труженик стал счастлив, получил возможность достойно зарабатывать кусок хлеба и растить детей, необходимо проливать реки крови и обращаться к ужасному изобретению доктора Гильотена? Кстати, кто-то сообщил мне, будто этот ученый-медик, призванный врачевать людей и облегчать страдания, сам был казнен посредством изобретенной им дьявольской машины. Что ж, хотя я, как уверяют друзья, по натуре совсем не жесток, я счел бы такой конец для сего изобретателя вполне заслуженным. Пожни, что посеял!“ – размышлял Эжен.
„Конечно, из всех философов нынешнего сложного и жестокого века покойный Прудон мне ближе и понятнее всех. Борьба с буржуа и фабрикантами, безусловно, необходима, но и в борьбе люди всегда должны оставаться людьми, мы же не дикари, не животные!.. Он был старше меня на тридцать лет и с первой встречи представлялся мне мудрым и старым, как Моисей. Как беспощадна и бессмысленна смерть: ему исполнилось всего пятьдесят шесть, мог бы еще жить и жить!“
Эжен вспоминает, как его безмерно взволновала речь Потье над могилой Прудона. Стиснув в побелевшем от напряжения кулаке прощальную горсть земли, прежде чем бросить ее на крышку дорогого гроба, Потье произнес строки любимого всеми Беранже:
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!
„Я назвал бы Прудона апостолом добра и правды, пытавшимся защитить обездоленных не насилием, а человечным призывом к справедливости и милосердию. Правда, сомнительно, что всех богатых можно словами склонить к сочувствию чужим несчастьям и невзгодам, – в этом меня убеждает хотя бы письмо моего друга Адольфа Асси из Крезо. Там на сталелитейных заводах Шнейдера Асси работает механиком, – условия труда просто чудовищны, эксплуатация варварская. А ведь Шнейдер – один из столпов государства!
Все-таки поразительная в человеке сила – стремление к наживе, к беспредельному обогащению. Ведь у каждого из нас только одно брюхо и одна жизнь, а в могилу, под землю, никому никогда и ничего не удавалось унести с собой. Как можно, имея все, не снизойти к чужому страданию, пройти мимо протянутой к тебе исхудалой детской ручонки? Или права старинная поговорка, которую любит повторять моя мать: „Богатство не уживается под одной кровлей с состраданием и добром“?“
А за вагонным окном плывут и плывут крошечные лоскутки полей и кое-где видны согнутые в работе спины, – начали убирать поздние овощи. Проезжают нагруженные сеном и соломой громоздкие крестьянские фуры, позванивая колокольцами, бредут меланхолические коровы, взбрыкивает тонкими ножками резвящийся на лугу жеребенок. Краснеют в зелени садов черепичные крыши, иногда серебряной змейкой блеснет под мостом безымянный ручеек, истает в небе синевато-белый дым костра.
„Странно, но почти всегда, когда я вот так, с движущегося поезда наблюдаю за проносящейся мимо родной землей, меня все время не покидает чувство щемящей нежности и необъяснимой тревоги, знакомое мне с раннего детства. Помню, такое же ощущение тревоги вспыхивало во мне, когда я, несмышленым мальчишкой, поднимаясь по ступенькам школьного крыльца, смотрел на мутные грязные окна помещавшейся в подвале тюрьмы. Естественно, я в те годы и приблизительно представить себе не мог, что испытывают люди, лишенные свободы и, может быть, ждущие скорого смертного часа. Теперь мне кажется, что я ощущал тогда такой же суеверный ужас, который испытывает все живое, соприкасаясь или чувствуя рядом близость смерти…“
От беспокойных, дум и воспоминаний Эжена отвлекает громоподобный, вдохновенный голос Потье. Похоже, неистовый поклонник муз сочинил новое стихотворение и призывает попутчиков к вниманию? Ну что ж, дорогой поэт, давай послушаем, кого бичует сегодня твоя гневная лира.
Потье стоит посреди купе с растрепанными седыми волосами, сжимая в испачканной красками руке неизменную записную книжку. Он зарабатывает на пропитание семьи тем, что раскрашивает ткани в мастерской отца, но истинное и единственное его призвание – поэзия! И как всякий подлинный поэт, Потье убежден, что именно его слово, кипящее, словно лава, призвано изменить и перестроить мир. Товарищи смотрят на Потье с тем восторженным и чуточку снисходительным обожанием, с каким взрослые наблюдают за расшалившимся, но любимым ребенком. А он, как всегда, неисправим, этот седоголовый, бородатый и остающийся вечно юным увлеченный человек!
Торжественно потрясая над головой записной книжкой, Потье обращается к Малону:
– Внимай рабочему поэту, красильщик-пролетарий Бенуа Малон! Эти великолепные стихи созданы мной давно, но именно сегодня я посвящаю их тебе, дорогой друг!
Дверь в коридор открыта, и перед ней собираются пассажиры соседних купе, все они любят Потье и в любую минуту готовы восхищаться его творениями. На лицах сияют горделивые улыбки: трудовой Париж считает Эжена Потье достойным наследником Беранже.
– Давай, Потье! Жми, Эжен! Давай!
И поэт читает так, что голос его заглушает железный перестук и дребезг колес:
Но справедливого закона слово,
Приязнь умов и душ у нас в крови.
В концерте единения людского
Звучат аккорды дивные любви.
И возликует сердце, молодея,
Штыком не лечат человечий род,
В калеку превращая Прометея!
Рыдайте, звезды, шар земной умрет!
Потье обводит слушателей торжествующим взглядом, глаза его сияют.
Гигант, рыданьем душу надрывая,
Утихнет наконец – и мертвеца
Проглотит вечность темная, пустая,
Пучина без начала и конца.
Его на кладбище миров в могиле
У Млечного пути разыщут – вот
Планета, на которой люди жили.
Рыдайте, звезды, шар земной умрет!
Долго по всему вагону гремят аплодисменты, в купе набивается полно народу, каждому хочется пожать руку поэта. А он, вырвав листочек из записной книжки, с поклоном преподносит его Бенуа Малону. Но Варлен, чуть помолчав, спрашивает его:
– Почему так мрачно, дорогой тезка?! Едем мы на небывало радостное дело, а ты преподносишь Бенуа траурную эпитафию, адресованную планете! Не рано ли хоронить земной шар? Может, как раз настала пора подумать о более счастливом его будущем, а?! Сочинил бы ты, дружище, что-нибудь бодрое!
Потье резко оборачивается к Варлену, и горделивая, счастливая улыбка медленно гаснет на вдохновенном лице. Но через секунду глаза его снова загораются.
– А ведь мой тезка прав, друзья! Нужны сильные и дерзкие песни! Напишу! Я клянусь, напишу, Эжен! – Он с силой хлопает себя широченной ладонью по лбу. – Обязательно напишу! Ну, что-нибудь… Постойте, постойте… Ага!.. Вставай, несчастный, заклейменный, весь мир измученных рабов. А?
И опять по всему вагону гремят аплодисменты, кто-то тискает, обнимает Потье, а Бенуа Малон сосредоточенно перечитывает отданные ему стихи.
– Все же я с благодарностью принимаю драгоценный дар! – говорит он и прячет листок в бумажник. – Мне до сих пор никто не посвящал стихов, я недостаточно красив и привлекателен. А ты, милый поэт, весьма нередко посвящаешь свои песни женщинам – то какой-то таинственной Каролине П., то Берте П., то Луизе Мишель! О, в юности ты, вероятно, изрядно погрешил, признайся! Женщины всегда, во все века были неравнодушны к поэтам!
И Потье с грустной и в то же время довольной улыбкой утвердительно покачивает седой головой.
– Не спорю, Бенуа, были в моей жизни радости!
И снова поезд мчится но осенним просторам, сквозь словно настоянный на расплавленном золоте день. Под грохочущим мостом пропосится лазоревая полоса Сены, секунду белеет на ней косой рыбачий парус, натужно пыхтит, извергая клубы дыма, замызганный труженик буксир, волоча за собой низко осевшую баржу. Прибрежные ивы роняют на воду желтые перышки…
Изредка поглядывая на Потье, видимо погруженного в воспоминания юности, Эжен думает о другом одаренном человеке, с которым судьба свела его совсем недавно. „Перо и шпага Республики“ – так уважительно и с гордостью зовут друзья Шарля Делеклюза. Решив посвятить свою жизнь делу борьбы с тиранией Наполеона Малого, Шарль пришел к убеждению, что истинный боец за свободу народа должен ради светлой цели отказаться от всего, что именуется счастьем личной жизни, отказаться от семьи и любви. Много раз он сидел в тюрьмах Парижа, в одном из самых страшных французских казематов, в корсиканской тюрьме, в бретонской крепости Белль-Иль, в марсельской тюрьме, отбывал каторжный срок в Кайенне. И ничто не могло сломить мужественного человека. В своей книге „Из Парижа в Кайенну“, изданной в 1860 году, Делеклюз писал; „Человек создан для действия, для борьбы! Поражение во сто крат лучше, чем бездействие; даже страдание лучше пошлого благополучия, бесполезного существования“.
„А ты сам мог бы поступить так, Эжен? Не знаю, не могу ответить. Ведь окажись Клэр Деньер не буржуазной, а человеком близкой, родственной мне судьбы, кто знает, чем окончился бы ваш так и не состоявшийся роман? А позже, когда ты поставил крест на возможности близости с Клэр Деньер, разве не заглядывался ты на гордую и красивую польку Марию Яцкевич, которая работала брошюровщицей в мастерской Клэр?“
У очаровательной и чуточку надменной женщины всего год назад трагически поломалась жизнь. За участие в польском восстании шестьдесят третьего – шестьдесят четвертого годов ее любимого повесили, а ей с великим трудом благодаря помощи друзей удалось избежать знаменитой на весь мир царской сибирской каторги. Так она очутилась здесь, в Париже, и после пережитых ужасов, суда и казни товарищей еще не научилась снова улыбаться, хотя улыбка у нее, наверно, должна быть прелестной…
„Ну, однако, не станем ковырять старые царапины. А с пани Марией мы встретимся еще не раз, дорога у нас одна. Пройдут годы, заживут, зарубцуются ее раны, и тогда, кто знает, как повернется жизнь…“
После подавления восстания в Варшаве польские эмигранты образовали в Париже многочисленную колонию, Варлена познакомили с Ярославом Домбровским и Валерием Врублевским, – в России их приговорили не то к каторге, не то к смертной казни, и, если бы не верность и находчивость товарищей, они погибли бы.
Требовательный голос Анри Толена возвращает Эжена к действительности:
– Однако, граждане, теперь, когда отъездные хлопоты позади, не пора ли подумать о делах? Полагаю, что в Лондоне самая главная наша задача – проповедь трудов покойного учителя. Как вы понимаете, я говорю о Пьере-Жозефе Прудоие. У германской нации есть Фердинанд Лассаль, у англичан был Адам Смит, но мне представляется, что как философы и вожди они куда мельче, незначительнее нашего дорогого покойного учителя. Догадались ли вы, достопочтенные господа, захватить с собой наше новое евангелие? Я имею в виду „Философию нищеты“?
– Ну как же, Анри!
Толен с удовлетворением поглаживает свою окладистую бороду.
– Значит, все в порядке! Я хотел удостовериться, что мы не зря уполномочены рабочим Парижем!
Никто не возражает Толену, и он, солидно помолчав, продолжает тем же отеческим, наставительным тоном:
– Несмотря на краткость повестки предстоящей конференции, мы и при частных встречах должны использовать все возможности для пропаганды наших идей. Опыт французских революций, начиная с Великой, через тридцатый, сорок восьмой и пятидесятые годы показал, что стремление захватить власть силой оружия приводит лишь к неисчислимым потерям! Необходимо, друзья, вспомнить еще вот о чем! Вы все знаете, что доктор философии Карл Маркс в книжке „Нищета философии“ выступил с резкой критикой нашего незабвенного учителя! Мы не должны попасться на удочку Маркса! Нам предстоит заявить со всей решительностью о верности идеям Прудона! – Анри, оглядывая всех, улыбается с тонкой проницательностью. – Мне представляется, что доктор Маркс не испытал того, что испытали французы, на собственной шкуре, он не внает ужасов Кайенны и Ламбесы, каменных застенков Мазаса и Сент-Пелажи…
Но Эжен не может не возразить Толену:
– Э, нет, Анри, сейчас вы не совсем правы. Маркс такой же изгнанник родины, как наш великий Виктор. Уже полтора десятилетия Гюго вынужден жить в изгнании. И доктор Маркс более двадцати лет назад изгнан из родной ему Пруссии, и при попытке вернуться его ждут в лучшем случае кандалы, а в худшем – так называемая „шальная“ пуля, которыми нередко приканчивают неугодных режиму. И еще напомню, что и из Парижа Маркс высылался по требованию прусского правительства. Так что…
– Все это мне известно, любезный Эжен! – перебивает Толен с оттенком нетерпения. – Просто я хотел подтвердить общность нашей программы и позиции на конференции.
И, желая прекратить разговор, Толен, привстав, достает с багажной полки объемистый саквояж.
– А теперь, друзья-приятели, не пора ли заглянуть в продуктовые кладовые, снаряженные нам в путь родными руками?
– Дельно! Давно пора! – подхватывает Потье и бережно прячет в боковой карман сюртука потрепанную записную книжку. – И, кстати, хороший обед не помешает деловому разговору, не так ли?
Через минуту на столике становится тесно от пакетиков с едой, бутылок с вином и походных, так называемых охотничьих стаканчиков. И за разговорами и шутками незаметно летит время.
– Руа-ан! – нараспев покрикивает в коридоре кондуктор, постукивая ключом в двери купе. – Руа-а-ан, мадам, мадемуазель и мосье! Кто просил предупредить? Ру-а-ан! Стоянка – десять минут!
…В Гавр поезд прибывает к ночи. Синевато-сиреневый свет газовых фонарей заливает перрон. Гомон, крики носильщиков, агентов гостиниц, продавцов вечерних газет. В обшарпанном открытом экипаже пятеро друзей отправляются в порт. Весело и громко гремит в портовых кабачках музыка дешевых оркестриков, мерно покачиваются вонзенные в небо мачты кораблей, пляшут на море латунные отблески лунного света.