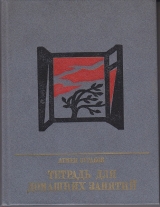
Текст книги "Тетрадь для домашних занятий. Повесть о Семене Тер-Петросяне (Камо)"
Автор книги: Армен Зурабов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Русанов сдержал слово, только до смешанного присутствия произвел еще в сентябре освидетельствование: были понятые, его раздели, и доктор из Михайловской больницы Орбели, которого он узнал на суде, выслушивал его, приятно щекоча пышными мягкими усами его грудь, выворачивал веки, постукивал по ребрам и лопаткам, прикладывал к спине зажженную папироску, вздыхал, что-то быстро, волнуясь, говорил, но он не понимал слов, потому что все время ждал боли и воспринимал только ее, и она то и дело возникала в разных местах, и он, уже привычно, всем телом напрягаясь, гнал ее вглубь, куда-то в центр живота, подальше от рук и лица, которые могли ее выдать.
И насчет лета Русанов не обманул: каждое утро сквозь решетку тяжело вползал в окно новый день, неотвратимо разбухал, наполнял камеру душащей безысходностью, и он ложился тогда не на койку, а на каменный пол и лежал так на полу до самого захода, и весь день на прутьях решетки дремал воробей, и его четкая, ясная на фоне окна безмятежность напоминала о неистребимости жизни – и так, ничего не делая, воробей опять помогал ему находить силы, а к вечеру, когда солнце заходило и лучи его освещали окно, воробей слетал на пол, ходил, подпрыгивая, по камере и верещал, и было видно, как клубящимся маревом уползает сквозь решетку еще один день.
Смешанное присутствие окружного суда состоялось в ноябре: долго и утомительно читали «скорбные листы» тюремной больницы, опрашивали врачей – военных, тюремных, гражданских, опрашивали свидетелей и среди них – доставленный из Гори отец Аршак Тер-Петросян, и тетя Лиза, и Джаваир, и следователь Малиновский, и надзиратель Прохоренко, и артиллерийские специалисты, и пиротехники, понимающие толк в бомбах и осколках, и опять кололи и прижигали папиросками, и теперь это делали уверенно, не торопясь, не сомневаясь в его нечувствительности и только подтверждая ее перед судом, а он опять разговаривал с воробьем или обращался вдруг громко ко всем и объяснял, что Вася его брат и все – тоже воробьи и братья, только не знают этого, потому что никто не сидел в одиночной камере и не знает, что такое, когда день и ночь один, и вдруг прилетает к тебе воробей, и ты больше не один, а он может улетать, но не улетает, и тогда ясно, что это твой брат, и думаешь, как это раньше я не понимал, а они и сейчас не понимают и думают, что это он сошел с ума, а это они сошли с ума, потому и не понимают; и за все эти слова, и потому еще, что он опять не замечал, что в это время с ним делали, а воробей Вася все время сидел у него на плече и не взлетал даже, когда шипела у него на спине от папироски кожа, – за все это смешанное присутствие второго уголовного отделения окружного суда постановило подвергнуть арестанта Семена Аршакова Тер-Петросова наблюдению в психиатрическом отделении Михайловской больницы, и это было единственное, чего не предвидел следователь Русанов.
Двадцать первого декабря, на рассвете, ему сменили кандалы и вывели из Метехи. У ворот ждали солдаты. Воробей Вася сидел у него на плече. Шел мелкий снег. Под ногами хлюпала грязь. Под Ишачьим мостом бесшумно кружили завораживающие кольца водоворотов.
На противоположной стороне моста, у голубой мечети, стоял мулла в красной чалме, бесстрастно смотрел на проходивших мимо солдат, увидев человека в кандалах, не меняя позы, чуть заметно задвигал губами, приложил ладони к груди и вискам.
Через Майданскую площадь, сверху, от церкви Сурп-Геворка спускался мацонщик. Он сидел на крупе ишака, а перед ним с обоих сторон свисали набухшие карманы хурджина. Мацонщик соскочил с ишака, достал из хурджина кувшин и, оставив ишака посреди площади, побежал к солдатам. Его отгоняли, но он не отставал, и тогда один солдат с силой оттолкнул его, он упал, и по коричневой грязи долго растекалась из кувшина белая масса. Мацонщик так и остался на земле, словно и не заметил, что упал, приподнялся и смотрел им вслед.
Потом шли по Армянскому базару мимо лавок и растворов, еще перекрытых длинными железными засовами, и мимо караван-сарая с башенкой, похожей на широкий шпиль, а чуть ниже, сразу за ним, врывшийся в землю низкий вход в Сионский собор, и священник уже, вероятно, ходит по двору вокруг церкви, то и дело останавливается и как будто здоровается со стенами, и мимо синагоги – большой, массивной, из красного кирпича, с круглыми окнами, внутри которых рамы в виде шестиконечных звезд, и синагога еще закрыта, но у ворот во дворе синагоги уже стоят старики с настороженными глазами, и в лицах их озабоченность пастухов, охраняющих свое стадо, а потом – Эриванская площадь, и в Пушкинском сквере, у бронзового бюста Пушкина, на том самом месте, где Пация раскрыла свой красный зонт (а не раскрой Пация зонт, не было бы тифлисского экса, и ареста в Берлине, и сумасшествия), на том самом месте, на скамейке перед бюстом Пушкина, сидел городовой и спал, и на лице его – беспомощное блаженство младенца, а ниже по Пушкинской на ступеньках хашной замерли и сонно смотрят на солдат двое карачогелов в остроконечных высоких шапках и с ними еще один – в пальто и шляпе, с ярким зеленым шарфом вокруг шеи, вероятно, художник или поэт, и вдруг этот, в шляпе, крикнул: «Да воздаст тебе бог за все твои муки, брат!», снял шляпу, поклонился и так, склонившись, стоял, пока он с солдатами проходил, и карачогелы тоже сняли свои остроконечные бараньи шапки и тоже поклонились, а у Солдатского базара еще было пустынно, и только женщина-курдианка, подметавшая улицу, что-то крикнула двум курдам, которых он сразу и не заметил в маленькой подворотне, они вышли и стали посреди улицы, и солдаты чуть свернули, чтоб не натолкнуться на них, и шли мимо Александровского сада под большими белыми платанами – их голые ветки протягивались из сада на улицу, и за стволами их и за пышными зелеными кустами город исчезал, а на Воронцовском мосту сразу стало просторно, – и в обе стороны от моста стал виден весь город – и Авлабар с огромной даже издали желтой кирпичной Армянской семинарией, и над самой Курой, на скалах, дома с веселыми деревянными балконами, и нарядная круглая башня древнего царского дворца, и вокруг башни тоже деревянный балкон, и у самого моста, внизу, задумчиво выныривающие из Куры большие почерневшие колеса водяной мельницы, а с другой стороны от моста, вдали, схватившись за перекинутый через Куру канат, окруженный белой пеной, перерезает течение паром, и над всем этим – большая, легкая, спустившаяся с неба гора обнимает город долгими мягкими склонами, и по ним, становясь друг на друга, взбираются к ней красивые дома, а сверху, с горы, можно увидеть их красные железные крыши, и Нарикала сверху – маленькая, прижавшаяся к городу с краю, а за ней из ущелья Дабаханки выползает Ботанический сад, и видно Коджорское шоссе, и прямо, вдали, под самым небом большие темные квадратные пятна Ходжеванки и Худадовского леса, и между ними тесно, беспорядочно вбитые в крутые склоны домики Окросубани и Нахаловки и Махат-гора, и там, под горой, в каком-то сарае казаки никак не могли его когда-то повесить…
После Воронцовского моста свернули на Михайловскую, и она сначала опять была узкой, а после Главной почты расширялась, и Михайловская больница по-прежнему напоминала средневековую немецкую крепость, а отделение для сумасшедших было у самой Куры – розовое, с решетками на редких узких окнах, окруженное глухой, высокой, тоже розовой, каменной оградой. И когда вошли во двор, там под пустыми деревьями уже бродили несколько человек в серых халатах, но они не обратили на солдат и на него внимания, а он обрадовался им, как радовался каждому, кого встречал, пока шел, и еще, пока он шел, все казалось ему как бы продолжением его тела, и ему даже пришла странная мысль, что, может быть, это и есть его настоящее тело – этот город, и гора над ним, и все горы вокруг, и небо, и воздух, а его руки, ноги, глаза, уши, кожа – только то, что связывает его с телом; вероятно, это чувствует каждый, кто долго сидел в тюрьме, подумал он, а я впервые сидел так долго, целую жизнь, и поэтому сейчас сразу это почувствовал, а Житомирский – дурак, пока все это есть и даже если останется только пыль от всего этого, я еще буду жить, и каждый так живет, и нет смерти, а есть то, что я сейчас чувствую, но еще до того, как он об этом думал, от самого Метехи, всю дорогу была разрывающая горло нежность ко всему, что он видел, и земля, по которой ступали его ноги, была их бесконечным продолжением… А потом это прошло и осталась странная, спокойная благодарность за все, что он почувствовал, и даже к солдатам за то, что они все это время шли рядом, и к воробью, что по-прежнему сидел у него на плече…
Воробей улетел в день побега.
Все восемь месяцев до этого дня он прожил в отделении для буйнопомешанных, летал по комнатам и коридорам, щебетал, клевал, ко всем был доверчив, развлекал даже городовых, приставленных к дверям снаружи, а служитель больницы Игнат Брагин приносил специально для воробья зерно и кормил его из рук, а потом Брагин отнес Джаваир письмо – это уже в июле…
В тот день Брагин рассказал ему, что всю зиму и весну главный врач Гурко требовал снять с номера тридцать восьмого кандалы: писал в окружной суд и к помощнику наместника, мол, звон кандалов возбуждает других больных, и окружной суд теперь постановил перевести его в военный госпиталь, и поэтому нельзя было ничего откладывать, и он попросил Брагина отнести Джаваир письмо. В письме он требовал организовать побег и спрашивал, не думают ли они, что он действительно сошел с ума?
С Брагиным он договорился сам. Брагин был крестьянином Пензенской губернии, хотел уйти из больницы, уехать за границу и учиться, и он обещал это Брагину.
Брагин отнес Джаваир еще несколько писем, и он уже знал, что комитет поручил организацию побега Котэ Цинцадзе. Джаваир прислала с Брагиным английские пилки и веревку, и еще неделя ушла на то, чтобы перепилить кандалы и решетку на окне в клозете, а в день побега, утром пятнадцатого августа, воробей улетел. Потом, рассказывая о воробье Ленину, Горькому и многим другим, он говорил, что воробей улетел в день побега, потому что знал, что больше не понадобится и все пройдет удачно.
Накануне Брагин отнес Джаваир последнее письмо, купил у служителя Жданкова отпуск и уехал в Кутаиси – оттуда Барон должен был переправить его за границу.
С утра было душно или это казалось. Котэ Цинцадзе появился на противоположном берегу Куры прямо напротив его окна, и он сразу его увидел. Котэ взмахнул платком один раз, и это означало, что надо приготовиться. Потом он стал ждать, когда Котэ взмахнет платком три раза, – тогда надо вызвать служителя и пойти в клозет.
К тому месту, где стоял Котэ, по откосу медленно спустился к реке старик в соломенной шляпе. Впереди него бежала собака. Собака остановилась у воды, обернулась и ждала, когда хозяин подойдет. Хозяин подошел, и собака вошла в воду и поплыла вдоль берега, а хозяин пошел рядом с ней по берегу и что-то говорил. Потом пошел обратно. Собака тоже повернула и поплыла обратно… Старик вечно будет так ходить по берегу… Через час станет еще жарче, и старик сам влезет в воду. А Брагин уже в Кутаиси… А меня переведут завтра в госпиталь. В госпитале я лягу и буду спать. День и ночь буду спать. У меня остались теперь силы, только чтобы спать. И вешать поведут – буду спать. А Котэ будет вот так стоять. Красивая у Котэ фигура, стройный и в талии тонкий, настоящий аристократ, вероятно, хорошо танцует, а я ни разу не видел, как он танцует… И у Котэ хорошие нервы. А мои нервы испортились. Я ждал этой минуты четыре года и теперь буду смотреть, как старик купает свою собаку. Котэ, конечно, растерялся, он успокоится и что-нибудь придумает… Старик может быть и полицейским. Котэ тоже об этом подумал. Сейчас старик пройдет мимо Котэ, Котэ стоит выше, может прыгнуть на него, связать и заткнуть рот. Котэ не сидел четыре года в сумасшедшем доме – в этом все дело! И одного дня не сидел – только в тюрьмах… Через час или два к Куре спустятся еще люди. А ночью под окном стоит городовой… А наутро меня переведут в госпиталь… Мне бывало и труднее, но я всегда мог действовать. Сейчас я не могу даже крикнуть… Жалко, что бога нет. Это такой пустяк для бога – сделать так, чтоб старик ушел. Надо, чтобы этот дурацкий старик ушел прежде, чем придут на берег люди! Сейчас может помочь только мать. На этот раз ей будет трудно. Труднее, чем раньше. Я не ждал этого. Я все подготовил и все продумал, но этого я не ждал. Никто сейчас не поможет, кроме тебя. Ты все делала сама. В первый раз я прошу. Каждый хочет увидеть то, ради чего живет. Я хочу увидеть, как будет после революции. Я знаю, люди будут жить хорошо, но я смогу до этого дожить, если этот старик сейчас уйдет.
За дверью раздались шаги, защелкал замок, вошел служитель Григорьев, молча поставил на стол кружку чая, глазами показал на окно: что там? Григорьев должен был отвести его в клозет, а потом уйти в палату, куда его позовет другой служитель, Жданов.
Он снова посмотрел в окно: Котэ стал быстро спускаться по откосу вниз, к реке, подошел к старику почти вплотную, пошел рядом с ним, что-то говорил, вдруг стал смеяться. Старик не обратил на него внимания. Котэ плеснул на старика водой и расхохотался. Старик опять не обратил на него внимания. Котэ остановился, поднял камень и небрежно, словно просто отбросив с дороги, закинул его в воду и, видно, попал в собаку, потому что собака взвизгнула и, продолжая визжать, выскочила из воды, отряхнулась и побежала по откосу вверх. Старик, не оборачиваясь, пошел за ней. Котэ растерянно смотрел им вслед. Когда они скрылись, Котэ достал платок и быстро, отчаянно махнул три раза.
Григорьев еще был в комнате. Он обернулся к Григорьеву и, срывая от внезапного волнения голос, сказал:
– Веди… Веди в клозет, Григорьев!
Григорьев, споткнувшись, пошел к двери.
Потом, гремя кандалами, он шел с Григорьевым по коридору, а когда вошел в клозет, Григорьев побежал на крик Жданова в одну из палат, а он сорвал с перепиленных кандалов проволоки, на которых они держались, снял кандалы, скинул больничный халат и шлепанцы, отогнул перепиленные прутья решетки, привязал веревку, выкинул другим концом за окно, кандалы связал проволокой, положил на подоконник, схватился руками за крайние, не перепиленные прутья решетки, подтянулся, взобрался на подоконник, сел, высунул в окно ноги, схватил ногами веревку, повесил на шею кандалы, вылез, удерживаясь руками за решетку, схватил веревку одной рукой, потом – второй и так, перебирая руками, стал спускаться, пытаясь зажать веревку и ногами, но веревка была тонкой, и ноги теряли ее, и от этого вся тяжесть приходилась на руки, и руки сразу стали болеть, казалось, веревка насквозь перерезает ладони, а он смотрел вниз, на жесткую, высохшую траву у подножья стены и видел, как она приближалась… Вдруг трава колко прижалась к лицу, и он не сразу понял, что упал, потому что никакая боль в руках не заставила бы его отпустить веревку – руки его продолжали сжимать веревку, и она лежала рядом с ним на траве. Он встал на ноги, посмотрел вверх, увидел над собой болтающийся обрывок веревки и только тогда понял, что веревка оборвалась, и, уже думая только об этом, что ему прислали гнилую веревку, устало пошел к реке.
Он спотыкался, падал, но вода освежала его, и он находил силы подняться.
На середине реки остановился, снял с шеи кандалы и бросил их в воду. Брод здесь был по пояс, и он увидел вдруг несущееся на него со всех сторон пространство. Он закрыл глаза, постоял так, с закрытыми глазами, несколько мгновений и открыл их. Навстречу ему по пояс в воде шел Котэ.
– Все могло сорваться! – крикнул он Котэ. – Я мог сломать ноги… Какой ишак дал тебе эту веревку!
И все время, пока шел к берегу, разгребая руками воду и задыхаясь от усталости, говорил о гнилой веревке.
Котэ подхватил его под мышки и помог выйти на берег. Он без сил повалился на песок. Котэ набросил на него плащ, надел фуражку и стал поднимать. Он сам схватил Котэ за шею, и Котэ почти тащил его по крутому откосу.
По набережной они шли под руку, тесно прижавшись друг к другу, как пьяные, и так перешли Верийский мост, а на Великокняжеской стояли извозчики. Потом долго ехали на извозчике по разным улицам и переулкам, пересели в трамвай, снова, не торопясь, под руки шли по Пушкинской и через Эриванскую площадь, а на Веньяминовской вошли в управление тифлисского полицмейстера и спустились в подвал – там уже были приготовлены свечи и еда.
В подвале полицмейстера он просидел несколько дней. Котэ приносил газеты, в которых сообщалось о его розыске, а однажды он прочел об аресте Брагина в Кутаиси, и с того дня Котэ больше не приходил, и он понял, что Брагин дал показания. Потом ему сообщили, что вместе с Котэ арестованы Джаваир и еще несколько человек.
Комитет предлагал перебросить его в Константинополь, но он поехал в Баку – чтоб узнать у Сегаля о Житомирском. (Сегаль знал Житомирского еще до того, как тот уехал в Берлин учиться.) Комитет запретил ему ехать в поезде, и он добирался до Баку сначала пешком, потом на лошадях и через несколько дней, рано утром, пришел на квартиру Сегаля, разбудил его, и тот со сна принял его за Аршака Зурабова, а он сказал:
– Житомирский – предатель. Поеду в Париж, найду его и убью.
Что было потом?..
После побега все сливалось в неразделимый сплошной стремительный поток, и теперь, вдруг останавливая его на отдельных днях и событиях, он почти не различал подробностей – казалось, память не могла уже удержать то, что было слабее пережитого, и остаться в ней могли только целые события.
В Париж он приехал поздней осенью. До этого еще месяц прожил в Тифлисе в разных домах, на Авлабаре и в Нахаловке, потом ему достали велосипед, и на велосипеде проселочными дорогами он добрался до Мцхет. В Мцхетах, до прихода из Тифлиса батумского поезда, просидел в овраге, недалеко от станции, и сел в поезд, когда он уже отходил. В Батуми его повели к глазнику, доктору Шатилову. Шатилов смазал ему правый глаз какой-то мазью, и несколько дней после этого бельма не было видно.
Потом был тихий солнечный день, и он, в парике, с черными закрученными усами, с документами турецкого купца Шевки-бея, проходил в батумском порту таможенный досмотр; заметив в руках полицейского свою фотографию, по-турецки, помогая жестами, спросил, не проник ли преступник, которого ищут, на корабль (он хотел знать, будут ли искать его на корабле), и полицейский вежливо улыбнулся и жестом показал, что он может быть спокоен, и он тогда облегченно вздохнул, по-турецки поблагодарил полицейского и неторопливо поднялся по трапу, всем видом показывая, как он теперь спокоен и как доволен жизнью.
В Париже была поздняя осень – время каштанов и его любимого миндаля. Он попросил Крупскую купить миндаля и, рассказывая, все время ел миндаль, и сам смеялся, представляя в лицах надзирателей, следователей, служителей больницы, врачей и даже воробья Васю. Ленин слушал молча и не улыбался, и только когда он сказал о Житомирском, Ленин перебил и потребовал доказательств, а иначе, извините, это нечаевщина. Он не знал, кто такой Нечаев, но не спросил об этом и не возразил Ленину, а решил, что все равно Житомирского найдет, и тогда все станет ясно.

О разногласиях с Богдановым и Красиным Ленин заговорил сам. Репрессии Столыпина расшатали нервы русских социал-демократов, и они опять бросились в разные стороны. А Богданов и Красин стали ультиматистами. Ленин объяснил, что ультиматисты предъявляют социал-демократической фракции Думы ультиматум: беспрекословное подчинение большевистскому центру, в противном случае фракция должна быть отозвана. Ленин возмущался – на деле, в условиях реакции, это тот же отзовизм и означает неминуемую изоляцию партии от масс. К тому же Луначарский и Горький ударились в богоискательство, создали на Капри свою школу и проповедуют слепую веру в социализм; они считают, что борются за сохранение партии, а на деле ведут се к ликвидации, то есть к тому же, к чему ведут Мартов и Троцкий. Но Мартов и Троцкий знают, чего хотят, вернее, чего не хотят, – они не хотят революции, а Красин, Богданов, Луначарский и Горький хотят революцию, но они не хотят понять, что нельзя делать революцию, оторвавшись от тех, кто единственно может ее сделать.
Взволнованность Ленина его удивила. Он понял, что разногласия, о которых он слышал еще в Тифлисе, в комитете, и которым не придал значения, на самом деле серьезны, и от того, кто теперь победит, зависит – будет или не будет в России революция. Он сказал Ленину, что сейчас же вернется на Кавказ, проведет новый экс, купит в Бельгии оружие и перевезет в Россию. Ленин сказал: оружием сейчас некого вооружать, оружие, конечно, понадобится, но сейчас главное – перебросить в Россию нелегальную литературу, надо все начинать сначала, удобнее всего создать склады для литературы в Константинополе, оттуда морем на Кавказ, но сначала – в Бельгию, сделать пластическую операцию лица или, на худой конец, оперировать глаз, без этого ехать на Кавказ архиопасно.
В Бельгии операцию делать отказались – и в Брюсселе, и в Антверпене, и в Льеже. Он вернулся в Париж и сказал Ленину, что задерживаться из-за бельма в глазу больше не может. Ленин пошел с ним к известному профессору-хирургу, которого рекомендовал Жорес, и опять настаивал на пластической операции. Профессор сказал, что такого рода операции давно не делает, и посоветовал, уходя от ищеек, обрызгивать подошвы эфиром – эфир испаряется и уносит запах. Он спросил профессора, а как уходить от предателей; доказательства, быстро ответил Ленин, только доказательства, других способов нет!..
Он взял в партийной кассе несколько неразмененных тифлисских пятисоток, нашел художника, который изменил номера, и уехал в Константинополь. Прощаясь, Ленин подарил ему свой плащ на теплой подкладке, а иначе будет холодно ходить по палубе, и Крупская рассмеялась и объяснила, что на пароходе Ленин любит ходить по палубе, а плащ подарила Ленину мать, когда приезжала повидать его в Стокгольм. Он отказывался от плаща, а Ленин, не слушая его, говорил:
– И ни при каких обстоятельствах не забывайте – революцию делаем не мы, не вы, не я, не Красин, не Богданов, а массы, и наша задача вести массы, а если мы потеряем связь с массами, мы выродимся в жалких авантюристов, и подумайте сами, кому тогда будет нужна наша революция?
Потом был Константинополь и в окрестностях его – в предместье Ферикусы – грузинский католический монастырь «Нотр Дам де Лурд», а в монастырской школе при участке Папас-Куспри прятали беглецов из России, и была эмигрантская социал-демократическая группа Ноя Буачидзе, которая уже выступила в поддержку Ленина.
Он тоже поселился в монастырской школе, называл себя отцом Бернардом, посещал все службы и даже пел в церковном хоре, а потом, наладив явочные квартиры и склады для литературы, под именем Семена Савчука уехал в Софию.
В Софии его арестовали как турецкого шпиона. То, что он русский социал-демократ, подтвердил Благоев. Благоев был лидером болгарских социал-демократов и членом болгарского парламента.
Его освободили. И после этого он еще познакомился с македонскими воеводами, выдал себя за члена Комитета помощи турецким христианам, приобрел у македонцев оружие и с их помощью выехал в Турцию, чтобы сдать часть оружия в Трапезунде.
В Бургасе, куда он приехал из Софии, прямого парохода на Трапезунд не оказалось, и он отправился в Константинополь, чтобы там пересесть на попутный пароход, но таможенная охрана задержала лодку с его грузом, и его восемь дней продержали в полицейском управлении. У него был паспорт на имя Ивана Зоидзе, и он доказал начальнику полиции, что он грузинский федералист и приехал в Турцию предложить помощь в возможной войне с Россией. Его кормили дорогими блюдами и на ночь отправляли в лучшие отели, но на второй день своего комфортабельного ареста он узнал, что отели и дорогие блюда оплачиваются за его счет, и заявил, что не терпит двусмысленных положений, и раз уж его арестовали, пусть отправляют в тюрьму. Заявление его приняли за шутку, и тогда он стал жаловаться на нездоровье и плохой аппетит, и его стали кормить еще более изысканными и дорогими блюдами. На восьмой день министр внутренних дел Турции вернул ему паспорт на имя Зоидзе и предложил любые тайные услуги, а груз его так и не раскрыли и отправили вместе с ним поездом в Афины. (Из Афин легче попасть в Россию, не вызывая подозрений в связях с Турцией.) И так неожиданно он попал в Грецию, куда мечтал попасть с детства – с того момента, как узнал о греческой истории. Он посмотрел в Афинах все древние развалины, и прежде всего развалины Парфенона, и все музеи, но сначала нашел армянских эмигрантов, и они его приняли за члена партии дашнаков, а он отобрал из них надежных людей и наладил связи для постоянной переброски оружия из Брюсселя на Кавказ. Потом закрыли Дарданеллы. И он остался в Афинах еще месяц. И была эта гречанка, певица, она хотела все бросить и поехать за ним в Россию…
Он целыми днями бродил по развалинам и по улицам и удивлялся строгим, почти суровым лицам греческих женщин, а в ее лице была обнаженность души, какая бывает на иконах, и серые, радостно-доверчивые глаза, и это он увидел сразу, потому что она шла ему навстречу, а он шел с Парфенона и, увидев ее, остановился и спросил первое попавшееся, как пройти к Парфенону. Она ответила, что он идет прямо в противоположную сторону, и только тогда он понял, как удачно спросил, потому что теперь мог повернуть и идти обратно вместе с ней. Она говорила по-болгарски, а он знал несколько десятков болгарских слов, и так, разговаривая по-болгарски и жестами, они дошли до Парфенона, и он, неожиданно для себя, сказал ей, что только что здесь был, и тут же подумал, что теперь она решит, что он ловкий и опытный с женщинами человек, потому что так хитро спросил о Парфеноне, а с ним это было впервые, да и не было у него никогда раньше свободного месяца, чтоб он мог вот так ходить без дела по улицам и кого-то встретить, и еще ему захотелось ей рассказать свою жизнь… Но он не сказал даже, как его зовут, потому что уже ни в чем не хотел ее обманывать, и она, видно, о чем-то догадывалась и, помогая ему, тоже не назвала себя и еще шутила – в имени есть что-то оскорбительное, как будто без имени боятся не узнать друг друга; что касается ее, то имя ей даже помешает, потому что то, что есть в его лице, этого больше ни в чьем лице нет и не может быть, а имя, такое же, может быть и у другого, и обязательно есть у кого-нибудь еще и даже, вероятно, у многих, и это-то ей мешает, и еще говорила что-то такое же веселое и странное, и так они провели остаток этого дня и еще несколько дней и вечеров, и однажды она спросила, любит ли он пение, и предложила пойти в кафе или в кабаре, где поют, но он не мог даже на нее потратить партийные деньги и сказал, что у него нет денег, и тогда она повела его к морю и вдруг стала петь – сначала шепотом, чуть хрипло, потом чисто, ясно и все громче, но ему казалось, что она по-прежнему поет шепотом, а потом она сняла туфли и побежала босиком по песку вдоль моря, шлепая по воде, и он бежал за ней, проваливаясь ботинками в воду и в мокрый песок, и в тот вечер она сказала ему, что все бросит и поедет с ним в Россию, если понадобится – и на край света, а он ответил, что не понадобится, потому что на каторгу он уже не попадет – если его арестуют, тут же повесят. Это у него вырвалось оттого, что вдруг стало странно что-то от нее скрывать, но больше он ничего не сказал, а для нее это было как признание, и она молча, испуганно прижалась к нему.
После этого несколько дней он не приходил на развалины Парфенона, где они встречались, ходил один по городу и думал, что теперь делать. Все произошло так, что он не мог ее не встретить: и этот арест в Константинополе, и то, что его отправили в Афины и закрыли Дарданеллы… Судьба то ли испытывала его, то ли хотела спасти от того, что его еще ждало, то ли награждала за прошлое, а потом ему стало ясно, что надо думать не о своей судьбе, а о ней, и тогда решение пришло сразу.
А она не стала больше ждать, когда он придет к Парфенону, и однажды утром встретила его у подъезда дешевенькой гостиницы на окраине, где он жил. Она, не здороваясь, с надеждой спросила, не болен ли он был все эти дни, и он, отвергая то, что она подсказывала, ответил, что нет, не был болен, и, с трудом подбирая болгарские слова, прибавил, что ему было некогда, и еще резче, развязнее, с ненавистью к себе почти выкрикнул:
– Надоело! Скучно! Скучно… Я устал…
Она смотрела на него с ужасом и состраданием. Потом сказала:
– Если бы я поверила тебе, это было бы хуже, чем то, что ты решил уйти. Я так и не знаю, кто ты, но я знаю, что ты самый чистый человек, которого я за свою жизнь встречала. Я буду думать о тебе и молиться, чтобы бог тебя берег.
В тот же день он выехал в Константинополь: Дарданеллы все еще были закрыты. В Константинополе начальник полиции принял его как старого знакомого и сказал, что на этот раз его никто не тронет, но и после этого он называл себя в Константинополе отцом Бернардом, пел в церкви Санта Анна, и Цвета, сестра болгарина Трайчева, который привозил из Софии нелегальную литературу и снимал в Константинополе квартиру, говорила, что, когда он поет в Санта Анне, туда нельзя попасть, что у него действительно редкий и красивый голос, и после революции в России он обязан стать певцом, а он смущался и отвечал, что после революции в России надо будет еще сделать мировую революцию, а к тому времени голос у него пропадет.
Неожиданно в Константинополь из Персии приехал бывший боевик Гиго Матиашвили, по кличке Дедал-Гиго, и он обсудил с Гиго план нового экса, а для начала, с паспортом Трайчева, послал его в Трапезунд, и Гиго все сделал, как он сказал, и сдал кому надо в Трапезунде груз с оружием, а потом через Персию поехал в Тифлис и стал ждать его в Тифлисе.
Потом были неудачи.
Тифлисский комитет запретил эксы – остатки боевиков во главе с Инцкирвели провалились в девятом году, Шаумян, Джапаридзе, Сталин были в ссылке, Серго – в тюрьме, Цхакая – в эмиграции, надо было уходить в подполье, собирать новых людей, – и на все это он отвечал, что именно поэтому нужны деньги, и нужно еще разоблачить всех провокаторов в центре и за границей, а иначе все лучшие люди исчезнут, как песок в решете, и на это нужны деньги, и все-таки экс ему запретили, и тогда он впервые пошел против комитета и поехал в Москву, к Красину, хотя знал, что Красин отошел от линии центра. (А может быть, именно поэтому и ждал, что Красин его поддержит.) Красин сказал: ты действительно сумасшедший, если берешься сейчас за экспроприацию, посоветовал готовиться к эксу за границей, дал сто рублей – все, что имел, – и обещал присылать еще помесячно, в течение года, пока наберется нужная сумма.








