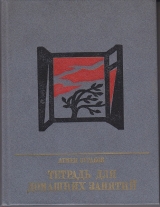
Текст книги "Тетрадь для домашних занятий. Повесть о Семене Тер-Петросяне (Камо)"
Автор книги: Армен Зурабов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)

Иногда по ночам он снова рвал на себе одежду, царапал лицо, стонал, видел себя в узкую щелку приоткрытого в двери окошечка, поворачивал к нему свое бессмысленное, отчаянное лицо. С врачами был приветлив, тих, вдруг начинал долго, лихорадочно говорить, смешивая грузинские, армянские и русские слова, потом только молчал, вздыхал, смотрел в одну точку, кожей чувствовал растерянность, исходящую от врачей. От пищи отказывался. При виде зонда начинал испуганно есть и снова тупо отказывался.
Экспертиза длилась больше трех месяцев. В решетчатом окне проплывали облака, гудел дождь, просовывались сквозь прутья толстые, наполненные пылью солнечные лучи. Несколько раз приходил Кон. Однажды – с Либкнехтом. На лице Либкнехта, когда он вошел в камеру, был ужас. Либкнехт поверил в мою болезнь, зная, что я здоров, подумал он, и представил свое измученное исцарапанное, почерневшее лицо, потом стал спиной к двери и подмигнул Либкнехту – от углов рта и глаз Либкнехта рассыпались тонкие изумленные морщинки. Либкнехт рассказал, что Литвинова признали социал-демократом и освободили, выслав в Англию.
В конце мая Кон пришел еще раз и застенчиво сообщил, что Гоффман и Липпман написали официальное заключение о результатах своей экспертизы. О чем заключение, Кон не знал.
Четвертого июня ему объявили, что он переводится в психиатрическую больницу в Герцберге. Выйдя из камеры, он попросил зеркало, увидел худое лицо с черными впадинами щек, черной бородой, запавшими глазами и искривленным измученным ртом, плюнул в зеркало и отвернулся.
В Герцберг привезли утром. Коренастый квадратный человек с рыжей шевелюрой и прозрачными голубоватыми глазами встретил у дверей, представился: служитель Фогт! И, стиснув ему плечо крепкими толстыми пальцами, долго вел по лестницам и пустынным коридорам с высокими сводчатыми потолками. Он сначала считал ступеньки, повороты коридоров, двери, но потом заметил, что лестницы и коридоры повторяются, и решил, что его нарочно ведут так долго вверх и вниз, чтоб он не мог сам найти выхода. Неожиданно Фогт ввел его в светлую комнату с большим, во всю стену, сводчатым окном. На широком подоконнике сидел голый по пояс человек в кальсонах с маленьким серым лицом и смотрел на вошедших пронзительным взглядом. За его спиной в окне чуть колыхались верхушки кипарисов. В комнате на кроватях спали люди. Служитель Фогт показал на свободную кровать у двери, в углу комнаты, и ушел.
Он подошел к окну и посмотрел вниз. Окно было на третьем этаже. Под окном был двор. Вдоль ровных, ослепительно белых дорожек стояли черные кипарисы. Двор ограждала кирпичная стена. За стеной виднелись высокие пышные крыши города. Его охватила радость. Он сел на подоконник, рядом с человеком в кальсонах, и громко по-армянски запел песню тифлисских кинто – что-то про ишака (каждый шаг ишака – дороже тебя, красавица), а человек в кальсонах вдруг рассмеялся, дернул его за бороду и что-то спросил одним словом (он потом понял, что слово армянское: «откуда ты?») и, не дожидаясь ответа, снова рассмеялся и сказал, что он тоже армянин, из Константинополя, и еще что-то, торопливо, не останавливаясь, – как приехал в Берлин, работал грузчиком, женился на немке, а она объявила его сумасшедшим за то, что он бил себя камнем по голове.
– А я ничего не чувствую! – говорил он радостно. – Вот, вот, вот, вот!.. – И щипал себя, глубоко захватывая всеми пальцами щеки, живот, бедра. Потом опустил кальсоны и показал шрам на ягодице. – Прижигали раскаленным железом, не чувствовал, ничего не чувствовал! – И гордо улыбался.
Рассказывая, он заглядывал в глаза, вдруг замолчал и сказал:
– Один глаз у тебя плохо видит, брат! Почему?
Он подумал и спросил:
– Ты Гиршфельд?
– Я Ваграм, – сказал человек в кальсонах.
– А я ищу Гиршфельда. Гиршфельд – профессор. Я приехал в Берлин, чтоб вылечить у Гиршфельда больной глаз, а меня привезли сюда. Сумасшедшие!..
Снова пришел Фогт, принес больничную одежду и повел мыться. Он попросился в клозет. В клозете было окно. Узкий деревянный подоконник был на уровне головы. На окне нет решетки, подумал он, не за что схватиться… В ванне тоже было окно, но оно было меньше и выше – под самым потолком. Фогт вошел в ванную вместе с ним и помогал мыться. Он думал о Ваграме: если Ваграм провокатор, он здесь недавно, специально для меня – больница не тюремная. Надо узнать, давно ли Ваграм в больнице. Он заговорил с Фогтом, с трудом подбирая немецкие слова. Фогт обрадовался – не ожидал, что он знает немецкий. Фогт сказал, что Ваграм в больнице второй год, у него истерия с полной потерей чувствительности. В больнице его называют Муций Сцевола, но это неверно, потому что Муций Сцевола, когда сжег свою руку, чувствовал боль и не показал этого, потому и стал знаменитым, а Ваграм, когда его прижигали раскаленной проволокой, ничего не чувствовал. Во время приступа Ваграм пытается разбить себе голову. При этом смотрит в зеркало и говорит, что хочет увидеть собственные мозги… Фогту тоже нельзя верить – если Ваграм провокатор, Фогт с ним заодно. Надо ждать. Надо убедиться, что Ваграм не провокатор. Главное пока – не побег, главное – отменить суд.
После ванны он весь день лежал на своей кровати в углу комнаты, никого не замечал, распевал тифлисские песни. На следующий день стал молчалив, от всех шарахался, убегал, лежал с закрытыми глазами, чувствовал смертельную усталость. Самое трудное было, конечно, заставить их поверить в первый раз, думал он, дальше они будут только проверять то, во что поверили. И все-таки, что будет дальше? Надо, чтоб не застали врасплох, например в момент пробуждения или во сне, если я вдруг заговорю во сне. Я никогда во сне не говорил, но все может быть. Может быть, есть такое лекарство, от которого во сне начинают говорить. Ни одно лекарство нельзя принимать – это ясно. Но это может быть и без лекарств… Если экспертиза протянется еще несколько месяцев, я действительно сойду с ума. Тем лучше – тогда суд наверняка отменят.
В восьмом павильоне, куда его поместили, содержались тихие. Врачи заходили редко. Приходил Кон. Суд назначил Кона единственным опекуном Мирского. Он удивился, что его все еще называют Мирским. Кон объяснил: агентурные сведения не являются юридическим основанием. Петербург до сих пор молчал о его настоящем имени, чтоб не подвергать сомнению уголовный мотив преступления. Теперь, когда он не в тюрьме, а в больнице, в Петербурге испугались и сообщили его настоящее имя, чтобы усилить охрану, но это все равно ничего не доказывает, пока не будет документов и показаний свидетелей. Могут только перевести из Герцберга в Бух, где имеется девятый павильон со специальной охраной.
Кон рассказал о заключении Гоффмана и Липпмана, он помнил заключение слово в слово: называющий себя Дмитрием Мирским представляет в настоящее время душевнобольного человека и останется таковым в будущем, насколько это можно представить. Неизлечимой его болезнь назвать нельзя. Гоффман и Липпман отнесли болезнь к форме истерии, вызванной пребыванием в тюрьме и наследственным предрасположением.
Еще Кон в первый же свой приход предупредил, что в больнице ежедневно заполняются «скорбные листы» – о поведении больных. После этого каждый вечер мысленно он сам заполнял на себя «скорбные листы» – это помогало ему видеть себя со стороны. Весь день, ежеминутно напрягаясь, он искал и находил поступки, которые подтверждали его болезнь; по неуловимым признакам – по тому, как с ним говорили, по вопросам, паузам, выражению лиц – он угадывал, когда ему верят, когда можно быть неожиданным и буйным, царапать в кровь лицо, преследовать по коридору врачей и когда – молчать, лежать неподвижно на кровати, плакать, смеяться, напевать тихие песни, сосредоточенно раскладывать на постели узоры из вырванных усов… Потом эти мысленные «скорбные листы» он помнил всю жизнь.
Вся жизнь после Герцберга!.. Герцберг – в восьмом году, сейчас – двадцать первый. Тринадцать лет… Кажется, прожил одну жизнь и, не умерев, начал вторую. Только второй жизни мешает память. Лучше было умереть – чтоб и память умерла, а потом снова родиться. И голова была бы свежей, запоминал бы все формулы по алгебре. Вообще, если уж родиться снова, лучше с другой головой, без этого бельма на глазу. Но главное – память. Как будто одна жизнь налезает на другую. Все путается… Герцберг был – больше его нет. И Буха нет, и Метехи, и всей той жизни… Как глупо устроена память, подумал он, для чего остается то, что уже не нужно? А может быть, память умнее меня, то, что было раньше, продолжается, и это – все та же одна-единственная моя жизнь? Все, что было до сих пор, было со мной, а я остался, и память моя осталась, как будто у меня длинное тело, и, пока я живу, оно удлиняется. Я ни разу об этом не думал. Очень просто: жизнь – одно длинное и удлиняющееся с каждым днем мое тело, и его удлиняет моя память. Память не дает ему оборваться, и, пока я живу, ничего не может закончиться. Без памяти я бы не знал, что живу одной целой жизнью, и даже не знал бы, что вот минуту или две назад думал совсем иначе. Без памяти вообще не о чем было бы думать и ничего нельзя было бы понять, и жизнь стала бы как топтанье на месте, и тогда никакого значения не имеет время. А без того, что происходило до сих пор, не было бы того, что есть сейчас и что будет дальше. Неужели Соня не может этого понять?.. Что же все-таки произошло? В тот день, когда сказала насчет неба в алмазах, а Владимир Александрович в ответ произнес этот свой монолог и потом сам же смутился, заторопился, после его ухода долго молча ужинали, потом он сказал, как бы разговаривая с собой:
– Вероятно, все-таки, человека можно изменить. И Ленин так говорит, и Горький, и Красин, и Луначарский… Столько умных людей! Может быть, и ты, Соня?
Она перебила:
– Я тоже говорю, что можно.
Он обрадовался:
– О чем же ты все время с ним споришь?
И тогда она это сказала:
– Я спорю не с ним, Семен, я спорю с тобой. Я все время спорю с тобой, я все время думаю о том, что теперь будет с тобой? Человека можно изменить, но сделать это может только он сам. И я хочу, чтобы ты это сделал. На что ушла твоя жизнь? Что ты делал до сих пор?.. Из своих тридцати девяти лет сколько лет ты провел в тюрьмах и сумасшедших домах? Я подсчитала: почти год в батумской тюрьме, после Эриванской площади – с седьмого до одиннадцатого – в Моабите, Бухе, Метехи и Михайловской больнице, с тринадцатого еще четыре года – в Метехи и харьковской каторжной, итого – девять лет. Это не считая мелких арестов. Сознательная твоя жизнь началась после переезда в Тифлис, с тысяча девятьсот первого года, значит, двадцать лет. Из них половина – в тюрьмах, остальные годы – скрывался, делал бомбы, бросал бомбы, закупал оружие. И все это – чтобы вооружить Россию и сделать революцию. А оружие, ради которого ты столько сделал, не понадобилось – война вооружила лучше, чем ты мог бы это сделать за сто лет. Когда мы поженились, ты говорил: не имею права жениться, не настало время думать о себе. А может быть, настало? Ты можешь многого добиться, если приложишь к себе энергию, с какой действуешь ради других. Ты можешь стать врачом, инженером, актером… Ты должен жить так, чтобы остаться верным себе, несмотря на то, что будет происходить вокруг. Это трудно, но это единственный способ продолжать жить.
Ты говоришь, революция победила без меня?.. Ты плохо это сказала, Соня, но я понимаю – ты сказала так, чтобы отделить меня от моей прежней жизни. Ты образованнее меня, но ты не знаешь, что такое революция. Мать говорила мне: душа твоя рано проснулась, Сенько, тебе будет трудно. Она не знала, что будет революция. Революция – моя жизнь, Соня, моя вера, моя совесть.
Он встал из-за стола, прошелся по комнате. В окне был нежный весенний свет, все тонуло в дымке, и даже купол храма не блестел. Все это – то, что я думаю о ней, – я должен ей сказать. Я не говорю, потому что боюсь того, что после этого будет, Пока мы не говорим, все может оставаться так, как есть. Но я думаю об этом, и я знаю, что и она думает… Почему мы молчим? Боимся слов? Сказать – все равно что сделать. Даже больше, чем сделать, – через слово выходит какая-то энергия, и ее уже нельзя вернуть. Соня права: если думаешь о человеке, надо сказать ему… И больше не надо об этом! Почему я стал думать об этом? Я думал о «Демоне», потом – о «Трех пальмах»… Что я записал о «Трех пальмах»? Владимир Александрович ушел позавчера рано, не дождавшись Сони, и я написал сразу после его ухода.
Он нашел в тетради запись о «Трех пальмах»: «Как только на землю спустился сумрак, путники, боясь ночной стужи, стали рубить принявшие их так гостеприимно пальмы. До самого утра они жгли эти несчастные пальмы на медленном огне костра… После ухода каравана остался опустошенный и осиротелый оазис, а от гордых вчера пальм остался лишь седой пепел очага и угли, которые разносились по степи ветром…» Я еще о чем-то тогда думал. Что-то о деревьях… И о людях. Там где-то пальмы жалуются, как люди… Он нашел то место в стихотворении, где пальмы ропщут на бога: «И стали три пальмы на бога роптать: „На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?“». Пальмы думали о людях, а люди не думали о людях – тех, что придут после них, – и сожгли пальмы. У пальм души не спали, а у людей, что их сожгли, спали. Деревья вообще живут лучше людей, подумал он, они все отдают – и плоды, и ствол, и даже тень. Может быть, люди, у которых душа проснулась, тоже станут деревьями? Может быть, для того мы и рождаемся, чтоб разбудить душу и стать деревом? Тогда все революционеры станут деревьями. О, это будет большой парк, и деревья в нем будут стройные и тенистые, и на них будут плоды – фрукты, или орехи, или какие-нибудь бананы. А пока революционеры, как пальмы, думал он, дают себя сжечь, а остальные люди, как демоны, думают о себе, и души их спят… После записи о «Трех пальмах» оставалось свободное место (о «Демоне» он стал писать с новой страницы), и он дописал так: «В человечестве всегда как-то инстинктивно живет стремление к уничтожению всего прекрасного и полезного. Люди благодаря своей близорукости не могут думать об общей пользе». И опять вспомнил о Ваграме…
Как-то Ваграм рассказал о себе. К тому времени он уже знал о Ваграме все, что мог узнать сам: как он ходит, выбрасывая ноги и словно отряхивая приставшую к подошвам грязь, как, не мигая, сосредоточенно заглядывает в глаза, а потом вдруг безразлично зевает и блаженно, всем телом, потягивается, как всегда напряжены и слегка разведены в стороны его руки, и даже когда ходит, руки неподвижны и опять чуть разведены, как у куклы, как будто на них грязь и он боится запачкать одежду. Кон узнал, что Ваграм действительно находится в Герцберге два года и останется навсегда – во всяком случае, пока жена оплачивает его пребывание, – медицина не знает случая излечения после потрясения подобного рода, к тому же полученного в детском возрасте. В 1896 году, когда это с ним случилось, ему было двенадцать лет. Ваграм рассказал об этом так: сначала перевернули стол, отца и мать привязали рядом к столу, потом раздели и изнасиловали двух старших сестер, потом отрезали им груди и, еще живых, били ногами, а груди раскрошили ножом на мелкие куски и всовывали куски в рот отцу и матери, и они не могли кричать и только тихо хрипели, потом отцу разбивали камнями голову, и на глаза и лоб отца текли мозги, а мать умерла сама оттого, что не теряла сознания и все это видела, и Ваграм это видел через щель двери, за которую спрятался, и никакого чуда не было в том, что его не заметили, потому что как распахнулись двери, когда турки ворвались в дом, так уж никто их не закрывал, а после того, как турки ушли, и некому было закрыть.
О том, что случилось в девяносто шестом году в Константинополе, он знал от матери – в поминальные дни она ставила в церкви свечу за убитых в Константинополе, и много других людей рассказывали об этом в Гори, и, когда рассказывали, сами плакали, и те, что слушали, тоже плакали, и он знал, что все это правда.
После рассказа Ваграма он решил бежать и уже рассчитал для побега высоту окна в клозете и длину простынь, на которых спустится, и как поедет сначала к Ленину, а потом в Тифлис, снова устроит экс и снова – в Льеж, где купит оружие, а потом через Болгарию, морем, перевезет оружие в Россию, и Красин к этому времени через своих боевиков устроит еще несколько эксов по всей России, и оружие, которое купят на эти деньги, он тоже перевезет в Россию, и тогда Ленин приедет из эмиграции в Петербург и будет революция – сначала в России, потом – во всем мире – и в Константинополе… И он только ждал дождливой ночи, чтоб не светили звезды.
Неожиданно его перевели в Бух. Кон это предвидел. Приказ о переводе был подписан прусским министром внутренних дел по настоянию Петербурга, и в Бухе, как и предупреждал Кон, его поместили в девятый охраняемый павильон.
У главного врача Буха Вернера глаза были круглые и веселые, он быстро, невнятно говорил, то и дело прищуривал глаза, гримасничал и сам был похож на больного, но на самом деле глаза у Вернера были хитрые – как будто он притаился в уголках их и выглядывал оттуда. С Вернером приходил в девятый павильон молодой врач с бесстрастным красивым лицом, молчал, что-то записывал, всматривался неподвижным взглядом, и казалось, глаза у него покрыты лаком. Потом он узнал, что это директор больницы Рихтер, и подумал, что и Вернера и Рихтера трудно будет убедить, что он болен, и надо теперь сделать что-то такое, в чем нельзя притворяться, например убить себя, и не откладывая, в первый же месяц в Бухе дважды себя убивал: первый раз ночью, в час, когда служитель обходит палаты, разорвал простыню, связал полосы в веревку, сделал петлю, привязал конец к крюку, на котором висела лампа в железной клетке, накинул петлю на шею, отбросил ногами стул, на котором стоял, повис, схватившись руками за петлю (в палате все спали, шаги служителя раздались уже у двери), отпустил петлю, захлестнула духота, потемнело, в последней вспышке сознания – лицо служителя, и услышал крик, и крик так и остался в ушах, пока не очнулся, а потом, в тишине, с разных сторон склонившиеся над ним люди и среди них – Вернер и Рихтер; а во второй раз спрятал баранью кость, днем, когда все ушли на прогулку, разорвал костью на руке вену, другой рукой зажал вену выше раны, дал крови просочиться на простыню, когда вошли в палату, отпустил вену, кровь забила фонтаном, потом перевезли в лазарет и лечили, а Кон требовал, чтобы отпустили на поруки.
В лазарет Кона пускали чаще, чем в девятый павильон. Кон рассказывал, что Либкнехт выступил в рейхстаге с требованием освободить всех русских революционеров, и Роза Люксембург выступила, и Жорес, а в Женеве, на пленуме ЦК, выступил Ленин.
После лазарета о нем как будто забыли, ни Вернер, ни Рихтер не приходили, и так прошло несколько месяцев, и он уже стал думать, что ему наконец поверили и теперь, видно, не могут только решить: выслать или передать в богоугодное заведение для неизлечимых больных, как вдруг его перевели в Моабитскую тюрьму и объявили, что третьего мая суд. Тот же следователь, с крепкими давящими глазами и ровным пробором в густых, иссиня-черных волосах, вежливо сообщил ему, что суд назначен на основании заключения директора больницы в Бухе доктора Рихтера, который считает, что он выздоровел. К тому же участие его в тифлисском ограблении и его подлинное имя установлены на самых законных основаниях: все подтвердил Карсидзе, бывший боевик, сейчас Карсидзе в Кутаисской тюрьме, ему показали фото, присланное из Петербурга, и он все рассказал. (В Тифлисе тете Лизе тоже показали фото, и отцу в Гори; тетя Лиза сказала, что не знает, кто на фото, а отец сказал, что похож на сына, только борода мешает.) Еще ничего не поняв из того, что сказал следователь, и не зная, что делать дальше, от внезапного отчаянья он схватил следователя за горло и стал душить и задушил бы, если б тот не успел крикнуть, но уже когда ему крутили руки и раздевали, он знал, что все начнет сначала.
После ледяного моабитского карцера в камеру пришел Гоффман: имею забота на ваши здоровие! – а он опять молча, неподвижно сидел перед Гоффманом, а потом опять бил надзирателей, рвал одежду, пел, плакал, отказывался от пищи и даже отказался от встречи с Коном. Суд не состоялся, и его снова перевели в Бух.
Потом была усталость – как если бы убежал, а его бы поймали и снова посадили в Бух. Чтоб вернуть силы, думал о Житомирском, о том, что Житомирский – предатель. Однажды увидел его во сне: Житомирский наклонился над ним, дышал ему в лицо, а у самого лицо все сморщилось, как будто не может откашляться, а это он смеется и говорит: я – гувернантка Камо. Он проснулся и подумал: Житомирский сейчас надо мной смеется. Было душно. В окне нежно мерцало небо. Май, вспомнил он, уже май, звезды неяркие – сплошной Млечный путь. А Кон опять добивается, чтобы отпустили на поруки. Не отпустят. Кон рассказал о последнем заключении Гоффмана: судебное разбирательство невозможно в течение нескольких лет. Все равно не отпустят. Экспертиза будет длиться вечно.
Среди звезд светилась узкая полоска. Он вспомнил, что в Куоккале говорили о комете, но почти весь июль, что он был там, стояла пасмурная погода, и он ее не смог увидеть. Как будто ударили по небу кончиком хлыста и остался рубец, подумал он. Или как если бы прижгли небо раскаленной проволокой. Он вспомнил, как Ваграм показывал на заднице шрам и хвастал: не больно!.. От раскаленной проволоки мясо шипит и идет запах, как от шашлыка, – нельзя не поверить. Если бы я был тогда вместо него в Константинополе, я бы тоже теперь ничего не чувствовал. Но я могу это представить, вдруг подумал он, я могу представить, что я тоже был там. Один раз я уже это почувствовал – когда Ваграм рассказывал… Он тогда как бы слился с Ваграмом, с его шрамом, с его памятью, с его щелкой в распахнутой двери, вошел в его окаменевшее бесчувственное тело, ощущал его чугунную неподатливость, ходил, невольно отряхивая, как Ваграм, ноги, чуть расставляя напряженные деревянные руки, пронзительно вглядывался в окружающих, тупо, как Ваграм, улыбался, когда с ним заговаривали. Теперь мне остается только ничего не чувствовать, подумал он, и я уже знаю, как надо просить ногу, чтоб она не дергалась. Надо попросить ногу, или задницу, или другое место, которое они выберут. Ничего трудного нет, надо только увидеть это место и увидеть, что внутри – обыкновенное мясо, и даже если прожгут до кости – кость еще легче представить, она белая и твердая – кость, и сама не почувствует боли. А после этого у них уже не будет сомнений, и они поверят, как в Герцберге поверили Ваграму.
Первому он сказал о том, что не чувствует боли, соседу по койке. Соседом был наркоман, врач-психиатр. Родные посадили его в тюрьму за то, что он воровал из дому деньги. Потом его прислали в Бух лечиться. Про него говорили, что он очень образован и знает много языков. По-русски он говорил плохо. В палате его называли Доктором. Доктор выслушал его, кивнул, помолчал и сказал: бывает! И улыбнулся. Тогда он стал хватать себя за щеки, живот, бедра, как делал это Ваграм, и, удивляясь, кричал: не чувствую, ничего не чувствую, не больно!.. Его окружили, щипали, дергали за волосы – он тупо, растерянно улыбался. Пришел Вернер, заглядывал в глаза, проводил по спине холодной металлической рукояткой своего молоточка, рассматривал кожу, вдруг быстро, ловко расстегнул ему брюки и с силой дернул за волосы в паху, казалось, вырвал их с мясом, и опять заглядывал в глаза.
Он виновато улыбался.
На следующий день с Вернером пришел Рихтер. Вернер что-то весело, невнятно говорил Рихтеру, Рихтер кивал, потом Вернер вышел и вернулся с санитаром, который нес шприц. Санитар засучил ему рукав, протер ваткой руку выше локтя, а Вернер взял шприц и уже поднес к его руке, но Рихтер отобрал у него шприц и сам с силой всадил иглу в руку, а потом, не вытаскивая, еще наклонял шприц в разные стороны, и тогда игла словно удлинялась и пронизывала руку до плеча.
После этого его кололи каждый день, когда он не ждал – во время обеда, в клозете, внезапно будили ночью… Однажды не разбудили. Он успел проснуться, почувствовав, как откинули одеяло, и мгновенной реакцией удержал себя в неподвижности, не открыл глаза и продолжал ровно дышать. Игла была большая, медленно, долго входила в него, заполняя болью живот и грудь, и казалось, это не игла, а толстый кол, и от него разрываются внутренности. Страшное уже позади, думал он, я мог проснуться от укола, и тогда ясно было бы, что я его почувствовал. Теперь только надо вбирать боль в себя, чтоб она не прорвалась наружу. Он продолжал ровно, спокойно дышать и подумал, что ровное дыхание тоже помогает вбирать боль – как будто с каждым вздохом он заталкивал ее все глубже. Потом боль сразу иссякла, он почувствовал холодок спирта, которым протирали место укола, и почувствовал, как осторожно накрыли его одеялом.
Утром Доктор сказал ему, что ночью его кололи. Он пожал плечами.
– Мне нравится то, что ты с ними делаешь, – сказал Доктор. – Я вижу больше, чем Вернер и Рихтер, – я день и ночь рядом с тобой. Тебя здесь называют анархистом. В России сейчас много партий, но мне нет дела до того, в какой из них ты состоишь. Я – врач. Мне интересно, что ты еще можешь. Тебя не оставят в покое. Даже после сегодняшней ночи. Я хочу дать тебе совет. Они будут следить еще и по зрачкам. От боли зрачки расширяются. Мне будет обидно, если из-за этого пустяка прервется такой великолепный эксперимент. Ты понял меня?
Он не ответил, отвернулся и подумал: если это провокатор и я отвечу ему, станет ясно, что я все делаю сознательно. Но зрачки, вероятно, действительно расширяются. Надо что-то придумать.
Он не успел придумать. В тот же день два санитара молча, быстро повели его по коридору и втолкнули в маленькую глухую комнату без окон. С потолка свисали яркие лампы в железных клетках, и он сразу увидел в углу комнаты маленький примус – обыкновенный, сверкающий от чистоты примус. Рядом, из квадратной железной коробки торчали закопченные спицы, стержни и щипцы. Слева от двери стояла высокая железная койка с натянутым на ней черным брезентом и вделанная ножками в пол, и такой же стул с подъемным устройством.
В комнате были Рихтер, Вернер, два санитара, что его привели, и переводчица с рыжими волосами – он ее узнал по улыбке. Все стояли. Ему предложили сесть. Переводчица сказала:
– Доктор Вернер извиняется за несколько экзотические методы, которые придется применить, но это необходимо для установления окончательного диагноза.
Он понимающе кивнул и сел на стул. Один из санитаров нажал ногой на педаль под сидением, и стул стал подниматься. Когда ноги его повисли, санитар отпустил педаль и туго перехватил двумя ремнями, прикрепленными к спинке стула, его грудь и живот. Руки остались свободными.
Он чувствовал, как мокнет все его тело. Сейчас они увидят пот на лбу и поймут, что я испугался, подумал он. Они нарочно делают все медленно, чтоб я испугался. Еще даже не разожгли примус… Они хотят увидеть, что я жду боли?.. А почему я не должен ее ждать? Я никогда этого не испытывал и должен ждать и бояться. Они все равно увидят это по глазам. Есть какая-то русская поговорка. Про страх. Что-то про глаза и про страх… От страха глаза расширяются?.. Не так, короче. Надо обязательно вспомнить! То же самое сказал Доктор. Он сказал насчет зрачков. Все равно одно и то же. Он сказал: расширяются от боли. От страха тоже расширяются… Почему они не заглядывают мне в глаза? Они будут следить за глазами потом, когда будет больно. Надо, чтоб сейчас! Они должны знать, что зрачки уже расширились. А когда начнут прижигать, я удивлюсь, что нет боли. Раз сейчас жду – потом должен удивляться, что ее нет. Лучше даже обрадоваться. Удивиться, что не чувствую боли, и потом обрадоваться… А зрачки, вероятно, уже расширились. Я ничего для этого не делал. Я действительно боюсь. И лоб уже весь мокрый. Надо еще больше думать о том, что сейчас будет, и тогда страх станет больше. Тогда и легче будет потом перенести боль. Да, да, это хорошая мысль, пока боли нет, думать о том, какая она будет. Сейчас разожгут примус, нагреют вон ту длинную спицу и приложат… Куда приложат? Раз посадили, значит, не к заднице и не к спине. А почему руки не связали?.. Вернер подходит – что-то заметил.
Вернер подошел, посмотрел на его лоб, и Рихтер тоже подошел. Рихтер стал всматриваться в глаза, даже оттянул на левом глазу веко. Почему он рассматривает только один глаз. Ах, да, на правом бельмо, как я мог это забыть, они могут следить только по левому глазу. Рихтер что-то коротко сказал переводчице, она улыбнулась и спросила:
– Вы боитесь?
– Да, да! – закричал он неожиданно для себя и радуясь, что левый глаз не подвел. – Я боюсь! Что со мной хотят делать?!
Рихтер бесстрастно, одним словом что-то приказал Вернеру, и он понял, что Рихтер приказал начать, потому что переводчица быстро отвернулась к стене, и теперь он видел ее красивую ровную спину, которую тоже помнил по суду в Моабите.
Один из санитаров достал из ящика со стержнями и щипцами короткую иглу с круглым набалдашником на тупом конце. Как большая булавка, успел подумать он, пока санитар подходил. А примус так и не разожгли?..
Тот, что поднимал стул, перекинул вдруг через его голову со спинки доску, наподобие той, что бывает на стульях для младенцев, и торопливо просунул кисти его обеих рук под натянутый на доске широкий ремень, и теперь из-под ремня выглядывали только кончики его пальцев; он увидел свои ногти и все понял… Я ждал не этого, подумал он с тоской, я представил совсем другую боль! К этой боли я не готов. Я не сумею так сразу выдержать… И уже в последнюю секунду, когда санитар протер иглу ватой и поднес к его руке, он, не сдерживая охватившего его страха, опять закричал, и тут же почувствовал, как в левую руку, медленно и неотвратимо усиливаясь, вползает отвратительная боль, и сначала он даже не мог понять, в какой палец всунули иглу, потому что не смотрел на руки, и ему показалось, что на левой руке у него только один палец, и в него, под ноготь, вдавливают огромный гвоздь, и он уже оторвал ноготь и теперь проходит сквозь руку в плечо и в голову, и голова уже набухла и сейчас разорвется… Я ничего не вижу, подумал он с ужасом, я теряю сознание… Ах нет, я просто закрыл глаза! Я закрыл глаза от ожидания боли. Сейчас, когда боль пришла, надо открыть их… Я хотел удивиться чему-то, вспомнил он. Я что-то решил и даже обрадовался, что нашел?.. Что?! Я сейчас опять крикну… Если я не крикну, боль разорвет меня. Вспомнил!.. Я должен удивиться тому, что нет боли… Как я хорошо жил до боли! Неужели когда-то ее не было?! Теперь она никогда не кончится… Что это за рыжее пятно? Это переводчица, она отвернулась, чтоб не видеть меня, а я вижу ее рыжие волосы. Жаль, что не видно ее лица, она, вероятно, улыбается… А это Вернер и Рихтер, я их сразу узнал, они чего-то ждут. Чего они ждут? Только что я крикнул… Когда это было? Еще до боли. Я крикнул от ожидания боли, чтоб потом удивиться, что нет боли. Это я и хотел вспомнить! Теперь я вспомнил… Сколько все это длится? Я опоздал. Надо обрадоваться, хотя бы улыбнуться… Он открыл глаза и, не отрываясь, смотрел в глаза стоявшего прямо перед ним Вернера, потом опустил голову, посмотрел на свои руки и увидел, что игла вошла не в руку, а только под ноготь и из-под ногтя тоненько сочится кровь, а санитар давит на круглый набалдашник иглы, и лица санитара не видно, а видны только его волосы и мокрый лоб, потому что санитар тоже смотрит на его руки, и это его действительно удивило – то, что такая страшная боль от такой маленькой иглы и от того, что этот несчастный санитар так озабоченно давит на иглу, а потом снова увидел глаза Вернера и опять удивился: чего Вернер ждет? Ах да, Вернер ждет, чтоб он улыбнулся!.. И он улыбнулся Вернеру – облегченно и как бы извиняясь за то, что вот только что так испугался, что даже крикнул от страха.








