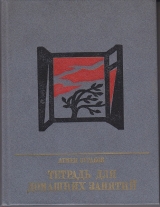
Текст книги "Тетрадь для домашних занятий. Повесть о Семене Тер-Петросяне (Камо)"
Автор книги: Армен Зурабов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Ночью опять дул холодный ветер. Он положил птенца на грудь и это место поверх одеяла накрыл еще вязаной курткой. Потом он почувствовал, что птенец ползет по груди, и, когда птенец остановился, он передвинул куртку на одеяле в то место, где теперь был птенец. Потом птенец снова полз, и он снова передвигал за ним куртку, и только к утру, когда проступили на лиловом небе черные прутья решетки, птенец устроился где-то у него на животе и больше не двигался, а он, чувствуя всем телом чуть слышное биение, вдруг представил маленькое, величиной с зернышко, сердце, которое производило это биение и которое так много теперь значило в его жизни, и удивился тому, как странно его жизнь со всем, что в ней было и есть, связалась вдруг с жизнью этого вылупившегося несколько дней назад и так непостижимо заброшенного сквозь тюремную решетку птенца.
Весь день он думал опять о предстоящей операции и о том, что будет с птенцом, и решил, что не надо скрывать птенца от надзирателей, а, наоборот, надо сделать так, чтобы они его видели и привыкли к нему, и эта мысль успокоила его настолько, что он стал думать потом только об операции и решил, что во время операции естественнее всего будет показать, как он не чувствует боли.
Через неделю птенец передвигался, перелетая с места на место, а когда он брал его на руку, перелетал с руки на плечо. Надзиратели знали о птенце и теперь чаще заглядывали в окошко двери, и он был им благодарен за их интерес к птенцу – и так, через птенца, он стал лучше относиться к надзирателям.
Потом с птенцом на плече он пришел на допрос, и Малиновский, прежде чем начать допрос, подошел к нему и слегка прикоснулся к птенцу пальцем, а тот не испугался и спокойно, с доверием, задрал голову и посмотрел на Малиновского. Малиновский сказал, что операция откладывается – в госпитале не могут обеспечить охрану.
– Боятся, что убежишь во время операции! – сказал Малиновский. – Пеняй на себя, будем ковырять руку в тюремной больнице. Без анестезии. В тюрьме нежности не полагаются.
Он сказал, тоже переходя на «ты»:
– Ты не читал заключение?.. Германские профессора написали заключение: я не чувствую боли.
– Хорошо, – сказал Малиновский, – я скажу, чтоб во время операции вам не привязывали руку.
Операцию сделали через месяц, в декабре. Когда его выводили из камеры, птенец взлетел и сел ему на плечо. Он осторожно переложил его на стол. Птенец задрал голову и смотрел на него. Надзиратель сказал:
– Насчет этого не сомневайся!..
Неожиданно птенец взлетел со стола, полетал по камере, подлетел к решетке окна и исчез. Он бросился к окну, схватившись руками за прутья решетки, подтянулся и посмотрел в окно. На противоположной стороне Куры, на горе, покрытая тонким снегом, празднично сияла Нарикала.
Надзиратели ждали, когда он сам отойдет от окна, потом молча шли с ним по коридору. Из-за дверей камер на звон кандалов кричали:
– Товарищ, ты кто?
– Мы с тобой, товарищ!
– Долой тиранов!
Он не отвечал и шел медленно, ссутулившись, с трудом переставляя тяжелые звенящие ноги, и думал о том, что не надо было приучать птенца к теплу, теперь, с непривычки, он наверняка замерзнет и обратно в камеру залететь не сумеет, да и не найдет среди других окон свое. Он представил, как птенец носится над заснеженным городом, не умея найти себе пищу, и, изнемогая от усталости, садится на снег и тут же взлетает, напуганный непривычным прикосновением, и, напрягая последние силы, опять носится в воздухе, а потом упадет и его растопчут, или переедет колесо фаэтона, или упадет в Куру. Мысли о птенце так напрягли его чувства, что он видел все вокруг себя как бы несознательно, и даже то, что во время операции рука его должна оставаться неподвижной, это тоже казалось неизбежным и не зависящим от него, и он только с отчаяньем думал о том единственном, что зависело от него и чего он не сумел сделать, – продержать птенца до весны, а теперь птенец не выдержит холода и погибнет.
Он думал об этом и во время операция: его посадили за маленький квадратный стол и на стол перед ним положили большой эмалированный белый поднос, а левую руку его, оголенную по локоть, обмыли спиртом, вывернули ладонью кверху и положили на поднос – как что-то отдельное от него, и грузный человек в глухом белом халате и в белом колпаке сел тоже за стол, с противоположной стороны, и, несмотря на марлю, которая закрывала его рот и нос, он узнал в нем Внукова, а другой, помоложе и худой и тоже в халате и повязке на лице, сел сбоку, слева, и положил на стол рядом с собой маленькую металлическую ванночку с еще булькающей в ней после кипения водой, и на дне ее лежали едва различимые в воде инструменты; Внуков черными резиновыми руками взял у сидящего сбоку узкий мокрый нож, который тот вынул из ванночки пинцетом, и мгновенными легкими движениями несколько раз провел ножом у основания большого бугра посреди ладони, и тут же ладонь стала заливать кровь, и с ладони кровь стекала на поднос, и он понял, что это уже началась операция, и удивился тому, что не почувствовал боли и даже прикосновения ножа к ладони, и обрадовался этому – может быть, кожа действительно стала нечувствительной или Внуков старается сделать так, чтоб не было боли, а Внуков уже отбросил нож и стал обкладывать рану маленькими зажимами, которые тоже передавал ему пинцетом сидящий сбоку, и от зажимов ладонь стало щемить, кровь перестала литься, а сидящий сбоку еще протер ладонь вокруг зажимов марлей, и вдруг, словно в середину ладони одним ударом до самого плеча вбили длинный, зубчатый гвоздь, раздирающая боль охватила руку и все тело, и ноги обмякли, как будто отвалились, а Внуков еще несколько раз повернул нож внутри ладони, и из-под ножа выскочил и со звоном выпал на поднос маленький красный осколок, потом второй, третий, четвертый, и дальше он потерял счет, и каждый раз нож раздирал руку в клочья, а рука неподвижно лежала на подносе, потому что еще с того дня, когда он сказал Малиновскому, что не чувствует боли, он все время помнил, что рука должна оставаться во время операции неподвижной, и теперь какая-то странная, бессознательная, тяжелая память об этом решении словно придавливала руку к столу, и он также бессознательно и машинально улыбался, глядя на Внукова, а тот не смотрел на него и продолжал выковыривать ножом из ладони красные крупинки, как будто и не ожидал, что рука может дернуться и что вообще это живая рука, и крупинки, падая на поднос, тихо звенели, и, уже отупев от боли, он вдруг увидел, что Внуков стал валиться набок, и заметил, что при этом Внуков продолжает ковырять ножом в его ладони, и стал валиться и сидящий сбоку, и стол, и сам он понесся куда-то в пропасть, и последним усилием мысли вдруг понял, что это закружилась у него голова, и, инстинктивно на мгновение закрыв глаза, снова открыл их, увидел всех на месте, и это его так обрадовало, что он громко усмехнулся, а потом ему казалось, что он сидит за этим столом весь день, и уже вечер, и Внуков вдруг встал из-за стола, содрал темную перчатку и неожиданно живой мягкой рукой похлопал его по плечу и сказал: «Молодец!», как говорят послушным детям, и уже не ему, а кому-то другому: «Сорок штук, явная медь!», и тот, что сидел сбоку, пересел на место Внукова и стал неторопливо и очень аккуратно перевязывать его руку, а Внуков сдернул с лица марлю, и оказалось, что это не Внуков, а кто-то другой, тоже с бородкой, но с другим лицом, – и все это время каким-то остановившимся на одной точке сознанием он представлял, как птенец носится над городом, а потом падает, и его топчут, и это заставляло его страдать больше, чем то, что с ним делали.
И только уже в маленькой больничной палате, куда его повели после операции, лежа на единственной в палате койке, он понял, что птенец опять помог ему – тем, что улетел перед самой операцией.
Через несколько дней в палату пришел Малиновский и сел перед ним на табурет, а он все еще лежал, потому что после операции поднялась температура и ноги подгибались, когда он пытался встать. Малиновский был растерян и хмур, и он решил, что экспертизе не удалось выяснить, от чего осколки – от бомбы или от патрона. Малиновский сказал:
– Имею сообщить следующее: извлеченные из руки предметы есть осколки красной меди. Осколков больше сорока штук. Наличие такого количества осколков, проникших так глубоко внутрь, можно объяснить только взрывом оболочки из красной меди, вызванным капсюлем гремучей ртути, – порох такого дробления не дает. Установлено также, что в начале лета тысяча девятьсот седьмого года вы лечили руку в частной лечебнице врача Соболевского. По времени полное совпадение – перед самым ограблением на Эриванской площади. Все это – впервые за время, что вы арестованы, – не конфиденциальные сведения агентуры, а вещественные улики, которые могут быть предъявлены суду. Кавказ на военном положении. По законам военного положения военно-окружной суд будет иметь суждение о вас по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей сто второй уголовного уложения, статьями тринадцатой, тысяча шестьсот двадцать седьмой, тысяча шестьсот тридцатой, тысяча шестьсот тридцать второй и тысяча шестьсот тридцать четвертой уложения о наказаниях и статьей двести семьдесят девятой книги двадцатой одиннадцатого свода военных постановлений. Любой из этих статей в отдельности достаточно, чтобы вас повесить. Дело окончено, и в ближайшие дни я донесу о нем прокурору судебной палаты, затем дело будет направлено генерал-губернатору. Всего этого я мог не говорить. Но я выполнил служебный долг и хочу теперь выполнить человеческий. У меня правило: когда я как следователь отправляю человека под смертный приговор, как человек, перед богом, я считаю себя обязанным сделать все, чтобы ему помочь. Я следил за вами во время допросов и уверен, что вы совершенно здоровы. Но сейчас вас может спасти только болезнь. Я докладывал уже прокурору о том, что во время операции вы не чувствовали боли. Прокурор ответил: человек, который берется обезглавить российскую монархию, вполне может не заметить, что ему режут руку. Я хорошо помню вас в батумской тюрьме. Тогда я был помощником прокурора и присутствовал на всех допросах. Потом я следил за процессом в Берлине. Вы вызываете мое уважение, и мне будет трудно жить с сознанием, что я отправил такого человека на смерть. Мне известно, что ваш берлинский адвокат Кон настаивает на вашей болезни и обратился с письмом к председателю Государственной думы Гучкову, он также прислал все заключения немецких врачей и открытым письмом сообщил обо всем русскому послу в Берлине. В прусском ландтаге сделан о вас запрос, на который вынужден был ответить министр внутренних дел Фридрих фон Мольтке. Дела обстоят так, что Россия сейчас не захочет перед лицом Европы нарушить юридические законы. Поэтому все будет зависеть от того, насколько вы убедите их, что вы больны. Это все, что я имел сообщить.
Малиновский тоже говорил о совести – человеческий долг перед совестью… А служебный – против совести? Испугался только, когда под виселицу подвел. Чего испугался? Опять совести? А надзиратели?.. Почему после появления птенца стали добрее? Тоже испугались? Чего им бояться? Они у смертников одежду просят, на память…
А птенец сделал свое дело – и улетел. Без него, может быть, и Малиновский не вспомнил бы про совесть. Но что делать дальше? Кон тоже советует продолжить болезнь. Кон не знает, что такое Россия. В России не замечаешь, что тебе режут руку, и никого это не удивляет.
Через несколько дней после посещения Малиновского в палату пришел начальник тюрьмы – о том, что идет начальник, сказал вбежавший перед этим в палату санитар, начальник был худой, с длинной шеей и голым черепом, и с начальником пришел тот врач, что делал операцию. Врач осмотрел руку и сказал, что рана зажила. Начальник тюрьмы стал шутить – голос у него оказался тихий и глухой и, казалось, доносился издали, – говорил, что тифлисский климат, видно, подходит для берлинских сумасшедших, ни одного признака из тех, что указаны в немецком заключении! – и спрашивал врача, не замечал ли тот признаков, и врач сказал, что не замечал, и начальник тюрьмы опять сказал по этому поводу какую-то шутку, беззубо улыбнулся, и на белом лице его мелькнули широкие красные десны.
– Вы подводите Европу, господин Петросянц, – сказал начальник тюрьмы. – Лучшие врачи Европы установили, что вы псих, а вы плюете на них. Нехорошо! Я вас понимаю: то, что проходит в Германии, в России не пройдет. Я ценю вашу догадливость, и все-таки это неуважение к науке, вы оскорбляете науку. Следствие по вашему делу закончено, но, будь моя воля, я присовокупил бы к делу и это преступление. По моему темному разумению, оно еще важнее того, за которое вас будут судить.
И так, балагуря и веселясь, начальник тюрьмы попрощался и ушел, а врач после его ухода сказал, что в прусском ландтаге обсуждался вопрос о незаконной выдаче в Россию душевнобольного, которого теперь собираются приговорить к казни, и петербургская «Речь» поместила телеграмму своего берлинского корреспондента, излагающую подробности этого дела.
В тот же день его перевели из тюремной больницы в камеру. Но это была уже не та камера, в которой он сидел до этого, – тоже одиночная, но другая, он понял это по едва уловимым признакам, которые никто кроме него не мог бы заметить: не так расположены прутья решетки в окне, чуть ближе к стене неподвижный железный стол, чуть темнее цвет стен, и он стал требовать, чтобы его отвели в его камеру, а в ответ на то, что камера занята, требовал перевести арестанта из его камеры сюда, а его – туда и угрожал, что будет жаловаться начальству. Потом снова пришел начальник тюрьмы и спросил, почему, собственно, ему так надо вернуться в прежнюю камеру, камеры в Метехи все одинаково комфортабельные, особенно одиночные, и тогда он сказал о воробье – улетел воробей, которого он выкормил, воробей вернется в ту же камеру и не найдет его.
Начальник тюрьмы помолчал и спросил, как звали воробья. Он не задумываясь ответил, что воробья звали Васей.
– Хорошо, – сказал начальник тюрьмы. – Если воробей Вася вернется, его передадут тебе. Но только если это будет именно Вася. Ты понял? Я сам проверю.
Он хотел спросить, как начальник будет проверять, Вася это или не Вася, но вдруг увидел его осторожный изучающий взгляд и понял, что начальник в этот момент подумал о заключении немецких врачей. И он спокойно, с достоинством поблагодарил начальника тюрьмы. Он знал, что начальник сейчас же прикажет осмотреть его прежнюю камеру и проверить, не перепилена ли там решетка окна, и после этого им не останется ничего другого, как поверить, что он хотел вернуться в камеру из-за воробья, и тогда начальник опять, еще серьезнее подумает о заключении берлинских врачей. А может быть, не найдя в камере ничего подозрительного, все-таки его переведут туда, чтобы потом проследить за ним…
К вечеру того же дня его перевели в прежнюю камеру, а через несколько дней в камеру пришел начальник тюрьмы и спросил, не прилетал ли воробей Вася.
Он сказал:
– Вася прилетит, вот увидишь! Я все время о нем думаю. В Гори жил один человек, его тоже сумасшедшим называли, а птицы прилетали и ему на плечи садились.
– Запомни, – сказал начальник тюрьмы, и на лице его мелькнули красные десны. – В моей тюрьме не бывает сумасшедших!
Но он заметил, что взгляд начальника опять был изучающий. И он вдруг понял, что воробей не только вернул ему силы, но и научил, что делать дальше. Как это просто, думал он, надо теперь жить только этим – тем, что я жду воробья, и больше ни о чем с ними не говорить, и в тюрьме, и на суде. Не будь воробья на самом деле, я бы сам никогда не придумал это. Воробей пробыл со мной ровно столько, сколько нужно было, чтобы я стал думать о нем, а дальше мне поможет именно то, что я буду думать о нем. А почему, собственно, воробей не может вернуться? Если кто-нибудь покажет ему мое окно, он вернется, а так и человек не найдет, в какое окно залететь… Как отнесется суд к тому, что я жду воробья? Снова начнутся экспертизы?.. Что будут проверять? Пусть проверяют. Я на самом деле думаю о воробье. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, будет ясно, что он жив.
Начальник тюрьмы больше не приходил. И не было больше допросов. И не давали свиданий. Дни переходили один в другой, сливая сумерки с вялыми зимними рассветами, ночи были как провалы, и казалось, день начинается сразу после вечера; и так прошла зима, потом завыли бешеные мартовские ветры, и вдруг небо за решеткой стало ясным и легким, и потеплело, и надзиратель Прохоренко, тот, что просил оставить одежду, однажды, передавая в окошко еду, сказал, что суд назначен на двадцать шестое апреля. Ему показалось, что это еще не скоро, но Прохоренко прибавил, что сегодня девятнадцатое и осталась ровно неделя, и еще говорил, что прокурором на суде будет генерал Афанасович, а главный судья – тоже генерал, и остальные – все полковники и подполковники, ниже не будет.
– Значит, казнить будут, – сказал Прохоренко. – На смерть всегда высшим чином собираются.
Он не помнил, как прошла эта неделя, но помнил, что накануне суда, ночью, ему приснился Житомирский, – может быть, потому, что на всю жизнь запомнил потом пробуждение от этого сна.
Житомирский говорил – вернее, не говорил, а опять, как и в прошлый раз, наклонился над ним и дышал прямо в лицо – что-то о предательстве, о том, что он предавал и будет предавать, и все их идеи ничего не стоят перед одним его доносом, а потом стал вдруг свистеть, подражая какой-то птице, и это было так неожиданно, что он проснулся…
Свист еще доносился – это было тонкое верещание, и оно доносилось сверху. Он вскочил с койки и увидел сидящего на решетке окна воробья. Он четко вырисовывался на предрассветном небе. Воробей спрыгнул на подоконник, взлетел, сел ему на плечо и несколько раз ткнулся клювом ему в шею.
Он боялся притронуться к воробью и стоял посреди камеры, расставив руки, словно удерживая равновесие, а воробей клевал его в шею и верещал.
В окошке двери замерло бородатое лицо Прохоренко.
– Прощаться прилетел, – сказал Прохоренко.
И он тихо, все еще боясь вспугнуть воробья, ответил:
– Это брат мой…
– На, покорми, – сказал Прохоренко и бросил в окошко большой кусок хлеба. – Тебе сегодня не положено. На суде накормят.
Он осторожно, стараясь не звенеть кандалами, присел, поднял хлеб и протянул воробью. Тот клюнул, торопливо проглотил, задрал голову, оглянулся по сторонам, снова клюнул. Прохоренко рассмеялся. Донеслись шаги конвоя. Прохоренко захлопнул окошко.
Он снял воробья с плеча, положил за пазуху, спрятал в карман хлеб, быстрыми резкими движениями в нескольких местах разорвал рубаху и штаны и стал ждать, все так же стоя посреди камеры.
Везли его в фаэтоне, на мягком сиденье, под низко опущенным верхом, и рядом с ним с обеих сторон, плотно прижавшись к нему и обдавая запахом пота, сидели двое полицейских, и еще двое стояли по обе стороны фаэтона на ступеньках, и впереди и позади фаэтона ехали конные полицейские, и всю дорогу оглушал грохот копыт, а перед глазами был широкий зад и большая плоская спина кучера.
Фаэтон пошел медленнее и остановился, и он почувствовал дыхание притихшей толпы. Раздалась команда. Кто-то выругался. Полицейские, сидевшие рядом, взяли его под руки и вывели из фаэтона. Он увидел пустой тротуар и красивые белые ступеньки подъезда. От фаэтона к подъезду с обеих сторон стеной стояли полицейские. За ними сплошным телом колыхалась толпа.
Его быстро повели к подъезду. В тишине ясно звенели кандалы. Издали крикнули:
– Да здравствует Камо!
По широкой мраморной лестнице внутри здания его вели уже медленно, давая на каждой ступени останавливаться, а когда повели по просторному темному коридору, он уже чувствовал усталость в ногах и думал только о том, чтоб скорее сесть. У высокой белой двери его остановили, повернули лицом к двери и предупредили, что, когда дверь откроется, он войдет один – за дверью его ждет другой конвой.
Как странно, думал он, через несколько минут произойдет то, что решит мою жизнь, а я еще не знаю, что это будет, и не может быть, чтобы такая важная вещь, как моя жизнь, решилась от того, что произойдет за несколько минут, – все уже давно готово: вся моя жизнь до сих пор подготовила то, что сейчас будет, иначе моя жизнь до сих пор не имеет никакого значения для того, что со мной произойдет дальше, а этого не может быть, потому что в каждой жизни от начала и до конца должен быть один главный смысл, и значит, то, чего я сейчас жду, уже есть, и между мной и тем, что уже есть, – только эта дверь, и так было в каждую минуту моей жизни, думал он, то, что происходило в каждую минуту, на самом деле уже давно было подготовлено всей жизнью, и мне только казалось, что все происходит от того, что я делаю в эту минуту, на самом деле все зависело от того, что я делал всю жизнь до этой минуты, и все уже есть, и тем, что я делаю, я только открываю дверь, за которой все меня уже ждет…
Но тогда, перед той дверью, я не думал об этом, а только чувствовал усталость в ногах и думал о том, чтобы скорее сесть, а об этом я подумал сейчас. Может быть, я и сейчас стою перед такой же дверью и от этого путаю время? В конце концов, что такое время? Что из того, что это происходило тогда-то, а это – тогда-то? Не могло все происходить сразу – тогда все смешалось бы и снова был бы хаос, и для этого существует время, чтоб не было хаоса… Главное же в том, как я жил до этого – до того, как что-то произошло. Как я жил внутри себя… Но все время что-то происходит, и значит, главное – как я живу внутри себя каждую минуту. И от этого все зависит?.. А от чего зависит то, как я живу внутри себя? Опять – совесть? Выходит, в конце концов все от совести, все, что я делал и делаю сейчас и каждую минуту, и то, о чем думаю… О чем я сейчас думаю? О том, что опять стою перед дверью? И боюсь ее открыть?.. Я уже полгода стою перед дверью, с тех пор, как женился… Все от того, как мы жили внутри себя до сих пор – как жила она и как жил я. Внешне Леопольд тоже жил не так, как я, но он понимает… Как сказал Кон? Все, что ведет к единению, правда, а что не ведет, неправда. Что ведет Леопольда к единению? То, что вокруг света плавал? Или образованность? Соня тоже образованна и людей лечит, но Соня не верит в единение. И не в том дело, что говорит об этом, а в том, что внутри себя так живет. Важно только это – что чувствует человек на самом деле внутри себя: чувствует себя отдельно от всех или чувствует, что он – только часть… Это, вероятно, и есть совесть – когда чувствуешь, что ты – только часть? Тогда можешь думать о других. А кто может думать только о других? Все дело в том, о чем человек думает больше – о себе или о других? Люди делятся на тех, кто думает о себе больше, чем о других, и на тех, кто думает о других больше, чем о себе. Те, что больше думают о себе, получают радость от того, что берут. Те, что больше думают о других, получают радость от того, что отдают. И от них свет идет, или тепло, или еще что-нибудь… В общем, что-то идет, Леопольд прав. А может быть, все дело в том, что Соня – женщина? Женщина так устроена, что о себе должна больше думать. Моя мать тоже женщина, у нее было двенадцать детей, и она мучилась от того, что люди теряют время на вражду. Всех жалела. И верила в царство божье для всех. А Соня говорит: у каждого свой путь и своя истина, а иначе не было бы отдельных людей! Леопольд очень ясно ей ответил. Истина – одна, сказал Леопольд, и одному она открыта, а другому еще нет, а если истина у каждого своя, никто никому ничего не откроет и нет смысла спорить. И после этого говорил о том, что духовные законы едины и неизменны для всех времен.
Потом Владимир Александрович и Соня опять спорили о насилии и непротивлении, и Владимир Александрович сказал, что считает вопрос основополагающим для всего дальнейшего хода истории. А Соня что-то возразила, что-то вроде того, что для нее здесь все ясно и никакая история не заставит ее убивать.
– А что бы вы ответили, если б я не спорил, а собирался вас убить?
– Логика солдата! – сказала Соня. – С такой логикой вполне можно уничтожать мир: убей его или он убьет тебя!
– А вы предлагаете сложить руки и ждать, когда тебя убьют?
– Я предлагаю не убивать.
– О да, вы хотите делать историю в белых перчатках!..
И в этом месте в разговор опять вступил Леопольд и сказал, что Ганди в Индии хочет победить не убивая и что только в этом случае и возможна вообще истинная победа, и еще говорил опять о непротивлении, что это борьба не с тем, кто несет зло, а против самого зла и нет ничего нелепее, чем убивать того, кого как раз и надо спасать, и еще о том, что все едино и человечество – одно целое, и ясно, что, убивая другого, всегда убиваешь себя, и поэтому ничего не остается, как любить друг друга, и еще что-то в этом же роде, а потом Владимир Александрович сказал о борьбе, что это тоже связь, и не только людей: деревья, травы, камни, птицы, животные, насекомые, всякие невидимые существа и растения и все остальное одно без другого не может жить, и все борются, а без борьбы нельзя ничего связать, то есть можно – но на другой планете, где уровень жизни другой, там, может быть, ничего и не разделено, а все слито, как один сплошной мозг, а на земле все разделено, и поэтому все связано только через борьбу, и без борьбы на земле поэтому нет жизни…
Потом снова пили чай и хвалили гату и еще о чем-то говорили, видно, смешном, потому что много смеялись, а он опять думал о том, как странно, что этот Леопольд сегодня пришел, и то, что он знал отца Леопольда, и думает теперь о своем отце, и о себе, и о том, как Леопольд красиво и умно жил до сих пор и, вероятно, так же будет жить и дальше, и впереди у него все ясно, а я так и не знаю, что теперь с собой делать, и не открываю дверь, перед которой стою, и это – трусость и самообман, потому что за дверью все давно готово, и от того, что не входишь, ничего не изменится…
Тогда, десять лет назад, в Тифлисе перед той высокой белой дверью зала военного суда он был уверен, что все зависит от того, что произойдет, когда дверь откроется и начнется суд, но уже когда дверь только приоткрылась и рослый красивый солдат испуганно оглядел его с ног до головы, и он увидел за дверью второго солдата и совсем недалеко, слева от двери, уходящий к высокому сводчатому окну длинный стол, и за столом людей в военных мундирах, и лица их на фоне окна – четкие темные профили, а слева, в зале, лица слиты, и ни одно не увидишь отдельно, с этого момента и пока он медленно шел, гремя кандалами, к столу, а солдаты так же медленно шли с обеих сторон от него, он почувствовал себя вдруг необыкновенно уверенно и с каждым шагом все увереннее, как будто сразу понял, чем все кончится, а когда подошел к столу, увидел перед столом пустой стул и так обрадовался, что тут же сел на него, и все так же уверенно и спокойно достал из-за пазухи воробья, посадил на стол, достал из кармана хлеб и стал крошить хлеб на стол, и воробей клевал хлеб, а он смеялся, глядя на воробья, и его действительно радовало, что воробей ест, потому что в камере он его накормить не успел. И еще ему казалось, что все теперь зависит не от генерал-прокурора Афанасовича, и не от второго генерала, что сидел посередине стола и был, очевидно, главным судьей, и не от других членов суда, среди которых – он сразу увидел это – никого не было ниже подполковника, а все зависит от того, что его связывает с воробьем, и это было для него так ясно, что он стал говорить об этом – о том, что воробей его брат и тоже человек, только на нем перья и маленький, ко какое это имеет значение, если он понимает, когда надо прилететь, правда, он не сам прилетел, он еще был птенец и не умел летать, а его задул в окно ветер, и дело, конечно, не в ветре, а в том, что воробья прислала мать, все думают, что она умерла, а она не умерла и прислала воробья…
Он видел, как переглядывались сидящие за столом, а генерал-прокурор Афанасович о чем-то его спросил, но он даже не расслышал, и вправду не расслышал, и уже никому больше не дал рта раскрыть, и говорил только сам, и, когда солдаты подняли его под руки с обеих сторон и отвели от стола, он все еще продолжал говорить, а Вася взлетел со стола и сел ему на плечо, и так, с Васей на плече, его вывели из зала в коридор и завели в маленькую полутемную комнату, и там он сидел часа два или три, пока судьи решали, что с ним делать, а он с аппетитом поел все, что ему дали, и опять разговаривал с воробьем и кормил его.
О том, что суд отложили и снова будет экспертиза, ему сказал на следующий день новый следователь. Он пришел в камеру чуть свет, сел на стул рядом с койкой, долго молчал, глядя на воробья, а воробей сидел на краю стола и смотрел не на него, а куда-то в сторону. Он заметил, что следователь хорошо сложен, хотя был уже не молод, а голова у него маленькая, и на лице еле помещаются большие роговые очки. Следователь сказал, что Малиновский от дела отстранен, и теперь дело будет вести он – следователь по наиболее важным делам Русанов. И подробно рассказал, что хоть эксперты на суде и заключили, что он болен, все из-за подполковников Вачнадзе и Пентко, они никогда в судебных заседаниях не участвовали и потому были приведены к присяге, а после присяги человек всерьез верит, что может быть честным, и хоть длится это недолго, несколько минут, за эти несколько минут вполне можно принять дурацкое решение, и именно такое решение вчера принял суд, определив Петросянцу длительное наблюдение в больнице. Но, слава богу, в Тифлисе нет больниц, в которых можно предотвратить побег, и поэтому экспертиза будет проведена в тюрьме, и сидеть он будет там же, где сидел, только с сегодняшнего дня под двумя замками, и еще Русанов сказал, что в донесении начальника тюрьмы прокурору сказано, что Петросянц совершенно здоров и это он в суде сделался психически больным.
Вопросов Русанов не задавал, поговорил еще немного о приближающемся лете, о том, что лето в этом году обещает быть особенно жарким, а Тифлис в котловане и поэтому будет еще и душно, особенно в Метехи, который на дне котлована, у самой Куры, и такое лето будет лучшей экспертизой – ничего больше не надо для психически больного человека, чтобы умереть, а если не умрет, ясно будет даже и для этих олухов Вачнадзе и Пентко, что Петросянц здоров, что касается его, Русанова, так ему это ясно и сейчас и поэтому наблюдать за Петросянцем в тюрьме он не собирается, а после лета, осенью, соберет смешанное присутствие суда и раз и навсегда покончит с этой затянувшейся комедией.








