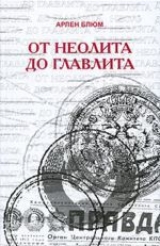
Текст книги "От неолита до Главлита"
Автор книги: Арлен Блюм
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
«В Гублите мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар – переодетый принц!!. Этак можно сказать, что „Крокодил“ – переодетый Чемберлен, а „Мойдодыр“ – переодетый Милюков.
Кроме того, мне сказали, что Муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо!!. Возражают против слова свадьба. Это возражение серьёзное. Но уверяю Вас, что муха венчалась в Загсе. Ведь и при гражданском браке бывает свадьба…
Мне посоветовали переделать „Муху“. Я попробовал. Но всякая переделка только ухудшает её. (…) Да и к чему переделывать? Чтобы удовлетворить произвольным и пристрастным требованиям? А где гарантия, что в следующий раз тот же Гублит не решит, что клоп – переодетый Распутин, а пчела – переодетая Вырубова?»
Это – отрывок из письма К. И. Чуковского начальнику ленинградской цензуры И. А. Острецову, занесённый в дневник писателя под 6 августа 1925 года.
Именно в эти годы была объявлена непримиримая война «чуковщине». Целая армия учителей, журналистов, литературных критиков и, конечно же, цензоров набросилась на сказки Чуковского, обвиняя автора во всех смертных грехах. Включилась в эту войну и сама Крупская, возглавлявшая тогда Главполитпросвет. Особенно невзлюбила она «Крокодила», напечатав о нём большую статью в «Правде» (1 февраля 1928 года). Ей очень не понравилось, что «крокодил целует ногу у царя-гиппопотама», что «перед царём он открывает душу», строки: «Вашему народу я даю свободу, свободу я даю!»: «Что вся эта чепуха обозначает? Какой политический смысл имеет? Какой-то явно имеет… Я думаю, что „Крокодил“ нашим ребятам давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть». Такой авторитетный отзыв жены и верной соратницы покойного вождя повлёк за собой, конечно, оргвыводы: детские книги Чуковского тотчас же стали изымать из библиотек, цензоры стали запрещать очередные их переиздания и т. д.
Высокопоставленные дамы приняли даже «Резолюцию Общего собрания родителей Кремлёвского детсада» под названием «Мы призываем к борьбе с „чуковщиной“» (опубликована в № 4 журнала Главсоцвоса «Дошкольное воспитание» за 1929 год). Они призвали объявить бойкот «чуковщине», особенно в «переживаемый страной момент обострения классовой борьбы», когда «мы должны быть особенно начеку и отдавать себе ясный отчёт в том, что если мы не сумеем оградить нашу смену от враждебных влияний, то у нас её отвоюют враги. Поэтому мы, родители Кремлёвского детсада, постановили: не читать детям этих книг, протестовать в печати против издания книг авторов этого направления государственными издательствами (…) Призываем другие детские сады, отдельных родителей и педагогические организации присоединиться к нашему протесту…»[74]74
Подробнее об этом см.: Борьба с «чуковщиной». Документы по истории литературы 20-х годов / Предисловие и публикация Елены Чуковской // Горизонт. 1991. № 3. С. 17–25.
[Закрыть]
Естественно, насторожились цензоры Ленинграда, где жил и печатался тогда Чуковский. Свободно издававшиеся до 1925 года книги писателя стали запрещаться в очередном, иногда в четвёртом-пятом изданиях. Чуковский пробовал искать защиты у П. И. Лебедева-Полянского, о чём говорит обнаруженное в архиве письмо: «Многоуважаемый Павел Иванович! Ленинградский Гублит ни с того ни с сего запретил четвёртое (!) издание моего „Бармалея“. Чем „Бармалей“ хуже других моих книг? Всяких мошенников пера и халтурщиков, кропающих стихи для детей, печатают беспрепятственно, а меня, „патриарха детской книги“, теснят и мучают. Право же, эта жестокость – бессмысленна»[75]75
АРАН. Ф.597. Оп.4.Д.79.Л.1
[Закрыть]. Но даже всесильный Павел Иванович, главный цензор страны, не помог, а скорее всего, не захотел помочь: он чутко держал нос по ветру, а ветер явно подул не в ту сторону. Сам Чуковский пробовал отстаивать свои права, разговаривал по этому поводу с Острецовым, но тот объяснил ему так (тогда ещё цензоры давали хоть какие-то объяснения): «Да неужели вы не понимаете? Дело не в какой-нибудь книжке, не в отдельных её выражениях. Просто решено в Москве – подсократить Чуковского, пусть пишет социально-полезные книги. Так или иначе, не давать вам ходу…»
Писатель отмечает в своём дневнике «удивительную неосведомлённость всех прикосновенных к Главлиту», а одного из ленинградских цензоров припечатал совершенно гениальной формулой: «…молодой человек (…) несомненно беззаботный по части словесности»[76]76
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 288.
[Закрыть].
К этому хору присоединились голоса ценителей из Смольного. Коллегия отдела печати Северо-западного Бюро ЦК ВКП(б) подготовила обзор детских книг, выпущенных ленинградскими издательствами в 1926 году. Особые претензии вызвала продукция крупнейшего частного издательства для детей «Радуга», «идеологически выдержанная на 41 процент, невыдержанная на 59. К последним нужно отнести некоторые книги К. Чуковского, которые удачны и приемлемы по ритмическому лёгкому стиху, но совершенно неудовлетворительные идеологически. Укажем хотя бы на „Муркину книгу“, рассчитанную, очевидно, на детей вроде Мурочки, родители которых и они сами привыкли получать все блага жизни без всякого труда, которым даже и бутерброды с краснощёкой булочкой сами в рот летят (…) Педагогически неприемлема книга „Бармалей“ того же автора, запугивающая детей разбойниками и злодеяниями („В Африке злодей, в Африке ужасный Бар-ма-лей…“)».
Всё тот же злосчастный «Крокодил» и позднее вызывал неудовольствие Главлита. Б. М. Волин, новый начальник Главлита, прочитав в газете о включении сказки в пятое издание знаменитой книги Чуковского «От двух до пяти» (1935 год), распорядился её задержать: в результате в книгу вошёл искорёженный текст[77]77
Чуковский К. И. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 123, 423.
[Закрыть].
Идеологическая кампания, развязанная в 1943–1944 годах, коснулась и детской литературы. 1 марта 1944 года «Правда» публикует статью П. Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского»: так квалифицирована сказка «Одолеем Бармалея», в которой писатель якобы пытался «сознательно опошлить великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма». Протест писателя, посланный в газету, так и остался неопубликованным[78]78
«Литературный фронт». История политической цензуры. 1932–1946 / Сост. Д. Л. Бабиченко. М., 1994. С. 123
[Закрыть]. Сказка привлекла внимание верховного цензора – самого Сталина. По его приказу был пущен под нож вышедший в свет в январе 1943 года сборник «Русские советские писатели. Антология 1917–1942 гг.», куда входила и сказка Чуковского. Единственный экземпляр антологии сохранился в собрании литературоведа В. Я. Кирпотина с его пометой «Книга не вышла». Вместо неё приказано было издать «Сборник стихов». Он вышел спустя полгода с исключением напечатанных в антологии сказки Чуковского и некоторых стихотворений Сельвинского, Кирсанова, Яшина и других поэтов. Сама же сказка вызвала неудовольствие вождя, видимо, за «несерьёзное» отношение автора к событиям войны – как и критики двадцатых годов, он не понял и не принял игрового начала детской поэзии Чуковского. Раздражение вызвало описание грядущего дня Победы; в этот день свершатся самые чудесные превращения («Куры станут павами, лысые – кудрявыми» и т. п.). Как свидетельствует в своём дневнике В. Я. Кирпотин, писателя, говоря на современном жаргоне, «подставили» детская секция и Президиум Союза советских писателей, выдвинувшие сказку «Одолеем Бармалея» на соискание Сталинской премии. Вождь читал всё, что входило в рекомендованный список, и лично утверждал каждую кандидатуру. Злосчастная сказка попалась ему на глаза… «Эта премия присуждалась в итоге лично Сталиным, – записывает Кирпотин. – Узнав, что Чуковский выдвинут, он рассердился – и дал соответствующий сигнал. Сказочника всенародно топтали, азарт и степень критики ошеломляли, переходящие в ругательства слова оставляли после себя чувство недоумения»[79]79
См.: Пашнев Э. Сталин-цензор, или Как из антологии советской поэзии получился сборник стихов // Литературная газета. 1997. № 47.
[Закрыть].
Травля продолжалась и даже усилилась после выхода в августе 1946 года постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». В статье С. Крушинского «Серьёзные недостатки детских журналов», опубликованной в «Правде» (29 августа), разносу подверглись журнал «Мурзилка» и сказка Чуковского «Бибигон». Однако за несколько месяцев до того уже была проведена артподготовка «по линии детской литературы». Донос на Чуковского поступил от «комсомольца-добровольца» – секретаря ЦК ВЛКСМ В. Иванова: «детский фронт» был всегда своего рода «епархией» комсомола.
12 апреля 1946 года он просит секретаря ЦК ВКП(б) С. Н. Патоличева ознакомиться со сказкой К. Чуковского «Собачье царство», изданной, как ни странно, каким-то чудом уцелевшим «кооперативным издательством „Сотрудник“» – «по заказу Центрального универмага Главособторга (!)». По мнению комсомольского секретаря, «это антихудожественное и антипедагогическое произведение. К. Чуковский, как и в предыдущих своих сказках „Одолеем Бармалея“ и „Бибигон“, допускает серьёзные ошибки». Г. Ф. Александров в сопроводительной записке сообщил о том, что «антихудожественная книжка К. Чуковского „Собачье царство“ подвергнута критике в газете „Культура и жизнь“ (от 10.12. с. г.) в заметке „Пошлятина под флагом детской литературы“» [80]80
ЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 472. Л. 121–122.
[Закрыть].
Начальник Главлита по своей линии выпустил приказ о работе Мособлгорлита, разрешившего «политически вредную по содержанию книжку К. Чуковского „Собачье царство“», которая была конфискована и изъята из продажи и фондов общественных библиотек. К делу приложен экземпляр небольшой (шестнадцатистраничной) книжечки с иллюстрациями Сергея Чехонина, снабжённый многочисленными подчёркиваниями. Содержание же сказки сводится к следующему: «злые» и «гадкие» (эти слова всюду подчёркнуты) мальчишки Шушка и Гулька издевались над добрым псом Полканом: не кормили, запрягали в тележку и ездили на нём, хлестали и т. д. Не выдержав издевательств, Полкан убежал в «Собачье царство», в котором живут одни собаки, а царём всех собак является Уляляй XVIII. Узнав о страданиях Полкана, он посылает пса Бабошку с приказом доставить мальчишек в «Собачье царство». Здесь они испытывают те же муки, которым сами подвергали несчастного Полкана. Наконец они взмолились, и добрый Полкан великодушно их прощает. Уляляй XVIII сказал при этом: «Я верю, что они станут добрыми, потому что здесь, в нашем царстве, ты дал им хороший урок».
Вся эта история рифмуется с нападками на «Приключения обезьяны» Зощенко, где тоже изображены злые люди, преследующие несчастное животное. Более того: как вполне серьёзно писалось в докладной записке Жданову об идеологических просчётах ленинградских журналов, «обезьяна, обученная и быстро привыкшая вытирать нос платком, чужих вещей не брать, кашу есть ложкой, может быть примером для людей»[81]81
Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994. С. 123.
[Закрыть].
* * *
Ещё анекдотичнее звучит такая цензурная претензия: В сборнике «Советские ребята» помещено произведение со стихами такого содержания:
Дама сдавала в багаж:
Диван, чемодан, саквояж,
Коробку, корзинку, картонку
И маленькую собачонку.
Дальше, по-видимому, в целях изобличения Наркомпути, стихи таким же размером передают, как собачка выросла в дороге.
Автор и произведение не названы, но ясно, что речь идёт о стихотворении С. Я. Маршака «Багаж», в котором была усмотрена клевета на наши железные дороги. Граф Клейнмихель во времена Николая Первого, когда началось строительство железных дорог, требовал, чтобы любая публикация, касающаяся деятельности Министерства путей сообщения, проходила в нём дополнительную предварительную цензуру (кстати, такие же требования предъявляло тогда даже Управление императорского коннозаводства – по своей части); теперь «честь мундира» всех ведомств защищали партийные идеологические структуры. Главной причиной «просчётов» в сборнике «Советские ребята» была сочтена та, что «писатели-коммунисты и комсомольцы к участию в сборнике не привлечены», в силу чего «для пролетарских детей сборник не приспособлен. Вообще в нём не чувствуется стремления сделать ребёнка общественником. Самым большим недостатком является то, что детская книга рассчитана на служилого (!) ребёнка. Необходимо решительно взять линию на выпуск книг для детей рабочих и крестьян».
Название, которое дал в 1935 году известному своему циклу стихотворений о животных в зоопарке С. Я. Маршак («Детки в клетке» с иллюстрациями Е. И. Чарушина, первоначально печатавшиеся в «Чиже»), звучит сейчас уже метафорически: и писатели, пишущие для детей, и дети-читатели оказались действительно в клетке, в загоне, отведённом для них тоталитарным идеологическим режимом. Удивительно, как это цензор не обратил тогда внимания на одно из последних двустиший цикла («Эскимосская собака»), которое могло вызвать, учитывая атмосферу Большого террора, совсем уже прозрачные аллюзии:
За что сижу я в клетке,
Я сам не знаю, детки!
В двадцатые годы авторам дозволялось – в ограниченных, конечно, пределах – касаться в своих публикациях деятельности Главлита и даже подвергать его критике. Однако конец эпохи нэпа означал прекращение не только каких бы то ни было нападок на цензуру в «открытой печати», но даже упоминаний этого слова. Не только слово «Главлит» изымается из обращения; самоё слово «цензор» объявлено табуированным («цензуры в Стране Советов нет!»), оно, применительно к советским условиям, подлежало искоренению в текстах и постепенно исчезло из разрешённого лексического обихода, заменяясь эвфемистическими терминами: «уполномоченный при издательстве», «политредактор», просто «редактор» и т. п.
Примечательна в этом отношении история публикации одного из рассказов Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945). В двадцатые годы писатель часто публиковал в журналах свои «шутейные рассказы», как он их сам называл, близкие по сюжетам и стилистике к рассказам М. М. Зощенко. Особую популярность завоевал уморительный рассказ Шишкова «Спектакль в селе Огры-зове». Позднее Шишков прославился как автор романа «Угрюм-река» и исторической эпопеи «Емельян Пугачёв».
Рассказ В. Я. Шишкова «Цензура» вышел впервые под таким названием в сатирическом журнале «Бегемот» (1926. № 14. С. 12). Однако через три года в «Полном собрании сочинений» писателя этот же рассказ уже фигурирует под названием «Редактор» (Т. X. М., 1929. С. 48–51). Видимо, по настоянию главлитовских органов издательство вынуждено было изменить не только название, но и внести существенные коррективы в сам текст рассказа. Слова «цензура», «цензор», встречающиеся в тексте семь раз, исключены полностью и везде заменены на слова «редакция», «редактор». Например, в зачине – «Скажу несколько тёплых слов в защиту цензуры» – последнее слово заменено на «редакторов»; «…стала меня цензурно крыть» – заменено на «энергично крыть» и т. д. Исключена в собрании сочинений и фраза, косвенно напоминающая о деятельности цензуры: «У нас семьсот циркуляров одних» (то есть главлитовских распоряжений, рассылавшихся на места). Заменена даже фраза, говорящая о партийной принадлежности цензорши: вместо «Не забывайте, что я человек партийный…» напечатано: «Не забывайте, что я женщина ответственная, одинокая…». По непонятным причинам «Марья Ивановна» заменена «Софьей Львовной». Лучше бы – «Софья Власьевна», как иносказательно называли советскую власть в частных разговорах.
В позднейшие собрания сочинений и сборники Шишкова рассказ, по вполне понятным причинам, вообще ни разу не включался.
В новых условиях несколько патриархальные нравы, существовавшие прежде в отношениях между автором и цензором, исчезли: первый ни в коем случае не мог лично встретиться со вторым; более того – не должен был, хотя это было секретом Полишинеля, даже знать о его существовании. Впрочем, грань между цензором и редактором постепенно стирается, и такая сценка вполне могла разыграться в редакции какой-нибудь газеты.
Публикуем рассказ Вячеслава Шишкова в первой, не изуродованной цензурой редакции.
Скажу несколько тёплых слов в защиту цензуры. А то все ругают её и, по-моему, напрасно.
Не знаю, как в столицах, у нас же в городе Тетерькине цензура замечательная и, в виде исключения, женского пола, Марья Ивановна, притом – высокого ума. Она совершенно молодая и со стороны внешней формы – очень стройная, сюжет развёрнут вполне, фабула тоже обработана. Нецензурно выражаться запрещает.
Хорошо-с. Приношу ей однажды рассказ из крестьянского быта. Под заглавием «Женская порка».
Она прочла и стала меня цензурно крыть. То есть так крыла в смысле идеологии, что по всему моему телу пошли пупырышки, как у щипаного индюка. Будучи сознательным, я выскочил на двор и стал глубоко вдыхать свежий воздух. Надышавшись как следует, вновь подхожу к её столу.
Она сидит, ничего не говорит и даже не смотрит на меня, а занимается маникюром. Брови наморщены.
А рассказ мой, вкратце, таков. Прибегает в сельсовет маленького роста мужичок с заплывшим глазом и кричит, что его избила жена, контрреволюционерка. Тогда всем комсоставом пошли брать эту скандалистку-бабу, которая сидела в избе, крепко запершись. Первый полез в окно председатель сельсовета, очень лохматый. Только он лёг брюхом на подо-конницу и закорючил ногу, как проклятая баба сгребла его за бороду и стала лупить ухватом по загривку, ругая советскую власть. Председатель кричит: «Тяните скорей обратно за ноги! Убьёт!» Словом, короче говоря, бабу взяли с бою и поволокли на площадь, затем согнали всех замужних женщин для образца наказания, затем оголили контрреволюционерку-бабу и стали производить дискуссию вожжами. Сначала сознательный муж драл, потом были содоклады и от прочих доброхотов. Скандалистка орала, остальные женщины поучались, смиренно говоря: «Мы будем тихие».
Это вкратце. Кончался же рассказ буквально так:
«Закат пылал. И вся пышная природа как бы созерцала подобный финал. Прохожий старик остановился, взглянул на истерзанный беззащитный зад, воскликнул: – Боже правый! – и заплакал».
Я говорю:
– Как же так, Марья Ивановна, вы бракуете такой потрясающий рассказ? Сюжет развёрнут, фабула обработана.
Она говорит:
– Да, всё прекрасно. Но у вас кулацкая идеология.
– Никак нет, говорю, вожжами драли.
Она опять начала меня крыть. Так крыла, так крыла, что у меня даже золотой зуб заныл. Я вновь выбежал на улицу и сожрал две порции мороженого, удивляясь, до чего сознательная цензура. Хорошо-с. Являюсь вновь к столу:
– Вы меня, Марья Ивановна, без ножа режете. Я Мишке Сусленникову два с полтиной должен. Я…
– Почему у вас тошнотворное слово – «Боже» – с большой буквы? – перебила она.
– Потому, что это новая строка.
– Пустая отговорка, – сказала она. – Переставьте слова, напишите: «Правый боже! – воскликнул старик».
– Так никто не восклицает, тем более на старости лет, – сказал я. – А всегда восклицают: «Боже правый».
Она говорит:
– Я, знаете, человек подначальный, должна стоять на страже. У нас семьсот циркуляров одних. Я женщина партийная.
– Я тоже человек сознательный, – сказал я, вставил папиросу в янтарный мундштук и закурил, пуская дым самыми маленькими колечками.
– А скажите, товарищ Моськин, вы в данном рассказе на стороне мужиков-насильников, или…
– Никогда! – возмутился я. – Всецело на стороне угнетённых женщин, – и вновь пустил дым самым маленьким колечком, вроде обручального.
– Ну, тогда другое дело, – ласково сказала она. – А почему вы не женитесь?
– Да как вам сказать, – замялся я. – Некогда жениться-то. Всё рассказы пишу… Так разве, на скорую руку это… как его… – потупил я глаза. – А во-вторых, где её, невесту-то, взять?
– Ну, – улыбнулась она, прищуривая свои очаровательные глазки. – За вас всякая пойдёт… Вы очень симпатичный… Очень, очень!..
– Извиняюсь… А вот почему вы замуж не выходите, такая красотка? – осмелел я, и чувствую – страшно заклубилась кровь во мне.
Она тоже замялась, склонила голову набок и ужасно обольстительно улыбнулась мне. Тут совершенно вылетело у меня из головы, что она цензура: я усиленно задышал, в то же время обдавая её двусмысленным любовным взглядом.
– Итак, ваш рассказ пойдёт, – вдруг проворковала она, голос её дрожал, пышная грудь вздымалась, сначала медленно, потом быстрей, быстрей.
– Неужели пойдёт?! – трагически заломил я руки. – Без всяких изменений? Ни одной строчки?!
– Да, да, не волнуйтесь. Ну, может быть, какое-нибудь словцо я переверну. Не забывайте, что я человек партийный.
«Мари Ванна! Мари Ванна!!!..» – и у меня впервые потекли обильные слезы радости прямо на пол.
Я вышел с высоко поднятой головой, громко сморкаясь и, на этот раз, пуская огромные кольца дыма. В сердце моём горела сильная, глубочайшая к ней любовь. И будучи сознательным, я твёрдо решил: если рассказ пройдёт, женюсь на ней, женюсь. Да здравствует любимая мною, мудрая цензура!.. Всё было на своём месте, всё, всё, дословно, даже те строки, где баба ругала советскую власть.
Лишь в самом конце рассказа, и то на законном основании, согласно идеологии, восклицание проходящего старика, а именно «Боже правый» – было заменено: «Боже левый».
1926
Попытки напечатать в советское время сакральные («тошнотворные», по выражению цензорши) слова с прописной буквы доставляли немало цензурных неприятностей издательствам и авторам; в дореволюционное время – напротив: запрету подвергались издания, в которых они напечатаны со строчной. С другой стороны, тогда же внимательно следили за тем, чтобы ни в коем случае с большой буквы не печатались имена нарицательные «земных существ». Так, по этой причине серьёзные неприятности могла испытать первая книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М.: Гриф, 1905), поскольку духовная цензура непременно обнаружила бы в ней «кощунство» – заглавные буквы в словах «Дева-Заря», «Вечная Пречистая Жена», «Закатная Таинственная Дева» и т. п., обращённые к невесте, а затем жене поэта – Л. Д. Менделеевой-Блок. Сохранить их удалось только благодаря уловке московских друзей Блока, пославших книгу на цензуру в Нижний Новгород, где капризною волею судеб очень краткое время должность «отдельного цензора» занимал Э. К. Метнер (брат известного композитора), пламенный почитатель поэзии Блока. Именно этим объясняется тот странный факт, что на книге, вышедшей в Москве, стоит отметка: «Разрешено цензурою. Нижний Новгород».
В советское же время дошли до того, что список опечаток, помещённый в конце книги Б. В. Томашевского «Русское стихосложение. Метрика» (Пг.: Academia, 1923), ограничивался таким предупреждением: «Стр. 18, 48, 55, 63, 87–88 – напечатано Бог, следует бог. Стр. 53, 88 – напечатано Господь, следует господь. Стр. 84 – Оною, следует оною. Стр. 84 – Ею, следует ею». На этих страницах находятся примеры стихотворной метрики, почерпнутые у русских поэтов девятнадцатого века, в частности у Лермонтова («Ночь тиха, пустыня внемлет Богу»). Начиная с этого времени даже в академических изданиях русских классиков «большие» буквы заменялись «маленькими». Ещё курьёзнее звучит особое примечание «От издательства», напечатанное – по-видимому, по настоянию цензора – на отдельной странице в «Мистериях» Байрона (Перевёл с английского размером подлинника Густав Шпет. Вступит, ст. и комментарии П. С. Когана. Отв. ред. А. В. Луначарский. М.: Academia, 1933): «Слова бог, господь, ангел, змий и т. п., в согласии с подлинником, набраны в этой книге с прописной буквы в тех случаях, когда они обозначают определённых лиц, хотя бы последние не выступали на сцене, а лишь упоминались персонажами мистерий. Отдельные отступления от этого правила являются упущениями со стороны технической редакции» (то есть велено считать «опечатками». – А. Б.). Академик А. Д. Александров как-то заметил по этому поводу: «Они пишут Бога с маленькой буквы, потому что боятся – вдруг с большой буквы Он начнёт существовать»[82]82
Гаспаров М. Л. Записи и выписки // Новое литературное обозрение. 1998. № 29 (1). С. 437.
[Закрыть].








