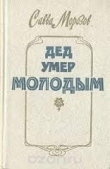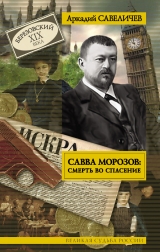
Текст книги "Савва Морозов: Смерть во спасение"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Дикость – что может быть лучше в такой густой, сладкой ночи?
Лукавый эмир бухарский понял, кто выгнал любимых англичан и французов. Особенно сожалел он о французах.
– Кто мне будет доставать лягушек! – раздосадованно кричал он на следующее утро, когда русский купец в очередной раз пришел говорить о хлопке.
– Да я, о великий эмир! – успокоил его Савва, уже привыкший к перепадам его настроения.
– Ты, князь?
– Ну, не совсем, чтобы я, – мои люди. Я пришлю сюда своего управляющего, со своими верными людьми. Да-да, не обижайтесь, о великий! У нас говорят: свой глаз-алмаз. Из них, из алмазов, и делают бриллианты. Кстати, понравились ли они любимой жене?
– Я поменял ее на другую – невесту того коварного негодяя, который хотел ее выкрасть. Да вы ее знаете, князь. Ей я и отдал бриллианты. Вкусна ведь невеста негодяя? – эмир хитровато и удовлетворенно смеялся.
До Саввы дошла проделка любвеобильного эмира.
– Значит, у меня была?..
– Она, она, князь. У нас говорят: если хочешь уважить друга – отдай ему свою жену. Что говорят у вас?
– Ничего. Просто отрубают это самое. – Савва многозначительно повертел рукой промеж колен.
Жест понравился эмиру. Он несколько раз попробовал проделать то же самое. пока не вышло черт знает что!
– Нет, придется вам, князь, еще задержаться. У меня не получается. Мне надо у вас поучиться. Да, князь.
Эмир поморгал глазенками как истинный восточный бес.
– Но хлопок, о великий?
– Я же отдал приказание своим министрам – выполнять любое желание князя. Кто смеет ослушаться?
– Никто, о великий! – поспешил откланяться незадачливый купец, уже зная, что надо делать.
Став под руку российского императора, которого он для большего уважения называл царем, перенял от него и российские чиновничьи должности. Так и стали все казнокрады, окружавшие эмира, министрами. Но русскому купцу нужен был тот, кто ведал водами. Хлопок – это вода. Земли здесь немереные тыщи верст. Бери любой кус, была бы только вода. А кетмень и согбенная спина – всегда найдутся.
Он нашел «министра воды» в грязном, со вчерашнего залитом жиром халате. Пришел не один – со слугой, который нес изящный, окованный серебром сундучок. Много он раздал подарков за две бездельных недели, но кое‑что оставалось. Этот сундучок был припрятан на день прощания – для любимой жены эмира, но коль он ее так коварно подарил гостю – не стоило церемониться.
Савва отдал поклоны не проспавшемуся «министру воды» и мигнул слуге. Тот распахнул сундучок: там была нанизанная на шелковый шнурок связка соболей. Вот тоже странная восточная мода: любовь к мехам при такой жаре! Но ему‑то какое дело – он соболиную связку достал, встряхнул, так что соболь осеребрился, и с новым поклоном повесил на шею министра. Хорошая была связка, концы свисали до пуза.
От счастливого вожделения министр долго не мог ничего сказать, прижимаясь то одной, то другой щекой к мехам и гладя свисавшие концы то с левой, то с правой руки.
– Что хочешь – проси, князь, – обрел он наконец дар речи.
– Только одного – оформить продажу двух обещанных великим эмиром мургабских плантаций.
– Только и всего, о князь! Сегодня же будет сделано. Друг великого эмира – мой друг.
Он тоже снизошел до поклона и провожал под локоток. Маленько говорил по-русски, и ладно. Поняли друг друга. Видно, соболи понятия добавили.
И верно, на следующее же утро «министр воды» пригласил его осматривать новые хлопковые плантации. Были они бескрайни и уже позванивали первыми коробочками. На них работали, подгоняя кетменями воду, сотни дехкан. Умудренный уже здешним опытом, Савва скрывал свое удовлетворение, хмурился.
– Князь чем‑то недоволен? – забеспокоился министр.
– Да, я оставляю здесь одного из своих управителей, а где он жить будет? Степь! Пустыня!
– Только и всего? – не мог отделаться министр от полюбившегося ему выражения. – Для твоего нукера мы построим дом, мы окружим его садом, мы дадим ему лучших жен, сколько пожелает.
– Он пожелает распоряжаться здесь от моего имени, – кивнул смышленому Данилке, которого оставлял на заклание. – В том числе – и деньгами, – многозначительно посмотрел на министра.
– Кто распоряжается деньгами – распоряжается и жизнью людей. Будь спокоен, князь, со счастливой душой поезжай к своему царю, – снова раскланялся министр, будучи уверенным, что князь только и делает, что восседает с царем за столом.
Вечером, когда удалось отделаться от расплывшегося в ласковости министра, Савва наказал Данилке:
– Будь грозен с ним, будь нагл, но – грань все‑таки не переходи. Ты видел, как швыряют с башни непокорных?
– Видел. – потупился Данилка.
– Выше голову держи! Всегда и везде, – ободряюще похлопал его по плечу. – Долго я здесь тебя не задержу. Ты мне на Москве нужен. Все равно ни бельмеса не смыслишь. Я татар сюда пришлю, они быстрее сговорятся с азиатами. А как дорогу построят – хлопок вагонами побежит в Орехово. Да и мне туда пора.
Но нельзя так скоро было уехать от эмира. Целая неделя прошла, прежде чем ему собрали караван до Каспия. Эмир для проводов сам изволил выйти на ступени дворца, а его нукеры личным отрядом провожали до первого колодца.
Дальше – дело обычное: пустыня, жара. Еще только начинался июль, а ехали в ночи, днем отдыхая у колодцев. Не только люди, но и верблюды не выдерживали. К знакомому шатру великого князя притащились вконец измочаленные.
Николай Константинович выглядел не лучше.
– Что случилось? – спросил Савва, уже догадываясь о неприятностях.
– Я только что вернулся с Аму-Дарьи. В конце июня началось небывалое таянье ледников в верховьях, вода хлынула вниз, и все наши плотины, отводные каналы.
– Разметало.
– Да. Вы были правы. Коммерцию нельзя строить на песке.
– Нельзя, – подтвердил Савва, искренне огорчаясь беде незадачливого мелиоратора.
Помочь он ему ничем не мог, да и торопился на другой берег. В Баку ему хотелось посмотреть невиданную электростанцию, работавшую на мазуте. О том трубили все газеты. В Орехово-Зуево мазута не навозишься, но суть электростанций одна и та же, только топки для торфа потребуются иные.
Тифлис с его банями и Минеральные Воды с нарзанами его меньше интересовали, но к курортам успели подвести железную дорогу, а к нефтепромыслам только еще тянули. как быка за рога!.. Железнодорожные воротилы, вроде Полякова, государственные субсидии разворовали и больше плакались, нежели строили дороги. Савва Морозов не ревизор, он охотно приятное с полезным совмещал.
В предвкушении уютного купе они в Тифлисе маленько побаловался. Как было избежать знаменитых серных ванн! Его предупреждали, чтоб не тешился слишком горячей водой, да и прочего не приведи господи! Намедни, мол, одна экзальтированная дама там окочурилась, смотри, Савва Тимофеевич, смотри-и!.. Он посмотрел, пяткой побил воду – и приказал банщику сделать воду погорячей, как во владимирской парилке. А услужающему велел принести из буфета бутылку шампанского, тут же в шипящей ванне с шумом пустил пробку в парной потолок, шампанское из горла выдул – и заказал другую. Потом, разумеется, и третью. Хозяин ошарашенно ахал, а он после такой благости во все горло распевал:
Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла.
Как же, он был истинным Морозовым.
Глава 3. Московские чертоги
Семья росла, забот прибавлялось. Не успел первенец Тимоша опериться, как и курочка Маша первыми перышками взмахнула. Зинуля молодец: как опросталась, сейчас же крепкими фабричными ручками на шее повисла:
– Видишь, Саввушка, какая я? За твоей Аннушкой-сестрицей не угнаться, но все же постараюсь.
Аннушка-сестрица, ставшая профессоршей Карповой, от безделья полтора десятка курят насидела – догони ее! Ведь и мужику в таком случае нужно побездельничать. Не мог же фабрикант Савва Морозов только тем и заниматься, что увеличивать народонаселение России? Она, Россия, как‑то и сама собой неплохо увеличивалась – миллион за миллионом, знай считай. Он со смешком ответил разошедшейся женушке:
– Нет, моя дорогая присучальщица, ты меня больше не присучивай. Я хоть и бизон, но все ж не бизон-производитель.
Зинаида свет Григорьевна двух сказаний не любила – когда ее называли Зиновеей и когда ее обзывали, она так считала, присучальщицeй. Круто модница взмахнула бархатным нарядным платьем:
– Не смей меня прошлым попрекать!
И столько гнева было в ее темных, роскошных глазищах, что Савва залутошился, перекрестясь:
– Свят, свят, Зинуля! Больше не буду. Буду наш курятничек строить.
– Фи, как ты выражаешься!
– По-дедовски. Не знаю, как твои, а мои‑то предки крепостными были.
И это не понравилось Зинаиде Григорьевне: видать, недосуг ей прочитать пушкинскую сказку о золотой рыбке. А пора бы, пора – и ради деток нарождающихся, и ради своей слишком уж роскошной судьбы. Что говорить, баловал ее тароватый фабрикант Савва Морозов. Роскошная жена лучше всякой рекламы, а Зинаидушка и прежде‑то красивая, – иначе чего бы он уводил ее от Сереги? – Зинаидушка, всерьез занявшись собой, так расцвела, что в Москве все знакомые ахали, а холостующий Амфи сокрушенно качал головой:
– Да-а, Савва. Не соблазнить мне твою жену.
– Да, не соблазнить, – соглашался Савва. – Строчи любовь бумажную. Не по тебе деревцо.
– Не по мне, уж верно. Но за другими‑то молодцами-разбойничками все же присматривай.
Дело говорил дружок и борзой писец. От породы, видно, горячей крови, она теперь, озолоченная, красотой‑то прямо кипела. А красота соответствующего обрамления требовала. Савва не стеснял ее в нарядах, знай оплачивал счета от портних, башмачников, парикмахеров. Часто они из Орехова наезжали в Москву, не скучали там, и об одном печалилась Зинаида:
– Все у нас есть, Саввушка. Да нет только своего домишка.
Был роскошный особняк в Никольском, ставшем Орехово-Зуевым, было отцовское поместье в Усадах, был наконец и двухэтажный особняк материнский, в Трехсвятительском переулке, но не жилось там в полное счастье. Что говорить, Савва и сам заветной мыслью маялся: свой домишко нужен! А уж если он брался за что, так с купеческим размахом. И Савва, еще не забывший свои азиатские усады-услады, ее покаянно успокоил:
– Будет у нас свой московский дом, Зинуля. Да такой, что все от зависти ахнут! Это говорит Савва Морозов.
Любил на себя хвастливо взглянуть, да ведь и то верно: лучшего московского архитектора залучил – Франца Осиповича Шехтеля. Истинно: знай наших!
С Шехтелем он познакомился через Антошу Чехонте. Доктор и университетский полунищий студент быстро становился заядлым писателем и веселым бабником – он даже дачу‑то в подмосковном Бабкине снимал! – ау этого «бабкина доктора» был брат Николай, художник, учившийся вместе с евреем Левитаном и немцем Шехтелем, – один другого хлеще! Дым коромыслом стоял у них в доме, когда набивалась орда краскомарателей, нотоигрателей, юбкоискателей; вечно занятый больными и своими юмористическими опусами Антоша убегал от них как с пожара, а при появлении Морозова просил:
– Савва, ты химик, сотвори мне аду! Травить их буду! Ибо нет жития!
Чеховы на первых порах от бедности часто меняли квартиры, но Антоша, уже известный Чехонте, вытаскивал из нищеты и отца, и мать, и сестру, и своих безалаберных братьев, – сняли они наконец‑то просторную квартиру в доме Савицкого, недалеко от Трубной площади. Далековато от Таганки и Хитрова рынка, к которому своим огромным садом, в низовьях диким и запущенным, спускалась городская усадьба вдовы Марии Федоровны Морозовой, но от домашних ссор почему бы и не сбежать? Матушка постоянно грызла Зиновею, та неуважительно фыркала на свекровь, а Савва между ними так гэ в проруби!
Среди суматошных, непритязательных друзей Антоши Чехонте отдыхала душа. Среди всесветного ора, пьянства, музицирования и бурлацкого пения там были все‑таки два совершенно других человека: сам Антоша и этот немец, Франц Шехтель, которого художники-побродяги бесцеремонно называли Федором, и даже Федей. Франц ли, Федя ли – он упорно выбивался, бросив кисти, в архитекторы. Московские зубры упорно не впускали его в свой загон, но бодался с ними такой бизон, как Савва Морозов. Он, конечно, мог бы найти и другого архитектора, но, во-первых, и Антоша со своей неназойливой застенчивостью попросил, а во-вторых, и самому этот немец чем‑то полюбился. Да чем – неимоверным трудолюбием и немецкой обстоятельностью. Проблему морозовского гнезда они уже несколько лет, встречаясь там и тут, обсуждали, для чего Морозов и прикупил землицы на Спиридоньевке, недалеко от Новинского бульвара. Они захаживали туда и на пустыре, очищенном от старых мещанских домишек, иногда распивали чаи, под коньячок, разумеется. Даже по-немецки чопорный Франц оттаивал: место было просторное, есть где развернуться размашистому архитектору. Он поторапливал:
– Савва Тимофеевич, чего вы тянете?
Он отвечал по-купечески:
– Как потуже набью карман, тянуть не стану.
Ведь и Зинаида, как сговорилась, Шехтелю поддакивала:
– Да, да, Савва, когда будет гнездышко? Ведь если не петушок, так новая курочка у меня угнездилась.
Можно ей было отвечать:
– Ну, соревнование с Аннушкой затеяла!
– Без твоей помощи трудно соревноваться. Где ты не только дни, но и ночи пропадаешь?
Не станешь же объяснять, что возле денежных мешков, в Купеческом или каком другом банке. Денежки любят, чтоб их погоняли, кнутиком хозяйским подстегивали. Да грешным делом и на пустыре своем иногда ночевал; была уже там построена сторожка с хороший мещанский дом. За липами и еще не выкорчеванным старым садом. Они сидели с Францем, которого он все‑таки называл Федором, и бредили не то дворцом, не то каким– то замком. Шехтель требовал полной свободы, он эту свободу давал, но со своей стороны ставил условие:
– Не вздумай, Федор, усадить меня в купеческую золотую тюрьму! Самолично разбодаю.
Шехтель сдержанно посмеивался:
– Нет, не зря вас родитель бизоном прозвал! Но бодаться‑то погодите. Пока замок наш еще только на ватмане. Калькуляцию вы внимательно прочитали?
– И читал, и ахал: не разориться бы тебе, Савва.
– Как решите. Ни копейки лишней я в калькуляцию не заложил.
– Да знаю, знаю, Федор. Не трави душу. Давай‑ка лучше почаевничаем.
Чего же, чаевничали частенько. На огонек к ним у костра, горевшего на задах Спиридоньевки, захаживали, прознав дорогу, и приятели Антоши Чехонте. Сам он раза два только и бывал – клистиры да юмореи на уме! – а братцы его и многочисленные приятели, во главе с чахоточно кашлявшим Николаем, Шехтелю сильно досаждали. Мало вина, так им девок подавай, им цыган тащи! Савва в ужасе накачивал их, чтоб они где– нибудь улеглись на траве, и оправдывался:
– Какие девы? Не видите – голый пустырь?
– Девы-пустынницы, известно, – пояснял Николай, покашливая все сильнее.
– Тебе, братец, юг пустынный нужен, лучше всего крымский.
– Во-во, с Левитанчиком за компанию, дай с нашими милыми артистеюшками! Деньги даешь?
– Да вашу цыганскую орду и Ротшильд не прокормит!
– Я иговорю: здесь наш табор. Ты не спеши, Савва, домину строить. Нам у костра лучше.
– А зимой‑то, артистеи-худолеи?
Братец Аитоши не больше минуты впадал в сомнение, а тут и решение:
– Да мы к тебе в сторожку переберемся. Ты, Савва, заготовь нам хороший возок соломы, мы ее расстелем на полу и. И!..
Дальше можно было не договаривать. Ясно, что начнется на морозовской соломке. Не только ведь мужички-художники, но и девицы-художницы, и дивьи артистеи за ними тянулись. Савва и сам опомниться не успел, как в одно хмурое утро проснулся в обнимочку и в недоуменье вопросил:
– Ты кто, душа дивная?
Общий смех ему был ответом из других углов. Вот дела‑то! Дождь. или дьявол?.. Их всех сюда загнал?!
– Савва, головы трещат!
– Моя Дульцинея проголодалась!
– Саввушка, не хмурься, милый.
О времена, о нравы! Его обнимали при всех, прилюдно. Не обращая внимания, что кучер Данилка, вызволенный из хлопкового ада, в новый ад и попал, требовал по своему неукоснительному праву:
– Савва Тимофеевич! Вставайте да голову правьте, неча тут с бабами.
– С девицами, неуч! – и его заодно учили.
Но Данилка‑то в любимцах хозяина состоял, потому и отмахивался:
– Ну вас, бездельников! Савва Тимофеевич, гоните их всех взашей. Там Франц Иосифович колышки уже разбивает.
Савва вырвался из ненужных объятий и пробормотал:
– Прости, Зинаида. грешен, да. но мы идем колышки забивать. Да, в наше милое гнездышко.
Хозяин полуодетым убежал, и Данилка уже взял хозяйские бразды в свои руки – тащил все, что со вчерашнего оставалось.
А Савва тем временем оправдывался:
– Прости, Федор Осипович, заспался.
Шехтель, прибывший с несколькими помощниками, таскал за собой рулетку и деликатно бросал через плечо:
– Хозяину спать – строителю работать. Идут ли материалы?
– Идут, Федор Осипович, не беспокойся. Первый обоз с камнем ожидаю сегодня к вечеру. Известка уже выгружается из вагона. Кирпич баржой вошел в Москву-реку. Уральское железо гонит мне уральский же пароходчик Мешков. Стекло там. железо кровельное.
– Да ладно, Савва Тимофеевич, – как всегда, деликатно смирился Шехтель. – До окон, до крыши еще далеко. Не все и с проектом у меня ладится. Поговорим. без этих похмельных свидетелей?
Строгая немецкая спина его повернулась в сторону вываливавшихся из сторожки художников и их взбалмошных художниц. Савва тоже только издали помахал им рукой, чертыхаясь:
– И с которой же меня бес попутал?..
Вслух, видимо, чертыхнулся, потому что Шехтель незлобливо рассмеялся:
– Щедрая душа у вас, Савва Тимофеевич.
– Дрянная душа! – не согласился он с утешением. – Займемся делами.
– Что у нас еще не обговорено?..
– Многое, Федор Осипович, – начал настраиваться на деловой лад и Савва. – Эти магазинные, рекламные окна, например. Что дала поездка в Крым? В Ливадийский дворец?
С окнами у них чуть ли не до кулаков доходило – махал руками, разумеется, сам хозяин, а Шехтель, отступая, молча кружил по развороченному землекопами двору. Савва уставал и успокаивался. Но на другой день повторялось все сначала. Был момент, когда Шехтель решительно заявил:
– Послушайте, Савва Тимофеевич. Или вы доверяетесь мне как архитектору. или я ухожу. Никакой неустойки за потраченные труды не востребую.
Вот так, с тихой, но немецкой решительностью. Савва понял, что Шехтель не уступит, и предложил ему прокатиться в Крым. Сам он по пути из Азии заворачивал туда, видел и Ливадийский дворец, и многое другое. Была ведь и тайная мысль: присмотреть местечко для своего южного именьица. А что? Семья увеличилась, да и не остановится Зинуля, как говорится, на достигнутом. А самому ему не захочется брюхо погреть на южном солнышке? Так что приятное с полезным очень даже ладненько сочеталось. О московских окнах он тогда еще не думал, но в душу‑то запало. Верно, окна первых этажей там были широки, распашисты, над землей невысоко поднимались, впуская в свои просторы весь цветущий окрестный мир. Но то юг! Московский‑то, обвеваемый вьюгами, дом – возможен ли с такими окнами? Вот о чем у них шел нескончаемый спор.
Шехтель задумал этот московский дворец – да чего там, именно дворец первостатейный, под стать фамилии Морозовых, – Шехтель замыслил нечто для него даже небывалое. А уж по московским понятиям – немыслимое: соединить готику с неким средневековым замком и со всеми житейскими удобствами, при суровой‑то русской зиме. Тем и купил самолюбивого хозяина – размашистостью своих планов. При всей немецкой расчетливости, Шехтель вобрал в себя и русскую разудалость. Была она такова, что даже у Саввы Морозова, человека в своих делах безудержного, сомнение вызывала. Потому и дожимал он его сегодня со всей своей обходительностью.
– Поездка в Крым меня утвердила в своем решении, – присел он на штабель первых, привезенных на пробу кирпичей. – Но – и внесла некоторые коррективы. Да, и ваши окна первого этажа впустят в дом весь окрестный мир. Пустырь сейчас? Но дело рук человеческих – облагородить его. Пускай поменьше, чем в Ливадии, будет роз, зато – сирень, жасмин, разные тюльпанчики и незабудки – забудешься от дум фабричных, глядя на все это. Вы ж бывали в Англии? Не южный край, а какие там лужайки! Какие цветники! Пригласите толкового садовника. А с северной стороны, до террас второго этажа, мы поднимем наши березки и под защитой на отдалении устроенных, невидимых дворовых служб южные туи даже воспитуем. Они не кипарисы, при должном уходе устоят и перед русской зимой. Да ведь и сад, с яблонями и вишнями – через мои. через наши окна, – с улыбкой поправился Шехтель, – сад прямо войдет в дом. Видана ли на Москве хоть у кого‑то такая благодать? – постучал он своим изящным кулачком по самолюбивому лбу устроителя.
Савва поднял руки:
– Сдаюсь, сдаюсь, Федор Осипович! Я ведь и художников еще сюда притащу. Левитан обещал залучить самого Врубеля – то‑то он мне демонов да оголенных див наворочает!
– Оголенности тут, кажется, и сейчас хватает. – с усмешкой проводил глазами
Шехтель какую‑то забытую приятелями девицу, которая во всем своем растрепанном виде выбегала из сторожки.
– Не она ли. Мать ее?.. – вслух подумал Савва, потому что девица, застегиваясь на ходу, этак игриво ручкой ему помахала.
Чопорный Шехтель расхохотался:
– Ну, хозяин, не состариться вам и в сто лет!
– Не в старости, так в младости – все равно ведь помрем. – взгрустнулось чего‑то, но тут же и зычный зов: – Дани-илка!..
А он, бес любимый, из‑за штабелей кирпича с подносом вышел, а на подносе – все, что душа пожелает по утреннему смутному времени!
– Да ты у меня кучер или метрдотель?..
– Я Данилка, – скромно ответствовал бес, смахивая с плеча прихваченную скатерку, расстилая ее на кирпичах и ставя поднос. – Стулья принести?
– Какие стулья? – восхитился Савва своим любимым бесом. – Нам нужно куда сегодня ехать?
– В банк, в московскую контору, дай к матушке обещали. Иль забылось?
– Забылось, Данилка. Все эти худо. художества! Матушка – дело серьезное, потому тебя и не приглашаю. К сыновнему духу она привыкла, но чтоб от кучера сынком попахивало.
Слушая разговор хозяина с кучером, Шехтель только головой качал. Сие было ему непонятно.
Савва Тимофеевич чтил родовые устои, заложенные еще делом Саввой Васильевичем и нерушимо укрепленные родителем Тимофеем Саввичем, – иначе с чего бы первенца Тимошей назвал. Но все‑таки визиты к матери сносил через силу, а Зинаида вообще находила любой предлог, чтоб не показываться к свекрови. Особой радости не было, как не было в Москве пока и своего дома – не торчать же вечно в Орехове да в поместных Усадах. Оттого и покладист был с Шехтелем, чтоб побыстрее свое жило обрести.
Мать как мать, у нее свои устои, свои причуды. После смерти Тимофея Саввича переселившись в Трехсвятительский переулок, в огромную городскую усадьбу, она была довольна. Главная контора Никольской мануфактуры была поблизости, и она, основная пайщица и держательница мужниных капиталов, – сыну‑то отпала меньшая часть, – жила в своем старообрядно устроенном мире. К тому же не без причуд. Окружила себя целым сонмом приживалок, благо что места хватало, а много ли она одна могла проесть да пропить на квасах – не на коньяке же, как сынок-управитель. В двухэтажном купеческом особняке, с массивными арочными воротами и несокрушимой же оградой, было только жилых комнат два десятка, да флигеля, да разные службы, да зимний обширный сад, – своя Москва на спуске к Таганке и Хитрову рынку. Но шумная воровская и торговая жизнь, на задах огражденная непроходимой, чуть ли не таежной чащобой, при сторожах и собаках, до особняка не долетала, а Трехсвятительский переулок был чист и ханжески тих. Причуды, они на все свой отпечаток накладывали. Мария Федоровна не пользовалась уже запылавшим по всей Москве электричеством – у нее по всем комнатам горели несокрушимые керосиновые лампы. Боясь простуды и горячей воды, приказывала омывать – отирать себя одеколоном, почему в комнатах и стоял страшенный дух: помесь всевозможных одеколонов, растираний да ладана. Иконы – они все другие картины заменяли. Переходя из комнаты в комнату, молись в каждой за упокой души Тимофея Саввича. А ведь была еще и домашняя молельня, где ежедневно правил службы рогожский священник.
Единственная связь с миром – дочки да многочисленные внучата. Александра была что– то не в себе и, кажется, не жилица на этом свете, сынок ее, Сережа, – в разросшемся роду Морозовых много было Сергеев, – тоже постоянного пригляда требовал. Зато старшая, Анна, вышедшая замуж за университетского профессора Карпова, пятнадцать внучат наметала. То‑то могло быть шуму, когда все они с визитом к бабушке заваливались! А шуму‑то и не слыхивали – строго возбранялось. Хотя и следующая дочь, Юлия Тимофеевна, выданная за свечного и мыльного фабриканта Григория Крестовникова, вместе с замужней уже дочерью Машей, от мужа-заводчика получившей фамилию Лист, с визитами наезжала. Со счету можно было сбиться, сколько в моленную старообрядческих душ набивалось. Но память у Марии Федоровны была прекрасная – со счету не сбивалась, как и при ревизии фабричной бухгалтерии. Нет. Никого не оставляла вниманием. К ручке внучата подходили по очереди, и каждый за то получал империал золотой – ценой в пятнадцать целковых. Ни больше ни меньше. Купеческий счет точный.
Правда, кроме упрямца Саввы еще один выбивался из стаи – младший сынок Сергей Тимофеевич. Но то – любимец, которому в этом строгом мире, кажется, все разрешалось. Мария Федоровна, конечно, не одобряла его холостяцких увлечений, например венгерки– плясуньи, которую он открыто в содержанки выбрал, для похвальбы даже к брату и матери привозил – что ты с ним поделаешь! Ходили дрянные слухи, что последыш‑то не от Тимофея Саввича, да вот поди ж ты – настроения матери не портили. С совета братца Саввушки он, чертенок, на задах обширной усадьбы пристроил какого‑то евреенка, Исаака Левитана, мастерскую ему, видите ли, оборудовал. Чего сдуру да от безделья не наделаешь! Женить следовало милого Сереженьку, тем более что лучшие московские красавицы на него зарились, а он, по наущению бузотера Саввушки, венгеркины подолы ометает. Да и опять с какой‑то причудой, не с Саввушки, так с чего‑то ж пример берет.
Ей называли и фамилию чудного доктора, да она, пока плевалась, и саму фамилию‑то от гнева выплюнула. А вот возьми ты, не в пример Саввушке, – любимец! Может, все‑таки грех какой сказывался?
Разогнавшись к матери, Савва как раз и наскочил на Сергея: они с Левитаном прохаживались по саду, а Савва, не решаясь с первых шагов окунуться в духоту ладана и одеколона, тоже решил прогуляться. Да заодно и покурить. Боже упаси об этом заикаться в материнских покоях!
– Все по своему Форелю баб пользуешь? – с ходу начал задирать Савва.
Братец Серега, как и тот Сережка, у которого он увел Зиновею, был необидчив.
Простодушно прямодушен. Прямо сказал:
– По Форелю. Два раза в неделю, как и положено. Вот Исаак, – неодобрительно глянул на художника, – без всякого режима живет.
– Дерет, ты сказал? – входил в раж Савва. – Не твою ли милую венгерку?
Левитан хохотал, так что черная борода тряслась, но братец Сергей был несокрушимо спокоен.
– Режим – он здоровье сохраняет. Тем более паршивые всякие болезни.
–... Сифилис, что ли? – вовсю расходился Савва.
Тут и Левитан не утерпел:
– Какие сифилисы, помилуй, Савва! Перед визитом Сергея Тимофеевича венгерка ходит в баню, а Серега к тому же ублажает ее в присутствии своего личного доктора.
– Да что у вас, Сереженька, по-немецки – так группен-секс, а по-нашему – так свальное блядство?
Сергей был невозмутим, поясняя как можно доходчивее:
– И вовсе не смешно. Доктор осматривает только предварительно, без меня.
– И долго ли, братец, идет этот осмотр?
– Когда как. Бывает полчаса, бывает и поболее. А что?
– Да то, что я бы за это время, братец, штаны бы намочил, а доктор для меня дитятю сотворил бы!
Нет, Сергей в своем спокойствии был несокрушим:
– О чем ты говоришь, Савва Тимофеевич? После моего пребывания в милой спаленке, возле милой.
– Возле? И только?!
– Ну, не совсем чтоб уж возле. – понял наконец шутку Сергей и рассмеялся.
– Ага, верхом?
– Да что я, твой Сережка-наездник?
Нет, младшенький тоже пускал камушки в огород старшего. Савва смилостивился, одной рукой обнял его, а другой Левитана и на полном серьезе предложил:
– А что, не приобщиться ли нам всем троим. по науке немца Фореля?..
Левитан хохотал уже безудержно:
– Ну да, после каждого посещения твоей благой сторожки я бегу в Сандуны – до Форелей ли тут? А кстати: у Тестова, сказывают, настоящие форели появились. Не пофорелиться ли нам по-купечески?
У Левитана, как у всякого художника, в кармане не было ни гроша, да ведь тут два братца-купца. Жаль, Савва Тимофеевич вздохнул:
– У меня тоже режим. Сегодня день визита к матери. Уж не обессудьте, други. Иду на заклание!
Он круто повернулся и направился к парадному. Там какая‑то монашка и попеняла:
– Родительница‑то давно вас видит из окошка. Чай, не железная, чтобы висеть на подоконнике. Ай-ай-ай, Савва Тимофеевич!
– Ай-ай-ай, старая срачница! – хлопнул он ее по не такой уж и старой спине. – Посторожи меня в сенцах. На обратном пути угощу тебя, вместо кваску‑то, хорошим винцом, – потряс он фалдой сюртука, оттянутого явно чем‑то тяжеленьким.
Слух у монашенки был отменный: услышала милостивый булькоток.
Войдя к матери, он первым делом поцеловал ручку, а потом уж присел рядом. Приживалки и монашенки при его появлении порскнули на стороны, рассыпались в прах. Сын ведь и при матери крутенек бывал.
Мария Федоровна глянула в окно, где еще виднелись спины Сергея и Левитана, и первым делом попеняла:
– С каких мясов сдался тебе, Саввушка, этот безродный евреенок?
– Мамаша, он уже известный художник, – как можно мягче объяснил Савва. – Да и потом: Серега его опекает, любимчик ваш, – лукаво свалил все на брата.
– Любимчики, любимчики. Все у меня одинакие, – не понравилось, что в глаза укололи. – Да ладно. Зиновея‑то как? Догоняет помаленьку Аннушку?
– С Божьей помощью, мамаша. Хотя попробуй‑ка догони!
– Вот-вот. Бог‑то – он все видит, все-е! Давно ты к Рогоже ходил? Давно модницу Зиновею водил?
Допрос принимал серьезный характер. Припухшее мордовское лицо Марии Федоровны стало наливаться жаром. Но Савва терпел, не давал себе воли. Молчок – лучшее оружие в разговоре с матерью.
– Вижу, что палкой вас к Рогоже не загонишь. Не тиятер! Не барделя цыганская!
Ясно, что соглядатаи и подхалимы выслеживали каждый шаг распашисто живущего сынка. Тут следовало осторожно возразить:
– Поменьше бы вы, мамаша, слушали разные сплетни.
– А ты меня не учи, не учи. Матерь я или не матерь?
– Что за разговор, мамаша! – снова пришлось приложиться к ручке, готовой сложиться в суровое двуперстие. – Вашими молитвами только и живы.