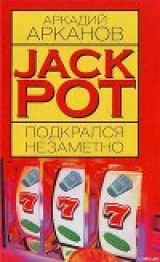
Текст книги "Jackpot подкрался незаметно"
Автор книги: Аркадий Арканов
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
IV
Вечером того дня, когда незнакомый автор всучил Алеко Никитичу тетрадь в черном кожаном переплете, Аркан Гайский ужинал с машинисткой Олей, ловя ее на совместную жизнь. Ужин происходил в недорогом, а потому любимом Гайским кафе неподалеку от редакции. Неожиданно за столом возник художник Дамменлибен.
– Зд-д д-д-о… – начал здороваться Дамменлибен.
– Здравствуй, Теодор, – скучно сказал Гайский, прекрасно понимая, чем все кончится.
– Бардак, – преодолел робость Дамменлибен, – ты Нелли знаешь она умная женщина тещу перевез на дачу бардак здорово Олюха дома все нормально? Аркуля как тебе нравится с работой зашиваюсь дай мне еще пятерку и я тебе буду должен шестьдесят девять для ровного счета щенок всюду гадит бардак здорово Олюха…
– Теодор, ты мой рассказ проиллюстрировал?
Дамменлибен сунул пятерку в карман:
– Мебель подорожала бардак ты мою Нелли знаешь тебе надо жениться здорово Олюха от тебя тот альфонс отстал? Пе-пе-пе-пе-редвигается твой рассказ Алеко звонил юбилейный номер готовится бардак щенок всюду гадит у него рукопись лежит из самотека пацан какой-то принес с голубыми глазами Глории нравится здорово Олюха к тебе этот автор не заходил?
– Нет, – ответила Оля, – я весь день печатала очерк Сверхщенского об истории Мухославска. В юбилейный номер.
– Молодой с голубыми глазами, – продолжал Дамменлибен, – ни фамилии ни адреса турки совсем обнаглели в папу стреляют бардак я у тебя пятерку взял? Петеньке в портфель наложили здорово Олюха мистика про какого-то мад-д-д-дранта…
– Про мадранта? – оживился Гайский. – Если это тот парень, с которым меня хотели познакомить в Москве, то он сын очень крупного человека… Мне давали читать… Я сказал тогда, что гениально, но на самом деле муть. Скучища и никакой сатиры… Бред под Маркеса… Но чей-то сынок… Скажи Алеко Никитичу.
– Если пойдет буду иллюстрировать а чей сын помнишь уж ты мою Нелли знаешь…
– Чей не сказали, но кого-то оттуда… Чушь собачья. Прозу любой может писать, а ты попробуй вскрой, когда душат!..
– Расскажите лучше анекдот, Аркан Гарьевич, – попросила Оля и погладила Гайского по плечу.
Гайский расценил этот жест как аванс, количество адреналина в его крови резко возросло, и он заверещал голосом кукольного Петрушки, входя в образ героев анекдота:
– Однажды один англичанин решил показать другому англичанину свой замок. «Вот здесь, – говорит, – живет моя прислуга. Здесь я принимаю гостей. Это моя столовая, это мой кабинет, это моя спальня…» Открывает он дверь в спальню и видит, что рядом с его женой спит незнакомый мужчина. «А это, – говорит, – моя жена». «А рядом кто?» – спрашивает другой англичанин. «А рядом я».
Оля дробно захохотала, и Гайский, воспользовавшись этим, поцеловал ей руку.
Теодор Дамменлибен мутно посмотрел на Гайского, пытаясь осмыслить услышанное. Затем, бросив это бесполезное занятие, обратился к сатирику:
– Я у тебя пятерку взял? Бардак здорово Олюха смешно слушай Аркуля возьми мне сто грамм ка-ка-ка-кап.
– Имей совесть, Теодор, – почти вышел из себя Гайский. – Я тебе дал пятерку.
– А т-т-т-т-ы-ы мне ее дал? – искренне удивился Дамменлибен. – Бардак щенок всюду гадит пойду Никитичу позвоню здорово Оля ах да я с тобой здоровался…
И Дамменлибен оставил их в покое.
– Не хотите прогуляться по воздуху, Ольга Владимировна? – сказал Гайский. – Могу пригласить к себе. Я написал новый рассказ «Архимед и ванна». О недостатках водоснабжения. Если напечатают, кому-то не поздоровится.
– Мне завтра к девяти в редакцию, Аркан Гарьевич, – мягко отказала Оля. – В другой раз хорошо?
Аркан Гарьевич потупился:
– У меня к вам серьезные намерения, Ольга Владимировна. Мы с вами две половинки одного сосуда, именуемого счастьем. Нас бросает в океане пошлости и некоммуникабельности и прибивает совсем не к тем берегам, к которым бы нам хотелось. Пойдемте ко мне, Ольга Владимировна, я вам почитаю. У меня дома есть портвейн и кое-что сладенькое. Вы не представляете, как трудно заниматься сатирой. Все завидуют. Все…
Ольга Владимировна вздохнула.
– Вы знаете, кто такой зануда? Это человек, которому легче уступить, чем отказать…
V
Алеко Никитич входит в лифт в восьмом часу вечера и нажимает кнопку шестого этажа. В портфеле у него материал Сверхщенского об истории города Мухославска, который сегодня вечером он должен прочитать и внести необходимую правку, а в голове – мысли о юбилейном номере. Уж так некстати накладывается одно на другое: и семь лет со дня основания журнала, и тысяча двести лет Мухославска, и годовщина с того знаменательного дня, когда Мухославск стал побратимом австралийского города Фанберры. Да еще в порядке того же панибратства и культурного обмена приезжает редактор фанберрского журнала «Диалог» господин Бедейкер, которого надо будет принять и носиться с ним на высоком уровне. В общем, дел невпроворот.
Он входит в квартиру и застает Глорию за своим рабочим столом. Включена настольная лампа. На Глории очки, и это свидетельствует о том, что она читает. На ее коленях дремлет палевый коккер-спаниель Дантон. Алеко Никитич снимает макинтош, влезает в домашние тапочки и подходит к Глории. Она предостерегающе поднимает правую руку: мол, не мешай, подожди минутку, я занята. Алеко Никитич наносит ей поцелуй в затылок и видит, что Глория читает ту самую тетрадку в черном кожаном переплете, которую еще днем он вынул из портфеля и оставил дома.
– Это поразительно интересно, – говорит она, продолжая чтение, – так неожиданно, так свежо, так необычно…
Глория уже несколько лет не работает, но зато занимается активной общественной деятельностью в городском Клубе любителей друзей человека, являясь вице-президентом.
– Где Машенька? – спрашивает Алеко Никитич.
– Машеньку Полина купает, – отвечает Глория, – а у Леонида спектакль.
Чувство неприязни к Леониду возникает под ложечкой Алеко Никитича, но он давит это чувство.
– Мне нужен стол, – говорит он.
– Алик, кто этот человек? – спрашивает Глория.
– А черт его знает. Ворвался в кабинет, минуя Зверцева. Положил передо мной тетрадку и заявил, что Зверцев правит Сартра… Вообще производит впечатление не совсем нормального. Глаза странные какие-то. Но самое интересное, что, когда я позвонил Зверцеву, оказалось, никто к нему не обращался, но он действительно в этот момент правил Сартра.
– У вас идет Сартр? – удивляется Глория.
– Да ни слухом, ни духом! Вам что, говорю, Зверцев, делать нечего, как только Сартра править? И знаешь, что он ответил? Что ему сегодня принесли перевод неизвестной работы Сартра, и он решил его немного поправить и предложить в журнал. Глупость какая-то.
– Сартр – это, разумеется, ваше внутреннее дело, – говорит Глория, но этот парень, – она указывает на тетрадь, – достоин внимания. Ты только послушай! – Она начинает читать с выражением:
«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом…»
– Да, я просматривал, – пытается отмахнуться Алеко Никитич.
– Нет, ты послушай внимательно! – настаивает Глория. – Какая аллитерация! В одном только первом абзаце двадцать пять «р». Это создает напряжение и внушает властность! – И Глория продолжает:
«Поднявшееся над морем солнце бледно-шафрановыми лучами ударяло в плотные вишневые шторы, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше отрывалось от моря светило, тем ярче возникала в покоях мадранта иллюзия разгоравшегося по ту сторону вишневых штор кровавого зарева.
Четыре фиолетовых арбака методично и плавно обмахивали мадранта благовонными опахалами. И когда мадрант ощущал кожей лба или щек легкое приятное дуновение воздуха, он понимал, что проснулся и что наступило утро. Очередное утро мадранта, утро ревзодов, утро этих фиолетовых арбаков, утро его народа и всей данной ему небом страны.
Иногда мадрант просыпался ночью. То ли от чересчур назойливой мухи, что было явным упущением со стороны арбаков, то ли от слишком сильного дуновения, вызванного опахалами, что тоже являлось оплошностью арбаков, то ли от тяжелого сновидения… Но, независимо от причины, сам факт ночного пробуждения мадранта означал смертный приговор всем четырем арбакам, которых утром наступившего дня бросали на съедение священным куймонам, чтобы не тратить на эту фиолетовую падаль драгоценный свинец, не тупить о них топоры и сабли, не осквернять их вонючими телами благородные морские воды и не отравлять землю погребением их мерзких останков.
Если ночь проходила спокойно, утром арбаков уводили в темные казематы, обильно кормили пищей, приправленной вкусными, но снотворными специями, после чего они спали до наступления ночи…
Мадрант открыл глаза и сразу почувствовал на себе ненавидящие взгляды четырех пар арбачьих глаз. Он усмехнулся. Он не испытывал к арбакам ответной ненависти. Он их просто презирал.
Мадрант презирал пленных и рабов. Рабов – за их молчаливую, беспрекословную покорность, пленных – за то, что они предпочли рабство ради спасения жизни, потому что цепляться за ту жизнь, которая им предоставлялась, даже не за жизнь, а за существование, могли только животные. Но животные цепляются за существование неосмысленно, а эти сознательно. Значит, они хуже животных…
В последний миг перед пленением еще можно было использовать свое оружие против себя.
Но ведь они почему-то не сделали этого…
Можно затем отказаться от пищи и воды…
Но ведь они не отказываются…
Наконец, можно ударить стражника или плюнуть в лицо какому-нибудь ревзоду…
Но ведь они не ударяют и не плюют.
Значит, они цепляются за то, что никак нельзя назвать жизнью, и надеются на то, на что уже нет и не может быть никакой надежды…
С того момента, как он стал мадрантом, были, правда, выплески… И никогда он не расправлялся с храбрецом, проявившим человеческое начало. Наоборот, и так было всякий раз в случае неповиновения, он собирал на площади эту жалкую толпу, это тупое быдло и возносил до небес непокорного, отдавая дань его смелости и ставя в пример остальному порченому семени.
А потом бунтовщика доставляли на край высоченного обрыва, обрыва Свободы, как нарек его мадрант, и дарили ему последний шанс: он должен был прыгнуть с этой страшной высоты в сверкающее где-то внизу море и либо разбиться о прибрежные камни, либо утонуть, либо стать жертвой акул, которые непонятно почему собирались, как на праздник, под обрывом Свободы в дни подобных экзекуций.
Невелик был последний шанс, но все-таки это был шанс.
И после всего мадрант направлялся к водоему со священными куймонами, и никто не мог слышать, как он просил небо о спасении несчастного гордого одиночки.
Он надеялся, что его молитвы будут услышаны, и это успокаивало его.
Он один хотел, и было только в его власти дать свободу заслужившему ее, но мадрант не мог этого сделать, потому что его бы не поняли, потому что иначе он не был бы мадрантом…
Случались, правда, и раскаяния. Тогда мадрант делал знак рукой, и раскаявшегося отдавали обратно в толпу, после чего до конца дней своих он оставался самым отвратительным рабом даже среди рабов, и это было закономерной расплатой за раскаяние.
В такие дни мадрант находился в прескверном настроении…
…Мадрант трижды встряхнул колокольчик. Глаза арбаков приняли тревожно-вопросительное выражение, но четвертого звонка не последовало, и это означало, что ночь прошла спокойно и что никаких претензий на сегодня к арбакам нет.
Появились стражники и вывели арбаков из покоев. Тогда мадрант встал и подошел к зеркалу.
Ему шел сорок второй год. Кожа лица и тела была упругой и смуглой, даже первые признаки старения еще не проглядывались.
Он сделал десяток дыхательных упражнений, поиграл немного мускулатурой и, довольный самочувствием, раздернул плотные вишневые шторы, и, когда солнце ударило его по глазам и он чихнул, мадрант окончательно убедился, что наступил новый день.
Два массажиста (не из рабов) тщательнейшим образом довели его тело до нужной кондиции и передали медику, который после соответствующего осмотра и нескольких манипуляций высказал полнейшее удовлетворение состоянием здоровья мадранта, на что мадрант, в свою очередь, выразил озабоченность неудовлетворительным цветом лица медика.
Медик виновато улыбнулся, потом рухнул на колени и, ловя губами руку мадранта, начал заверять его, что он, медик, наизамечательно себя чувствует и это могут подтвердить все три его жены (ранг приближенного медика позволял ему иметь трех жен), а цвет лица, показавшийся высочайшему мадранту неудовлетворительным, объясняется исключительнейшим образом переупотреблением клубники.
Мадрант вяло выслушал объяснения медика и брезгливо погладил его по лысеющей голове. У него сегодня не было в мыслях отстранять медика, чего тот больше всего и опасался, потому что отстранение от особы мадранта означало изменение ранга и лишало отстраненного многих, если не всех, привилегий.
По сути дела, приближенные мадранта, как более, так и менее, тоже были рабами, но в отличие от подлинных рабов, которые знали, что они рабы, эти считали себя свободными, и мадрант играл с ними в сложившуюся веками игру, иначе он не был бы мадрантом».
Глория смотрит из-под очков на мужа. Алеко Никитич дремлет, сидя на диване, посапывая и причмокивая.
– Ты не спи, – говорит Глория. – Ты слушай!
– Я все слышу, – встряхивается Алеко Никитич. – «Иначе он не был бы мадрантом…»
– Это очень здорово! – восклицает Глория. – «Иначе он не был бы мадрантом»! Там дальше есть длинноты и ряд фривольностей, от которых, конечно же, следует избавиться, но в целом… Ты знаешь, звонил Дамменлибен, я ему выразила свой восторг, он бы мог прекрасно проиллюстрировать…
Алеко Никитич, конечно, доверяет безупречному вкусу Глории, но не любит, когда она открыто вмешивается во внутриредакционные дела.
– А вот это уже лишнее, – замерзает он, поднимаясь с дивана. – Ни один человек из редакции, не говоря уже обо мне, не читал, а ты предлагаешь Дамменлибену…
– Я не предлагаю, Алик. Я просто высказала ему свое мнение…
Из ванной выходит Поля, держа на руках закутанную в махровое полотенце Машеньку.
– А вот и дедушка пришел, – напевает Полина и вручает внучку деду.
Машенька сразу же хватает Алеко Никитича за нос.
– Ты была у Рапсода Мургабовича? – спрашивает он.
– Все взяла. Он тебе кланяется и сказал, что заглянет в понедельник по поводу статьи… Представляю, что он тебе напишет.
Алеко Никитич любит дочку, но и ей не позволяет влезать во внутриредакционные дела.
– Что надо, то и напишет! – строго произносит он, пытаясь вырвать свой нос из Машенькиной ручки.
Глория несет Машеньку в другую комнату, и они вместе с Полей приступают к укладыванию.
Алеко Никитич садится за стол и располагает перед собой материал Сверхщенского, по которому уже успел пройтись рукой мастера Индей Гордеевич.
Статья Сверхщенского
«МЫ – МУХОСЛАВИЧИ»,
написанная для журнала «Поле-полюшко»
к 1200-летию со дня основания родного города,
с правкой и замечаниями Индея Гордеевича с левой стороны
и соображениями Алеко Никитича – с правой стороны.





В одиннадцатом часу Алеко Никитичу звонит Дамменлибен. После этого Алеко Никитич минут пятнадцать барабанит по столу пальцами. С-с-с. Вертит тетрадь в черном переплете, словно определяя ее вес, и набирает номер телефона:
– Индей Гордеевич? Привет, дорогой. Не разбудил?.. Тут, понимаешь, рукопись принесли… Мне стало известно, что автор – сын кого-то из Москвы… Вот именно… Вообще ничего… славно написано… Есть аллитерации… Время не наше… С таким, знаешь, восточным колоритом… Нет, к Ближнему Востоку отношения не имеет… Сегодня дочитаю… Я думаю, надо позвонить Н.Р. и посоветоваться… Не сейчас, конечно… Завтра отдам Оле распечатать… Думаю, пока ознакомим Зверцева и Сверхщенского… Вот именно… Ну, привет супруге…
Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой голове, пытаясь прогнать сонного зверька, уже усевшегося на затылке и ласково поглаживающего уши Алеко Никитичу, а потом зовет Глорию. Глория появляется в розовом ночном халате, который Алеко Никитич привез ей из Фанберры, берет тетрадь в черном кожаном переплете и усаживается на диван, закинув ногу на ногу и обнажив еще достаточно стройные и упругие не по возрасту ноги. Дантон устраивается рядом, положив голову на бедро Глории. Одним движением головы она откидывает назад влажные волосы, располагая их на спинке дивана, и начинает читать с того места, на котором остановилась несколько часов назад…
«…иначе он не был бы мадрантом…
Приняв завтрак, который состоял сегодня из приготовленного на углях куска баранины и чашки тонизирующего оранжевого миндаго, мадрант проследовал в черный зал, куда обычно вызывал для доклада Первого ревзода.
Первый ревзод никогда не заставлял себя ждать.
Небольшого роста, сутуловатый, с маленькими, стреляющими во все стороны глазками ревзод вошел в черный зал, низко склонил голову, предварительно втянув ее в покатые плечи (он один имел право не становиться перед мадрантом на колени), и произнес, придавая своему голосу убедительность и искренность, ежеутреннее приветствие, сводившееся к тому, что новый день принес новую толику величия и могущества мадранту и его стране, хотя еще вчера казалось невозможным представить себе более могущественное величие и более величественное могущество.
И хотя за много лет мадрант привык к этому, ставшему ритуальным словесному набору и знал ему истинную цену, он ловил себя на том, что введенное в правило Первым ревзодом приветствие порой доставляет ему, мадранту, определенное удовольствие.
Первый ревзод был мудрым человеком и считал мадранта чистым ребенком, которому вовсе ни к чему углубляться своим высочайшим небесным существом в вонь и грязь внутригосударственной свалки. Мадрант рожден мадрантом и должен оставаться мадрантом,
ревзод – ревзодом,
горожанин – горожанином,
раб – рабом.
Государство существует для мадранта.
Рабы – для того, чтобы мадрант их ненавидел.
Женщины – для того, чтобы мадрант их любил.
Горожане – чтобы размножаться и дарить мадранту новых подданных.
Победы – для того, чтобы мадрант стал победителем.
Поражения – для того, чтобы означать начало будущих побед.
Мадрант должен знать то, что делается в стране, а как делается, этим занимается Первый ревзод.
Мадрант должен утверждать то, что ревзод приносит ему на утверждение, и не утверждать то, что, с точки зрения ревзода, утверждению не подлежит. В этом – трудность и мудрость Первого ревзода.
И грош ему цена, если между ним и мадрантом возникает несогласие.
И место тогда Первому ревзоду в водоеме со священными куймонами.
Мадрант приподнял правую бровь, и на лице его возникла еле заметная улыбка, когда Первый ревзод убедительно и доказательно изложил мадранту всю необходимость постройки новой тюрьмы в скале, что возле обрыва Свободы…
Разве увеличилось настолько количество не преданных мадранту горожан, что им стало тесно в старой тюрьме? Разве не лучше использовать усилия и средства, направленные на обеспечение непреданных, для создания заповедной рощи, в которой просторно и приятно могли бы себя чувствовать подданные?
Первый ревзод выдержал паузу, а потом слегка улыбнулся мадранту. („Я понимаю, высочайший мадрант, твои сомнения“.) Но разве может увеличиться количество того, чего вообще нет? Преданность горожан, временно или постоянно живущих в старой тюрьме, не вызывает никакого сомнения. Более того, согласно данным опроса вышедших из тюрьмы, приведенным в „Альманахе“ Чикиннита Каело, преданность мадранту возросла в два, в три раза, а в отдельных случаях – неимоверно. Этим лишь доказывается известное философское определение, что преданность, как песня, не имеет границ. Сегодня она больше, чем вчера, а завтра будет больше, чем сегодня. Таким образом, приглашая в тюрьмы как можно большее количество безусловно преданных горожан, мы стимулируем дальнейший рост их безграничной преданности, превращая тюрьму, по меткому высказыванию того же Чикиннита Каело, в парники преданности.
Мадрант опустил правую бровь, и улыбка сомнения испарилась.
Первый ревзод вновь склонил голову, предварительно втянув ее в покатые плечи, давая понять всем своим видом, что на сегодня нет больше ничего такого, чем стоило бы обременять драгоценный мозг мадранта.
Но мадрант не торопился отсылать Первого ревзода, а Первый ревзод не сомневался в том, что сейчас последует крайне неприятный для него вопрос, на который ему мучительно не хотелось отвергать, ибо считал он, что сам вопрос не достоин того, чтобы его задавал мадрант, ненормален он для мадранта, а раз так, то содержится в этом вопросе какая-то опасность для мадранта. Не должен он интересоваться этой белокурой тварью с потопленного две недели назад чужеземного судна… Конечно, любого капитана любого фрегата есть за что четвертовать, но уж никак не за то, что он немного позабавился с белокурой тварью, прежде чем доставил ее в город. Не предполагал же он, в самом деле, что на нее засмотрится сам мадрант. И что за проблема? Ну, вспыхнул у мадранта факел. Это понять можно. Почему бы и нет. Ну, держи ее где-нибудь в клетке на пожарный случай. Конечно, не в женариуме – законные супруги растерзали бы чужеземку. Но не помещать же ее в розовый дворец! И для чего? Чтобы в течение двух недель даже пальцем до нее не дотронуться? А только каждый день спрашивать у Первого ревзода: как она и что она?.. Тогда отдай приказ, высочайший мадрант! Кастрируй Первого ревзода, приставь его евнухом к белокурой. Твоя воля! И дурак четвертованный капитан фрегата! Зачем было тащить ее с собой? Ненормальность. Определенная ненормальность со стороны мадранта. И опасность для него…
И Первый ревзод ответил ему на уровне своей осведомленности и с той почтительностью, с какой положено отвечать мадранту даже на самый неприятный вопрос: вчера вечером Олвис успокоилась, плавала в бассейне, не отказывалась от еды и к вечеру привела себя в порядок, что сделало ее еще более привлекательной. („Мерзкая личинка!“) Что еще? Еще она пела что-то на своем языке приятным голосом. („Гадко квакала!“) О чем пела? Все предусмотрено, высочайший мадрант. Специально вызванный Чикиннит Каело перевел ее песню, и вот она…
Первый ревзод развернул перед собой лист бумаги…
Лети, моя песня, через океан и разыщи мою прохладную землю… Расскажи, как вонючий туземец насильно сделал со мной то, что невозможно выразить словами…
(„Да, мадрант, я уже издал указ, предписывающий твоим морякам мыться три раза в день…“)
Но пещера моя заколдована, и каждый, кто проникнет в нее, непременно погибнет… Негодяя велел четвертовать его хозяин…
Что дальше? Дальше ряд специфических обращений:
Лети, моя тихая песня, моя серебристая птичка, моя последняя надежда. Я жду…
Это все, мадрант. Я отдал приказ всем службам молчаливого наблюдения выяснить, о какой заколдованной пещере идет речь. Смею думать, мадрант, что изменившееся поведение чужеземной красавицы („Бледнобрюхая акула!“) и ее последние слова говорят о том, что она ждет тебя. Больше ей ждать некого…
Мадрант жестом дал понять ревзоду, что беседа окончена, и закрыл глаза…
Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн. Ее длинные, соломенного цвета волосы касались воды и при каждом, даже едва уловимом дуновении воздуха приходили в ленивое движение, словно водоросли.
Потрясенная, потерявшаяся в невероятном калейдоскопе последних событий, она постепенно возвращалась к жизни. Не будучи от природы чересчур экзальтированной, воспитанная не в традициях излишнего романтизма, она умела адаптироваться в самых неожиданных ситуациях, когда чувствовала, что это не временная случайность, что это надолго, если не навсегда, что надо принимать окружающее, чтобы продолжать жить, принимать, по возможности, не растворяясь в окружающем, а, наоборот, пытаясь заставить принять это окружающее удобные для нее, для Олвис, формы.
Отправленная с двумя десятками закоренелых убийц на необитаемый остров за потерявший всякое приличие обмен сладкого товара, доставшегося ей при рождении, на деньги, которых она с того же самого рождения была хронически лишена, Олвис очень скоро поняла, что захватившие ее туземцы думают, будто она какая-то чистопородная принцесса и что в ее интересах поддерживать и развивать эту версию. В противном случае она будет перепробована всем мужским населением этого дурацкого острова (или полуострова?), а потом все женское население разорвет ее на части при полном одобрении того же мужского населения. Поэтому она не отвернулась, а с презрением пронаблюдала, как был четвертован тут же, на палубе, этот вонючий, неотесанный капитан, и даже не поблагодарила, как и подобает гордой чистопородной принцессе, туземного вождя за его естественный, с точки зрения принцессы, акт возмездия.
Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн, когда неслышно появился мадрант. Он скрестил руки на груди и не мигая смотрел на распластавшееся на парапете, обжигавшее его глаза тело, прикрытое легкой желтой тканью, смотрел и не мог оторваться.
Расслабленные в дреме женские контуры, словно затуманенные также дремавшей желтой легкой тканью, вызывали головокружение своей манящей неконкретностью.
И женариум с полусотней любящих его и воспитанных в духе поклонения красивейших женщин всех пород и мастей утратил привычный смысл, превратился в предмет надоевшей, обременительной ненужности.
Олвис открыла глаза, ощутив почти физическое прикосновение очень властного взгляда, и увидела стоявшего на расстоянии нескольких шагов от нее вождя.
С момента, как она была помещена в этот розовый дворец, вождь наведывался ежедневно. Он появлялся неслышно и молча, стоя на почтительном расстоянии, смотрел на нее своими темными, широко расставленными (это, кстати, ей нравилось) глазами. Странная, зеленого цвета, свободная одежда (это ей не нравилось) плохо скрывала атлетическую, с могучими плечами (это ей очень нравилось) фигуру. И каждый раз при его появлении Олвис съеживалась, пытаясь прикрыть чем попало обнаженные участки тела, и начинала пятиться к глубокой нише, где находилось ее ложе, награждая вождя взглядом ненависти и брезгливости, заготовив в груди истерический крик гордой принцессы, если вождь сделает по направлению к ней хотя бы один шаг. Но тот, неподвижно простояв некоторое время, уходил, не проронив слова, не проявляя ни раздражительности, ни удивления, ни злости.
Понимая, что такое однообразие может стать утомительным и вызвать со стороны вождя самую неожиданную и опасную для нее реакцию, Олвис еще накануне решила изменить тактику. Это было довольно рискованно, но известный опыт общения с мужчинами и профессиональное чутье убеждали ее в правильности выбранного решения. Вот почему, когда сегодня, открыв глаза, Олвис увидела стоявшего перед ней в стандартной позе мадранта, она медленно поднялась на ноги и посмотрела прямо в глаза вождю. Лицо ее, оставаясь холодным и безразличным, выражало вместе с тем усталость и полнейший отказ от дальнейшего, совершенно бесполезного сопротивления. Легкая желтая ткань медленно сползала с плеч, обнажая грудь, и Олвис вяло, как бы инстинктивно, сделала попытку удержать левой рукой ниспадающую материю.
Мадрант не пошевелился.
Что ты хочешь от несчастной, но гордой женщины, вождь, или, как тебя здесь называют, – мадрат?
Не мадрат, а мадрант? Понятно…
Что ты хочешь, мадрант, от несчастной, но гордой женщины? Ты захватил ее и держишь в клетке, как птичку. Ты хочешь, чтобы птичка спела тебе любовную песенку и ласкала тебя своими ранеными крылышками? Нет, мадрант! Хотя птичка и в твоей власти и ты можешь делать с ней все, что пожелаешь, ты не услышишь любовные трели, когда прикоснешься к ней своими грубыми руками. Ты услышишь одни хрипы ненависти и стоны боли. Птичка бессильна, но она горда и свободна. Она поет тогда, когда хочет, и ласкает своими крылышками лишь того, кого любит!.. („И за что только меня выслали?“)
Мадрант желает утолить свой звериный голод! Мадранту приелась местная пища? Он хочет сделать это сейчас, при солнце?.. Изволь!..
Что же ты стоишь, мадрант? Чего же ты ждешь?..
Желтая легкая ткань окончательно упала на мраморный парапет и соскользнула в изумрудную воду бассейна, став похожей на большую бесплотную медузу.
Мадрант скорее угадал, чем понял смысл надрывной речи Олвис. Он передернулся и, шагнув к ней, ударил по щеке.
Потому что я – мадрант, а не вонючий четвертованный раб!
Потому что не мне, а судьбе было угодно, чтобы ты оказалась здесь!
Потому что мадрант устал от покорности и раболепия!
Потому что мадрант может полюбить только такое же свободное существо, как и сам мадрант!
Он заметил слезу на горящей щеке Олвис.
Будь проклята рука, которая прикоснулась к тебе и принесла боль!
Будь проклят тот, кто на горе свое увидел, как мадрант поднял руку на беззащитную свободную женщину!
И мадрант вышел из розового дворца.
Через час четверо стражников, охранявших розовый дворец, и два личных телохранителя мадранта, которые могли случайно или не случайно стать свидетелями происшедшей во дворце сцены, были обезглавлены по приказу мадранта без всяких на то объяснений с его стороны.
А на исходе того же дня дворцовый палач Басстио под угрозой быть самому обезглавленным выполнил приказ мадранта и отсек ему правую руку по локоть…
Да, да! Прав Первый ревзод: что-то непонятное происходило с мадрантом, что-то опасное для него. И, видимо, не только для него. Нечто неприятное и холодное возникло где-то глубоко под печенью Первого ревзода. А когда перед закатом взглянул он на Священную гору Карраско, которая, по легендам, разгневавшись тысячу лет назад, подвергла пеплу и огню все живое, когда увидел он над ее вершиной причудливо извивавшуюся струйку сероватого дыма, это неприятное и холодное чувство переросло у Первого ревзода в тревогу…»
Несколько раз во время чтения Алеко Никитич начинает дремать, и в сознании его возникает путаница, но путаница реальная и какая-то тревожная… Его настораживает неприятное звукосочетание «Чикиннит Каело», его пугает однорукий мадрант, его страшит дымящаяся Карраско, а Олвис становится похожей на машинистку Олю… Но каждый раз Алеко Никитич приходит в себя и напряженно слушает голос Глории… Она заканчивает чтение в третьем часу ночи… За это время успел прийти из театра Леонид, и Поля кормила его на кухне ужином, просыпалась Машенька, и Глория высаживала ее на горшок… Глория несколько минут продолжает оставаться на диване под впечатлением прочитанного. Она считает, что журналу нужна такая публикация. Именно такая – небесспорная, притчеобразная… Конечно, кое у кого будут нарекания, но журналу необходима сенсация. Зато Алеко Никитичу сенсация не нужна. Он уже видит холодные глаза Н. Р. Он уже слышит назидательный голос Н.Р.: «Что ж это вы, Алеко Никитич, так оскандалились?» И он понимает, что и ответит на этот вопрос сам Н.Р… И уже навсегда тает в тумане Фанберра и другие отдаленные специализированные города и поездки, и уже не откликнется на его звонок Рапсод Мургабович, и тяжелым камнем на шее повиснет пенсия, и кто-то другой, может быть, даже Индей Гордеевич, займет его кабинет, а Алеко Никитичу только и останется, что выгуливать Машеньку да измерять себе кровяное давление после каждого похода в магазин. Нет, не нужен скандал Алеко Никитичу… Но, с другой стороны, если автор действительно сын кого то оттуда? И снова слышит Алеко Никитич иезуитский вопрос Н.Р.: «Что же это вы, Алеко Никитич, совсем в штаны наложили?.. Зарубили талантливое произведение молодого автора, а?» И опять уплывает навсегда туманная Фанберра, и делает вид, что вовсе не знаком с ним Рапсод Мургабович, и Машенька отрывает его пенсионный нос, и в обычной аптеке нет необычного лекарства против высокого кровяного давления… И откуда свалился только на голову Алеко Никитича голубоглазый сегодняшний блондин?







