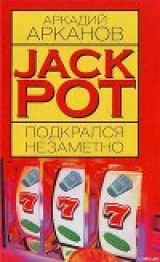
Текст книги "Jackpot подкрался незаметно"
Автор книги: Аркадий Арканов
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Я помню чудное мгновенье —
Передо мной явился он,
Как мимолетное виденье,
В руке сжимая телефон.
Такая маленькая штука…
Но, Боже мой, какая сука!
Болтает папа день и ночь,
Забыв про маму и про дочь…
И я вздыхаю про себя:
Когда же черт возьмет тебя?
Алеко Никитич морщится. Девочка, конечно, способная, но как можно родного отца, даже если он бизнесмен, называть «сукой»? Вот она, безнравственность нынешнего поколения… Но Глория убеждена, что девочка просто пропустила букву «к» в слове «скука»… Глория – добрая женщина. Она всегда дает детям шанс оставаться глубоко нравственными… Так думает Алеко Никитич. Но недолго. Мысли его путаются, голова опускается на грудь, нижняя челюсть отвисает, и он начинает похрапывать. Глория откладывает тетрадь в сторону и приглушает телевизор. Не выключает, а лишь приглушает… Заканчивается шоу Руслана Людмилова, и по экрану ползут титры:… «АНХЕЛИТА – ДИТЯ ПАНЕЛИ»… 282-я серия… Глория застывает… Через мгновенье ее уже нет… Она отлетает в цветной мир безумных страстей, страстных безумий, коварной преданности и чистосердечного вероломства… Камера панорамирует в пурпурном пространстве раскинувшейся безбрежной равнины. Проясняются, прорезываясь в предрассветном режиме первые признаки равнодушно развалившейся бразильской природы. Под развесистой чинаритой, раскинув, как троллейбусные штанги, безгранично длинные ноги, дремлет Анхелита. Камера панорамирует по ее крутому бедру через голень к лодыжке и выхватывает жилистую мужскую ладонь, осторожно ползущую от лодыжки через голень к бедру Анхелиты. Рука аккуратно отодвигает край легкой шелковой юбки, все более обнажая персикового цвета тело девушки. Камера панорамирует по чуть впалому животу через возбужденно дышащую грудь и слегка пульсирующую подключичную ямку, остановившись на губах, что-то бессвязно шепчущих, пересохших, но увлажняющихся едва заметным движением кончика девичьего языка. Камера следит за второй мужской рукой, нервно расстегивающей зиппер на истертых джинсах. Крупно возникает лицо мужчины с пышными плотоядными усами. Левую щеку пересекает угрожающий шрам, захватывающий левую, жадно подергивающуюся ноздрю. Черные глаза горят лукавым и злобным сексуальным блеском. Еще мгновенье – и толстые мужские губы впиваются в тонкие губы Анхелиты. Камера панорамирует по спине мужчины, и фиксируется на ритмично двигающихся вверх-вниз ягодицах, едва прикрытых полуспущенными джинсами.
Теперь видно, что это Мигель Варгас Крузейро, пытающийся коварно и насильно овладеть Анхештой. Девушка постанывает от распространившейся по всему телу истомы. Глаза ее закрыты. Она еще дремлет и не осознает нависшей над ней унизительной опасности. В затуманенном сознании возникает расплывчатое лицо ее возлюбленного Хосе Рамона Кошмарио. Его голубые глаза полны непорочной чистоты, а сквозь повязанную на голове зеленую бандану просачиваются на слегка удивленно приподнятый лоб нежно-русые волосы. Его красиво очерченные губы шепчут: «Я люблю тебя, Анхелита…» Лицо Хосе Рамона Кошмарио растворяется и исчезает, а на его месте во весь экран возникает лицо Мигеля Варгаса Крузейро. Крупные капли пота стекают по ложбине зловещего шрама. Мигель Варгас Крузейро тяжело сопит. Анхелита продолжает стонать, ничего не подозревая… С губ ее срываются слова, полные нежности…
– О! Хосе Рамон Кошмарио! Возьми, возьми свою куколку Анхелиту! Я сделаю тебе все, что ты пожелаешь! Бери меня, бери, Хосе Рамон Кошмарио! Я люблю тебя! Я твоя!
– Беру, беру тебя, моя куколка! – хрипит, оскалясь от удовольствия, Мигель Варгас Крузейро.
Камера останавливается на внезапно открывшихся глазах Анхелиты. В их карей глубине отражаются ужас и нелепость происходящего. Анхелита пытается выползти из-под навалившегося на нее Мигеля Варгаса Крузейро.
– Негодяй! Ты воспользовался моей беспомощностью, чтобы овладеть мною! Но я не люблю тебя, Мигель Варгас Крузейро! Я люблю Хосе Рамона Кошмарио и жду от него ребенка!
– Теперь ты будешь ждать ребенка и от меня, – ухмыляется Мигель Варгас Крузейро, поднимаясь с девушки. – А ребенок Хосе Рамона Кошмарио останется сиротой!
– Откуда ты знаешь?!
Мигель Варгас Крузейро протягивает руку в направлении выходящего из прерии солнца. Камера панорамирует с руки на распростертое в зарослях сельвы бездыханное тело Хосе Рамона Кошмарио и фиксируется на его закрытых глазах, один из которых слегка приоткрывается. Лицо юноши искажает гримаса боли, ненависти и ожидания скорой мести…
Картинка исчезает. Звучит знакомая музыка. Глория морщится – в самом интересном месте они всегда делают рекламу… По зеленому мультипликационному полю бежит мультипликационный мальчик, чем-то похожий на Хосе Рамона Кошмарио. Он гонится за мультипликационной девочкой. А в воздухе порхают презервативчики с веселыми глазками. Мальчик догоняет девочку, целует и затаскивает в кустики. Слышны любовные «ахи» и «охи». Из кустиков выходит мальчик. Он плачет. И слышит грудной женский голос:
Мальчик девочку любил,
«Светлячок» надеть забыл…
Девочка теперь болеет,
Мальчик обо всем жалеет…
Выбегают новые мальчик и девочка. Заливаясь счастливым смехом, они ловят «светлячки», набивают ими карманы и скрываются в кустиках. Потом они веселые и радостные выбегают из кустиков…
А у Вани и у Мани
«Светлячки» всегда в кармане!!!
Алеко Никитич дышит тяжело и прерывисто. Он одновременно и далеко, и близко. Он здесь и не здесь. Он слышит и не видит. Он видит и не слышит… Он еще не спит, но уже не бодрствует… Кто-то ему говорил, что это называется терминальным состоянием… Он сидит на зеленом поле, прислонясь к большому холодному камню. Его пугает темный лес на горизонте. Он слышит голос полицейского комиссара Фуэнтеса…
– Я слушаю тебя, Анхелита…
– Сеньор Фуэнтес, у меня нет другого выхода. Я должна прибегнуть к вашей помощи… Мигель Варгас Крузейро убил моего возлюбленного и на его глазах зверски овладел мною…
– Откуда ты знаешь, девочка моя?
– Я видела это, сеньор Фуэнтес… Я понимаю, как вам тяжело это слышать… Ведь Мигель Варгас Крузейро – ваш сын… Но прошу вас… Ради всего, что было…
Камера панорамирует по кабинету комиссара Фуэнтеса, по столу, уставленному телефонами, по жилистым рукам, обхватившим седую голову пожилого человека, и останавливается на глазах, полных слез, воспоминаний и позднего раскаяния… Из темноты возникает ясный солнечный день в прохладной заросшей банановой роще… Беззаботно смеется молодая красивая девушка. Камера панорамирует по ее крутому бедру через голень к лодыжке и выхватывает жилистую мужскую ладонь, осторожно ползущую через голень к бедру. Рука аккуратно отодвигает край легкой шелковой юбки, все более обнажая персикового цвета, тело девушки…
– Я люблю тебя, Анхелита… Я хочу тебя! Я сгораю в твоем пламени…
– Не надо, сеньор Фуэнтес… Умоляю… У вас жена и ребенок, а я еще… девушка.
– Но ведь ты тоже любишь меня…
– Я люблю вас, сеньор Фуэнтес, по подумайте, что будет со мной… Ведь вы бросите меня!
– Ради тебя я готов на все! Ради тебя я убью жену и сына!
– Ради бога, только не это! Делайте со мной, что хотите… Я люблю вас, сеньор Фуэнтес… О-о-о!
Камера следит за двумя бьющимися в экстазе сплетенными телами Анхелиты и сеньора Фуэнтеса…
…Глория вздыхает… Бедняжка Анхелита… Скольких наивных девушек подстерегают духовные и физические испытания!.. Она косится на Алеко Никитича… Пусть дремлет… Закончится сериал, она приготовит постель… А из леса выходит сеньор Фуэнтес. У него пышные плотоядные усы, черные глаза горят лукавым и злобным блеском… «Бардак, сеньор Фуэнтес! Бардак и разврат!» – говорит Алеко Никитич. «Какой бардак? Какой разврат?» – спрашивает сеньор Фуэнтес почему-то с грузинским акцентом. И Алеко Никитич вдруг понимает, что сеньор Фуэнтес – это товарищ Сталин! Оцепенев от страха и почтения, Алеко Никитич говорит: «Здравствуйте, товарищ Стулин!»… Почему он сказал «Стулин»? Ведь Алеко Никитич знает, что фамилия товарища Сталина «Сталин», а не «Стулин»… Он хочет встать и вытянуться в струнку, но не в силах. Он словно прирос спиной к холодному камню… «Здравствуй, Алеко!» – ласково говорит товарищ Сталин. «Здравст-вуйте, товарищ Стулин». Почему опять Стулин?!.. «Вот ты, Алеко, говоришь бардак, разврат… А какой бардак? Где бардак?» – «В стране бардак, товарищ Стулин». Снова Стулин! Господи, какой стыд!.. Слезы текут из черных глаз товарища Сталина, и, всхлипнув, он произносит: «Верно, Алеко. Бардак в стране… А кто потворствовал этому бардаку? Ты! Ты, Алеко…»
Слезы текут из черных глаз сеньора Фуэнтеса…
– Прости меня, Анхелита! Это из-за меня ты стала дитем панели… Я выведу этого негодяя на чистую воду! Только прости меня!
– Аллах вас простит, сеньор Фуэнтес…
– Ты мусульманка, Анхелита?
– Жизнь заставила меня стать исламисткой, сеньор Фуэнтес.
– Нам трудно будет засадить Мигеля Варгаса Крузейро за решетку… Я не сказал тебе главного… Он наркобарон! У него много денег…
«У тебя много денег, Алеко!» – говорит товарищ Сталин, смахивая слезу со щеки. «Откуда у меня деньги, товарищ Стулин? Я работаю в бюро пропусков в холдинге у Рапсода!» – «А почему у Рапсода много денег? – спрашивает товарищ Сталин и сам отвечает: – Потому что бардак… Вот ты, Алеко, и подумай, почему в стране бардак, если у тебя нет денег, а у Рапсода много денег?» – «Я и сам все время об этом думаю! – кричит Алеко Никитич. – Но я еще подумаю!»
На бескрайнем поле трудятся в поте лица чернокожие рабы, собирая криминальный урожай героина. Камера панорамирует к большому камню, к которому привязан молодой агент наркополиции. Его голубые глаза полны непорочной чистоты и презрительного мужества, а сквозь повязанную на голове красную бандану просачиваются на слегка удивленно приподнятый лоб нежно-русые волосы.
– На кого ты работаешь? – спрашивает агента Мигель Варгас Крузейро, передернув автомат Калашникова.
– Не знаю, – отвечает агент и плюет на Мигеля Варгаса Крузейро.
– А ты подумай!
– Подумай лучше ты, скольким людям ты приносишь героиновую смерть!
– Нет, это ты подумай! Да поскорей! Недолго тебе осталось думать! Сейчас я вышибу из тебя мозги!
Камера панорамирует с головы юного агента на автомат Калашникова, а товарищ Сталин повторяет: «Подумай, Алеко. Хорошо подумай… Недолго тебе осталось думать. Сейчас я вышибу из тебя мозги…» И товарищ Сталин передергивает автомат Калашникова. Алеко Никитич чувствует, что все происходящее – это жуткий сон, но в то же время автомат Калашникова в руках товарища Сталина представляется ему не менее жуткой реальностью. Он понимает, что должен сейчас же проснуться, иначе товарищ Сталин вышибет из него мозги… Но мозги уже не в силах управлять одеревеневшим телом. Они лишь истошно зовут на помощь Симу-Симочку, Глорию, Наденьку, художника Дамменлибена, Рапсода, у которого так много денег… Но никто не идет на помощь Алеко Никитичу, а проснуться он не в состоянии… Между тем товарищ Сталин снова передергивает автомат Калашникова и приставляет дуло к мокрому холодному лбу Алеко Никитича… И пересохшими губами он пытается прошептать: «За что, товарищ Сту…»
Лицо Мигеля Варгаса Крузейро искажает гримаса ненависти, по угрожающему шраму на левой щеке скатываются крупные капли пота, и он стреляет в юного агента до тех пор, пока бездыханное тело не перестает дергаться… Камера следит за все увеличивающейся лужей крови, которая просачивается в высохшую землю, увлажняя и удобряя героиновое поле смерти… Звучит аргентинское танго, на фоне которого снизу вверх ползут финальные титры…
Авторы сценария – Игнасио Перельштейн и Хулио Ниссембойм.
Режиссер – Игнасио…
Глория выключает телевизор…
III
С утра большое зеркало в бронзовой оправе, в которое обычно смотрелись посетители, перед тем как направить свои стопы в «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТР», завесили тяжелым темно-синим плюшем. На стеклянную клетку бюро пропусков скотчем прилепили большую фотографию Алеко Никитича в черном окаймлении. В одиннадцать часов из морга мухославской больницы доставили красный гроб с телом покойного, лихо подгримированного и в силу этого помолодевшего. На застывшем лице нельзя было обнаружить следов каких-либо мук и страданий. Однако приподнятые брови создавали выражение вопроса, словно перед окончательным уходом усопший спросил кого-то: «За что?» К двенадцати часам стали подтягиваться люди, желающие принять участие в панихиде. Все происходило в вестибюле холдинга. Метрах в двух от изголовья усадили одетую в черное Глорию. За ее спиной стояли мальчики и девочки. Все в красных галстуках. «Он так любил пионеров…» – вполголоса произносила Глория всякий раз, когда кто-нибудь подходил к ней выразить соболезнование. Присутствовавшие переговаривались тихо, соблюдая скорбное выражение лица. Два здоровых охранника в костюмах кинто на сей раз пропускали всех без предъявления документов и без ощупывательного досмотра…
– Не знаешь, отчего Никитич гикнулся? – спросил один охранник другого.
– Да, говорят, телек смотрел, потом уснул и гикнулся, – ответил другой.
– Значит, не мучался… Ты, кстати, последнюю серию «Анхелиты» зырил? Чего там было? А то я в тот вечер отрубился…
– Короче, там такой базар начался! Мигель трахнул Анхелиту и замочил Кошмарика, но вроде не до конца… Она пошла к комиссару, а он, оказывается, отец Мигеля и вдобавок когда-то Анхелите целку сломал… Ну и вроде бы запереживал… А она беременна.
– От комиссара?
– От Кошмарика! Короче, от Мигеля тоже залетела…
– Ну?
– А Мигель Комиссарова агента тоже замочил.
– Круто!.. А когда продолжение?
– Сегодня, бля, понял?! В полпервого! А тут Никитич! Рапсод велел телек выключить…
Появился художник Дамменлибен, возбужденный и недовольный, будто его оторвали от важного дела.
– 3-дд-орово, о-орлы, – поздоровался он с охранниками и продолжил пулеметно-заикающейся очередью: – Ра-рапсод пришел? Ба-ба-рдак! Д-два гла-гла-диолуса куп-пил т-тридцатку отдал ба-ба-рдак по-погодка н-ни хрена себе хороший был па-парняга ба-ба-рдак два цветочка три-три-дцатка!
И, с досады плюнув на пол, он подошел к гробу, положил к ногам два гладиолуса и направился к Глории. Поцеловал ей руку и спросил:
– На-на-надька не приехала?
– Телеграмму прислала, – как бы оправдываясь, сказала Глория. – Она с Леонидом на гастролях в Мексике…
– Мо-могла и при-прилететь А-алеко ее так лю-лю-бил…
– Он так любил пионеров, – сказала Глория и погладила по голове одну из стоящих рядом девочек. – Он и вас любил… Он всех так любил…
– Бе-бе-регите себя сейчас г-г-грипп сви-сви-сви-репствует…
Дамменлибен еще раз поцеловал Глории руку и поспешил к присутствующим…
Появился поэт Колбаско и, увидев курящего поодаль публициста Вовца, подсеменил к нему.
– Здорово, Вовец, – сказал Колбаско и сунул Вовцу вялую руку.
– Привет, – буркнул Вовец.
– Что новенького?
– Что новенького?! – вылупил глаза Вовец. – Алеко Никитич умер! Вот что новенького!
– Это я вижу, – ответил Колбаско. – Я спрашиваю, вообще что новенького?
– А я тебе говорю: Алеко Никитич умер! И вообще умер, и в частности!
– Я себя тоже омерзительно чувствую, – жалобно сказал Колбаско и поморщился не то от внезапно возникшей боли, не то от того, что он себя омерзительно чувствует…
– Ты всех нас переживешь.
– Мажем, что не переживу!
– И в том, и в другом случае денег все равно не получишь: либо тебя не будет, либо меня.
Колбаско напряженно заморгал, пытаясь понять, почему он не сможет получить деньги за выигранный спор. Потом понял.
– Переживу – так переживу, – согласился он.
– Ну, спасибо! Утешил! – захохотал Вовец, но тут же опомнился и стал опять скорбеть…
Народ продолжал подваливать. Появился Бестиев, воровато понюхал свои подмышки, недовольно покачал головой, достал сигарету, щелкнул зажигалкой и судорожно затянулся.
– Покойник не любил, когда при нем курят, – произнес почвенник Ефим Дынин. – Уважать надо.
– Стилистическая неточность, – огрызнулся Бестиев. – Или не любил, когда при нем курили, или не любит, когда при нем курят…
– Он всех вас очень любил, – вздохнула Глория. – И вас, Бестиев, и особенно вас, Ефим…
У изголовья стоял Гайский и, тупо глядя на Алеко Никитича, предавался своим мечтам: «У меня будет больше народу. Все придут, и все поймут, кого они потеряли… Даже после смерти завидовать будут… И коммунисты поганые, и демократы вонючие… „Центральная площадь, на которой установлен гроб с телом любимого сатирика, не смогла вместить всех желающих. Скорбные читатели повсюду – на крышах, на деревьях, на фонарных столбах… Свифт, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Гайский отныне стоят в одном ряду. Звучат траурные мелодии. На лафете провозят бессмертные творения… Он прожил трудную жизнь. Его зажимали, его не печатали, ему завидовали, но не могли не любить, ибо его талант был подобен животворному дождю, щедро оросившему иссохшие человеческие души…“»
– Слово для прощания имеет Рапсод Мургабович Тбилисян.
Гайский вернулся на землю.
– Уважаемые дамы и господа, – произнес Рапсод Мургабович как можно печальнее. – Алеко Никитич не любил слова «господа». Он любил слово «товарищи», но всей своей самой крайней плотью и сердцем он делал все, чтобы сегодня мы могли говорить друг другу честно и открыто «господа»…
– Он всех любил, – всхлипнула Глория.
– Уважаемые дамы и господа, – продолжал Рапсод Мургабович. – Дорогая Глория Мундиевна… У нас на Кавказе говорят: плохой человек – мертвый человек, хотя и живой. Хороший человек – живой человек, хотя и мертвый… Сегодня мы хороним живого человека, я так думаю… Из гнилого ручья и шакал нэ пьет, из свежего ручья и змея напьется. Алеко Никитич был свежий ручей…
Камера панорамирует с застывшего лица Алеко Никитича на Рапсода Мургабовича, на Глорию, на детектива Серхио, стоящего у изголовья лежащего в гробу седовласого сеньора Бертильдо, на обезумевшую от горя Анхелиту, на притаившегося в углу черноглазого мулата в зеленой бандане. «Какое горе! – кричит Анхелита. – Ты слышишь, няня Розария, какое горе! Нет больше с нами сеньора Бертильдо – моего любимого отца!..»
– И вот его нет больше с нами, – продолжает Рапсод Мургабович, – но с нами его дети, живущие в Лондоне под руководством великого скрипача, гэныального скрипача Спивакова, я так думаю…
– Мы отомстим за твоего отца, Анхелита! – говорит детектив Серхио, пронзая взглядом черноглазого мулата в зеленой бандане.
– Настало время раскрыть тайну, – всхлипывает няня Розария. – Я любила твоего отца сеньора Бертильдо… Ты плод нашей любви, сеньора Анхелита! Ты моя дочь!..
– Но мы не оставим тебя, сеньора Глория, – продолжает Рапсод Мургабович и вдруг кричит в сторону проходной. – Выключите телевизор, честный слово! Нашли время для сэриала, мамой клянусь!.. Но мы нэ оставим вас, дорогая Глория Мундиевна, и в этот торжественный, хотя и печальный день позвольте от нашей компании «РАПСОД-ХОЛДИНГ-ЦЕНТР» преподнести вам скромный прэзэнт – уныкальный тэлевизор, с ума можно сойти, честный слово! Экран полтора метра на метр пятьдесят, цветное изображение, стэреофонический живой звук! Как в жизни, мамой клянусь! Внесите приз!..
Четверо молодых коротко стриженных парней в камуфляжной форме, раздвигая собравшихся, приволокли скромный презент и поставили его у изголовья гроба. Вдова разрыдалась, и кто-то помахал перед ее носом ваткой с нашатырем… В этот момент к гробу приблизился тощий мужчина с бритой головой и глазами слегка навыкате. В руках его была телекамера, объектив которой держался на длинном основании, напоминавшем слоновый хобот.
– Уважаемый, а вы какую компанию представляете? – тихо спросил Рапсод Мургабович.
– Хорошую, – ответил тощий, не глядя на него.
– Городскую?
– И не только… Мы с покойным знали друг друга. Верно, Алеко Никитич?
Тощий внимательно посмотрел в лицо покойника и сам себе ответил: Верно…
Затем пошли слова прощания. Говорил почвенник Дынин, отмечая вклад усопшего в дело утверждения почвенной литературы в обстановке нравственной бездуховности и политической безответственности.
Выступил бывший завотделом поэзии бывшего журнала «Поле-полюшко» Свищ. Ни прошедшие годы, ни экономические нововведения не повлияли на его сюсюкающую манеру говорить.
– Еще при жизни нашего незабвенного Алекушки, – запричитал Свищ, – я сочинил ему эпитафию. Сегодня я считаю своим долгом ее зачитать… «Дорогой ты наш Алеко! Ты ушел. Прощай, прощай. Ты дорогу человеку на том свете освещай! Слава не пройдет земная. Так прописано в судьбе – скоро Глория родная, знаю я, придет к тебе!»… Дорогая Глориюшка! Долгих вам лет жизни всем нам на радость…
Потом зачитали телеграмму из Лондона от Нади, Леонида и Машеньки.
Последнее слово отчеканил Н.Р.:
– По своей жизни Алеко Никитич сделал много ответственных шагов, и ни один шаг он не совершил прежде, чем не взвесив все обстоятельства, чтобы не оступиться. И раз он решил уйти из жизни, значит, так надо. Значит, время пришло. А нам с вами ничего не остается, кроме как продолжать разрубать этот гордый узел добра и зла…
…Когда приехали и пришли на кладбище, заморосил дождь, и запасливые защелкали и зашуршали зонтами. Вовец и Колбаско по дороге скинулись на бутылку «Гжелки» и, стоя на краю свежевырытой могилы, налили по пластмассовому стаканчику.
– Помянем, – деловито шепнул Колбаско и, морщась и борясь с рвотным рефлексом, в четыре глотка опорожнил стаканчик. А так как пьянел он, как говорят врачи, «на кончике иглы», то обвел ошалелым взглядом собравшихся, нелепо взмахнул руками, ноги его разъехались на скользкой глине, и он рухнул в могилу, вызвав у всех общий «а-ах!!». Два землекопа вытащили его из могилы и прислонили к соседней ограде, бормочущего: «На старые дрожжи взяло…»
– Что ж это вы, Колбаско, поперед батьки в пекло лезете? – сказал тощий, повернув в его сторону объектив на хоботе. – Не время еще…
– Да он всех переживет, – язвительно хихикнул Вовец. – Где Пушкин, так? Где Чайковский? Где Ломоносов-Лавуазье, так? А он жив! Он и нас с вами переживет!
– Вас, возможно, и переживет, – спокойно заметил тощий…
Когда могильщики насыпали и подровняли лопатами могильный холмик, Рапсод Мургабович прокричал:
– Все, у кого пригласительные билеты, милости прошу на поминки в ресторан «У ангела».
Вовец выронил из рук пластмассовый стаканчик.
– У тебя есть пригласительный билет? – угрожающе спросил он у Колбаско.
– И так протыримся, – вякнул Колбаско.
Вовец дико завращал глазами и зашипел:
– В гробу я видел эти поминки! Белого коня пришлют! В именном конверте! Иначе ноги моей больше не будет на их похоронах!..
Постепенно кладбище опустело, а к могиле подошли два бомжеватого вида человека. Пожилой мужчина в некогда адидасовском спортивном костюме и не менее пожилая женщина в некогда кроссовках и в некогда вязаной вытянувшейся кофте. В руках у них были авоськи с пустыми бутылками, а на спинах – трухлявые, некогда брезентовые рюкзаки с торчащими сквозь дыры такими же пустыми бутылками. Женщина положила на холмик полуувядшую каллу, а мужчина деловито собрал с могилы все розы и связал из них вполне приличный букет вынутой из кармана бечевкой.
– Прощай, Алеко, и прости, – пробормотал мужчина. – Ты – уже, а нам еще жить надо…
И они поспешили к выходу…
…Пока Ригонда сдавала тару в супермаркете «Полная чаша», Индей Гордеевич успел у Дворца бракосочетаний им. Жанны д'Арк толкнуть за три сотни букет роз опаздывавшему на церемонию какому-то свидетелю со стороны какого-то жениха…







