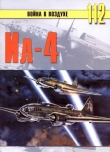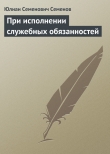Текст книги "Воздушные путешествия. Очерки истории выдающихся перелетов"
Автор книги: Аркадий Беляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Так название «полюс недоступности» утратило свой грозный смысл.
В заключение еще несколько слов об Уилкинсе и Эйлсоне. В ноябре 1929 года Эйлсон с другим полярным летчиком, Борландом, вылетел на поиски пропавшего во льдах американского парохода «Нанук», перевозившего пушнину. Миллионная стоимость груза «Нанука» вынудила его хозяев объявить приз в 50 тысяч долларов за спасение 50 людей на борту судна и груза из его трюмов. В эти же дни терпел бедствие затертый льдами невдалеке от острова Врангеля советский пароход «Ставрополь», на выручку которому были посланы советские летчики. Почти сразу после взлета, 10 ноября 1929 года, «Гамильтон» – самолет Эйлсона и Борланда – попал в метель и, как потом было установлено, зацепив крылом за обрывистый берег реки Ангуемы, разбился. Так оборвалась беспокойная, но чрезвычайно интересная жизнь Биг Бена. В поисках исчезнувшего самолета участвовали советские летчики. В январе 1930 года экипаж И. Т. Слепнева обнаружил место гибели. Оно получило название Коса двух пилотов. В первых числах марта самолет Слепнева с останками Эйлсона и Борланда на борту приземлился в Фербенксе, где был встречен родными погибших летчиков. Отцу Эйлсона Слепнев вручил штурвал от самолета его сына.
К Уилкинсу судьба была милостива. Его ждала долгая жизнь. Знаток севера, он работал консультантом, много путешествовал, изучая Арктику и Антарктику, и только в 1958 году, семидесятилетним стариком, закончил главное свое путешествие – путешествие по жизни.
АДМИРАЛ ПОЛЮСОВ
Сказать, что этот энергичный, ни минуты не знавший покоя человек был честолюбив, – значит не сказать ничего. Ричард Эвелин Берд надолго терял покой, если узнавал, что кто-то собирается сделать или уже сделал что-то первым.
1919 год. Стали более или менее уверенно и далеко летать дирижабли. Родилась идея перелета Северной Атлантики из Америки в Европу. И вот уже Берд на Ньюфаундленде готовит свой дирижабль С-5. Неудача. Штормовой ветер срывает С-5 с креплений и уносит в океан без экипажа.
1924 год. В США решают вопрос о посылке к Северному полюсу тяжелого дирижабля «Шенандоа» (на одном из индейских наречий – «Дочь звезд»). Берд добивается назначения на должность штурмана экспедиции. Новая неудача – президент США находит эту идею слишком рискованной и отменяет экспедицию.
1925 год. Национальное географическое общество США решает организовать базу на одном из островов севера Гренландии. Возглавил экспедицию Дональд Мак-Миллан. В его распоряжении три самолета, одним из которых командует Берд. И хоти за две недели Берд налетал более 8000 километров вдоль северного побережья Гренландии, полет к Северному полюсу не состоялся. В этой экспедиции Берд и его друг и механик Флойд Беннет, ставший впоследствии летчиком, принимают решение организовать самостоятельную экспедицию к Северному полюсу. Силы и энтузиазма не занимать – нет денег. Позже Берд писал, что добыча денег на полярные исследования всегда будет самой трудной задачей. Все знакомые ему полярные исследователи были почти или полностью банкротами.
На сей раз судьба благосклонна к летчику. Его идею достичь Северного полюса на самолете поддерживают и морально и материально миллионеры Эдсел Форд, Джон Рокфеллер и даже сам тогдашний президент Америки Кельвин Кулидж.
В распоряжении Берда новенький трехмоторный «Фоккер» с лучшими по тем временам моторами «Райт Уирлвинд» по 200 лошадиных сил каждый. Разработан план экспедиции. 37-летний Берд и 35-летний Беннет решают начать свой полет к Северному полюсу из местечка Кингс-Бей, что на Шпицбергене.
Вдруг приходит известие, что именно отсюда, из Кингс-Бея, готовится отправиться в путешествие через Северный полюс на Аляску Руал Амундсен на дирижабле «Норвегия». Подстегиваемый опасением, как бы Амундсен не опередил его с отлетом, Берд зафрахтовал судно «Чантиер» для доставки самолета и всего необходимого экспедиции в Кингс-Бей. Из огромного числа желающих Берд отбирает около 50 человек, которым предстоит обеспечить его с Беннетом полет к полюсу.
Нью-Йорк остался за кормой «Чантиера» 5 апреля 1926 года, а 29 апреля судно отшвартовалось у причала Кингс-Бея. Началась сборка самолета и подготовка его к вылету.
Седьмого мая в Кингс-Бей прилетает «Норвегия». Берд увеличивает без того высокие темпы работ. Для спешки была и еще одна причина: в те времена многие, даже в ученом мире, предполагали, что посреди Северного Ледовитого океана лежит неизвестная земля. Заманчивая перспектива открытия в подарок человечеству Земли Берда лишала душевного покоя. Готовя свой полет в лихорадочной спешке, Берд пристально следил за ходом подготовки к полету Амундсена. Следует отдать должное благородству Амундсена, который сделал все возможное и зависящее от него, чтобы помочь Берду в его затее. В частности, он дал ему много практических советов, основанных на огромном опыте работы на севере, опыте, о котором Берд мог лишь мечтать. Амундсен был большим, истинным ученым. Ведущим побуждением всех его поступков и свершений было бескорыстное служение науке, а не желание первенствовать. Берд, удивленный искренностью и дружелюбием Амундсена, не удержался от восклицания: Вы – великодушнейший конкурент! На это он получил ответ: А Вы мне не соперник. Мы – сотрудники в совместном большом деле освоения полярного района.
Итак, с 7 мая к полету стали готовиться и «Норвегия» и «Джозефина Форд» – так, в честь дочери Форда, Берд назвал свой самолет. Уже через день у Берда стали сдавать нервы.
Из воспоминаний Амундсена: В час пятьдесят ночи 9 мая нас разбудил мощный рев моторов прямо под нашими окнами. Мы вскочили со своих коек и выбежали на улицу как раз вовремя, чтобы еще увидеть «Джозефину Форд», отправляющуюся к полюсу. Тем, кто постоянно твердил, будто нам было досадно, что Берд нас обставил, интересно будет узнать, что в этот момент мы с Элсвордтом крепко пожали друг другу руки и сказали: «Дай Бог, чтобы у них все было хорошо!»
Несмотря на далеко не лучшие метеоусловия, «Джозефина Форд» взяла курс к Северному полюсу. Машину в основном пилотировал Беннет, а Берд исполнял роль штурмана, что по мере приближения к полюсу становилось все сложнее и сложнее. Однако в целом полет протекал нормально. Наконец навигационные расчеты показали, что до точки полюса осталось 90 миль. Тут Беннет заметил, что из правого мотора бежит по капоту пузырящаяся струйка горячего масла. Что делать? Садиться и искать причину неисправности или лететь дальше, рискуя вот-вот потерять мотор?
Экипаж принимает решение лететь. Слегка уменьшив обороты «захворавшего» мотора, Беннет повел машину дальше. В 9 часов 2 минуты расчеты показали, что под самолетом – полюс. Дважды проверив свое местоположение и убедившись, что ошибки нет, летчики три минуты кружат над полюсом, сбрасывают на лед американский флаг и ложатся на обратный курс. От взлета прошло 8 часов. До старта «Норвегии» осталось двое суток. И хотя никакой земли по маршруту своего полета экипаж «Джозефины Форд» не обнаружил, Берд ликовал: он стал первым человеком, пролетевшим над Северным полюсом на самолете.
Обратный полет прошел при ясной погоде и попутном ветре вполне нормально. Более того, масло из мотора перестало течь. Как выяснилось после посадки, причина течи была очень простой и совершенно не опасной: масло просачивалось через ослабевшую заклепку в маслопроводе, и только тогда, когда самолет накренялся.
Первым, кто поздравил экипаж после посадки, был, конечно, Амундсен. Он даже прослезился от переполнявших его чувств.
Совсем по-другому отнесся к полету Берда другой член экипажа дирижабля «Норвегия» – его создатель и командир, полковник Умберто Нобиле. В своих довольно обширных мемуарах Нобиле не скрывает неприязни к Берду – и как к исследователю, и как к человеку. Мало того, он утверждает, что «Джозефина Форд» до полюса не долетела. С помощью профессора Упсальского университета метеоролога Г. X. Лильеквиста он тщательнейшим образом изучил данные о метеобстановке на участке от Кингс-Бея до Северного полюса в день полета «Джозефины Форд». Не менее тщательно они проанализировали летно-технические характеристики модификации самолета «Фок-кер», которой располагал Берд. С 9 по 11 мая на всем протяжении от Шпицбергена до полюса погода была стабильной, обусловленной мощным антициклоном. Температура воздуха и атмосферное давление в антициклоне позволяли утверждать, что «Джозефина Форд» летела со скоростью около 140 километров в час. Эти данные подводят к такому заключению: если бы «Фоккер» Берда достиг Северного полюса, он должен был вернуться в Кингс-Бей между 18 часами 30 минутами и 19 часами. Самолет же сел в 16 часов 7 минут. Вывод: Берд в этом полете Северного полюса не достиг.
Не настаивая ни на этом, ни на противоположном утверждении, заметим, что полет экипажа «Джозефины Форд» был, безусловно, выдающимся и независимо от того, достиг ли самолет точки географического полюса или находился в пределах нескольких десятков или даже сотни километров от нее, Берда вполне можно считать первым человеком, добравшимся на самолете до Северного полюса.
Полет на «Джозефине Форд» в полном смысле слова окрылил Берда. Он ставит перед собой новую задачу – стать первым человеком, достигшим на самолете Южного полюса и одновременно первым, пролетевшим и над Северным и над Южным полюсами. С лета 1928 года Берд приступает к подготовке антарктической экспедиции. По самым скромным подсчетам задуманный план требовал около миллиона долларов. Эти деньги нужны были на фрахт двух кораблей, покупку трех самолетов и всего оборудования и снаряжения, необходимого для более чем годичного пребывания в Антарктиде экспедиции из 42 человек. Как видит читатель, экспедиция была задумана Бердом с большим размахом.
Первый из зафрахтованных кораблей, названный Бердом «Нью-Йорк», отошел из нью-йоркского порта в октябре 1928 г. Вскоре после него в плавание к берегам Антарктиды отправился и второй корабль – «Элеонора Боллинг», названный так в честь матери Берда. Лететь к Южному полюсу Берд собирался на трехмоторном моноплане цельнометаллической конструкции с двумя крыльевыми моторами «Райт Уирлвинд» по 225 лошадиных сил каждый и центральным мотором в носу фюзеляжа «Райт Циклон» в 525 лошадиных сил. Этой машине Берд присвоил имя «Флойд Беннет» в честь недавно покинувшего этот мир друга и коллеги, который летал с ним к Северному полюсу. Два других самолета – монопланы «Файрчайлд» с 425-сильным мотором и «Фоккер» (с таким же мотором) – предназначались для вспомогательных полетов над Антарктидой, картографирования неисследованной территории и других научных целей.
В декабре 1928 года экспедиция высадилась в Китовой бухте Антарктиды. Дружно и в короткие сроки были сооружены все необходимые постройки: жилые, технические, вспомогательные. Берд назвал свой лагерь «Маленькой Америкой». Его отделяли от Южного полюса 2,5 тысяч километров и горная гряда, высота которой была близка к максимально возможной высоте полета машины Берда. Это была одна из главных сложностей предстоящего путешествия. Вторая трудность заключалась в том, что горючего, даже при самой полной заправке, на полет к полюсу и обратно не хватало. Было необходимо создать где-то на пути самолета склад с горючим для дозаправки. Такую базу соорудили в 725 километрах от основного лагеря.
Вскоре после того, как участники экспедиции организовали более или менее приемлемые условия жизни в «Маленькой Америке», наступила полярная зима. Долгие зимние месяцы – июнь, июль и август – коротали, изучая физические и погодные характеристики Антарктиды, устраивая в лагере спортивные соревнования, готовя самолеты и аппаратуру. Лагерь был почти полностью похоронен под снегом. Люди ходили из помещения в помещение по коридорам, проделанным в снегу и льде.
Наконец наступила весна. «Флой Беннет» был подготовлен к полету 19 ноября 1929 года. Первым пилотом стал Бернт Балхен, ранее работавший у Амундсена (Берд познакомился с ним в Кинге-Бее). Берду отводилась роль штурмана. Кроме Берда и Балхена в экипаж вошли радист Гарольд Джун и фотограф Аслей Маккинли. В 15 часов 29 минут 28 ноября «Флойд Беннет» стартовал к Южному полюсу. Вначале погода была плохой, но уже через час голубое небо и яркое солнце подняли настроение всему экипажу. Самолет шел к горам. По плану Берда пройти между высокими пиками гор надлежало над перевалом Лив, кстати названным именем дочери Фритьофа Нансена. Когда машина приблизилась к перевалу, держась на своей предельной высоте, летчики увидели, что они идут ниже верхушек гор. Срочно были сброшены за борт два мешка с аварийным запасом продовольствия. Машина поднабрала высоты и, почти задевая поверхность ледника, прошла перевал. Впереди на тысячи километров простиралось антарктическое плато.
К полюсу машина подошла в 1 час 14 минут ночи уже 29 ноября. Берд вспоминал: В 1 час 14 минут по гринвичскому времени мы, согласно нашим расчетам, оказались над полюсом. Решили летать в разных направлениях, делая в каждый конец по десять километров, чтобы уж наверняка пролететь над полюсом. Там, где, мне казалось, находится самый полюс, я сбросил американский флаг с камушком, взятым с могилы Ф. Беннета. В 1 час 25 мин мы развернулись и взяли курс на «Маленькую Америку», покинув это замечательное место, откуда есть только одно направление – на север. Всего за секунду мы пронеслись над тем местом, где 14 декабря 1911 года стоял Амундсен, а через месяц после него Скотт. В их честь мы сегодня пронесли над полюсом флаги их стран. Ничем не выделяется это место среди бесконечной снежной пустыни. Нигде не видно гор: должно быть облака на востоке скрывали их от нас. Не так уж много достопримечательностей на Южном полюсе. И когда мы сами в этом убедились, мы повернули обратно.
Назад самолет летел по 168-му меридиану. Несмотря на облачность, погода благоприятствовала полету, дул попутный ветер. В 5 часов утра самолет сел у базы дозаправки в районе гор Королевы Мод. Еще четыре часа полета – и «Флойд Беннет» замер на аэродроме «Маленькой Америки». Это произошло через 18 часов 40 минут после его взлета.
Ричард Эвелин Берд завоевал право называться первым человеком, достигшим на самолете обоих полюсов земли. Научные или практические достижения экспедиции сводились к нескольким десяткам фотографий, сделанных с борта самолета и некоторым уточнениям, внесенным в карту Антарктиды. Однако в смелости и даже в дерзости Берду не откажешь. Именно после этого полета Конгресс США присвоил ему воинское звание адмирала, а президент Рузвельт назвал его громким именем Адмирала Полюсов.
После своей первой экспедиции в Антарктиду Берд побывал там еще четыре раза. Последняя (пятая) экспедиция состоялась в конце 1955 – начале 1956 годов. В этот раз Адмирал Полюсов совершил третий и последний полет к Южному полюсу.
Какие перемены за 45 лет! Там, где Скотт и его предельно измученные товарищи с трудом тащили свои тяжелые сани, мы летим со скоростью 650 км в час на четырехмоторном самолете под надежной охраной новейших, поистине волшебных электронных навигационных приборов. То и дело нам подают чай, – изумлялся Берд.
За несколько месяцев до смерти – Берд умер в 1957 году в возрасте 60 лет – он писал: Многие спрашивают меня, почему я снова и снова неизменно возвращаюсь в Антарктику? Прежде всего потому, что мне там нравится. Я люблю эти бесконечные пространства, покрытые застругами снега, высокие пики, величественные ледники. Я люблю слушать грохот тракторных гусениц, гул вертолетов, крики и возгласы людей, которые возятся с машинами. Люблю и завывания ездовых лаек, без которых еще не обойдется ни одна спасательная партия. Я люблю все это как символ торжества жизни над безжизненной страной.
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ ДВУХ НЕОРДИНАРНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ
На борту нас было шестнадцать человек: тринадцать членов экипажа, а также Амундсен, Элсуорт и Рамм – люди, весьма далекие от пилотирования воздушного аппарата.
Амундсен взял на себя наблюдение над районом полета и устроился в удобном дюралюминиевом кресле, обтянутом кожей, которое я приготовил для него еще в Риме. Оно находилось в передней части рубки управления, возле одного из иллюминаторов, в который исследователь мог выглянуть, чтобы увидеть землю. Журналист Рамм расположился со своей пишущей машинкой в задней части рубки управления, около крошечного туалета. Элсворд не имел никакого занятия. Он был просто пассажиром, представившим в распоряжение экспедиции крупную сумму денег.
Двенадцать членов экипажа, которые вместе со мной были заняты управлением дирижаблем, находились на своих местах. Ризер-Ларсен и Хорген следили за курсом, измеряли время от времени высоту солнца и проверяли магнитный компас. Вистинг находился у руля высоты. Чечиони следил за работой двигателей и с помощью Ардуино регулировал подачу масла в соответствии с моими указаниями. Мотористы сидели в своих гондолах: Каратти – в левой, Помелла – в центральной; в правой, сменяя друг друга, находились Ардуино и Омдал. Сторм-Йонсен разместился в радиорубке вместе с Готтвальдтом, который занимался гониометрическими измерениями. Мальмгрен с помощью полученных по радио метеосводок составлял синоптическую карту. Алессандрини... время от времени отправлялся проверить, не образовался ли лед на верхней части дирижабля, хорошо ли закрыты клапаны газа. Задача не из приятных: надо было выходить через узкую дверь на нос корабля, карабкаться вверх по крутой стальной лестнице, упирающейся в наружную стенку и под ледяным ветром, скорость которого достигала восьмидесяти километров в час, пробираться на четвереньках по «спине» дирижабля на другую сторону, держась одной рукой за канат. И однако Алессандрини никогда не отказывался идти и всегда возвращался в рубку управления спокойный, с чувством удовлетворения и докладывал: «Все в порядке!»
Вы, возможно, уже догадались, что речь идет о дирижабле «Норвегия». Приведенные выше строки взяты из книги «Крылья над полюсом» Умберто Нобиле, командира воздушного судна, стартовавшего из Кингс-Бея, на Шпицбергене, 11 мая 1926 года для перелета на Аляску через Северный полюс. Вдохновителем этого перелета был выдающийся норвежский полярный исследователь Руал Амундсен.
Амундсен начал готовиться к экспедиции на Северный полюс еще в первые годы нашего столетия. Именно с этой целью он приобрел у Ф. Нансена его знаменитый корабль «Фрам», разработал подробный план дрейфа, обзавелся ездовыми собаками и всем необходимым для экспедиции. Однако, узнав, что его опередил американец Р. Пири, Амундсен принимает новое решение: «Фрам» берет курс не на Арктику, а на Антарктику. Это путешествие прошло хотя и с большими трудностями, но вполне успешно. 16 декабря 1911 года Амундсен с четырьмя спутниками на лыжах с нартами, буксируемыми собаками, вышли к Южному полюсу, затратив на это 99 дней. Норвежский флаг затрепетал в самой южной точке планеты.
И все же мысли о Северном полюсе не оставляют неутомимого норвежца. Его подталкивают многочисленные публикации об отсутствии у Р. Пири безусловных доказательств того, что он достиг Северного полюса. Опыт посещения Южного полюса приводит Амундсена к мысли отправиться в Арктику не на лыжах, не на собаках, а на самолете. В 1923 году Амундсен разрабатывает следующий план: два самолета стартуют к Северному полюсу, но один летит со Шпицбергена на Аляску, а другой – с Аляски на Шпицберген. Предполагалось, что это вдвое уменьшит риск затеряться в бескрайних льдах Арктики в случае вынужденной посадки одного из самолетов. Два одномоторных «Юнкерса» были доставлены к местам старта. Однако машина, на которой должен был лететь Амундсен, разбилась в тренировочном полете. Пилот второго самолета, Нейман, оставшись без напарника, занялся воздушным фотографированием и картографическими работами, в чем, кстати говоря, очень преуспел.
Не отказавшись от идеи использовать два самолета, Амундсен в 1925 году выдвигает новый план: вылетевшие из одной точки машины должны сесть на полюсе, здесь путешественники проведут необходимые наблюдения и исследования, а затем, слив все горючее из одного самолета в другой, участники экспедиции вернутся на этом последнем на базу. Экспедиция, в которую кроме Амундсена вошли летчики Ризер-Ларсен и Дитрихсен, а также исследователи Элсворд, Омдал и Фойхт, использовала две двухмоторные летающие лодки «Дорнье Валл». Исходным пунктом маршрута был выбран Кингс-Бей.
Двадцать первого мая самолеты были готовы к взлету. Обе машины ушли в воздух около пяти часов утра. Погода – что не редкость на севере – не благоприятствовала полету: туман, температура около – 10°, а значит, возможно обледенение. Машины идут на высоте 1000 метров. Амундсен и его коллеги с любопытством всматривались в проплывающие внизу участки поверхности Северного Ледовитого океана. Любопытство это не было праздным: предстояло выбрать подходящее место посадки. Между тем открывавшаяся взгляду картина не внушала особенных надежд. Между ледяными глыбами не было ни одного ровного промежутка, который позволял бы безопасно опуститься.
При подлете к полюсу на машине Амундсена забарахлил один из моторов, и Ризер-Ларсен вынужден был посадить ее на тонкий лед в точке с координатами 87°43'42" с. ш. и 10°19'05" з. д. Не подозревая об истинной причине посадки, Дитрихсен опустился на лед неподалеку.
Ночью самолет Амундсена примерз. Все старания спасти его из ледяного плена ни к чему не привели. Экипаж готов уже двинуться пешком к мысу Колумбия, как только аппарат будет разрушен. Ризер-Ларсен попытался отыскать самолет Дитрихсена, но безуспешно. Когда надежда найти товарищей уже гасла, послышался выстрел. Однако увидеть друг друга экипажи смогли только, когда прояснилось. Экипажи пошли навстречу друг другу. Дитрихсен и Омдал провалились под лед. Элсворд с трудом помог им выбраться из полыньи. Кое-как добрались к самолету Дитрихсена, переодели в сухое платье и напоили горячим какао «пловцов», затем все шестеро повернули к самолету Амундсена. В обратный путь решили лететь именно на нем, так как корпус машины Дитрихсена дал течь. До цели добрались лишь 27 мая к вечеру. Освободили машину ото льда, стали готовить моторы к отлету. Дул сильный юго-восточный ветер. Встал вопрос: куда лететь (если вообще удастся подняться в воздух) – к полюсу или назад, на Шпицберген?
Амундсен решает возвращаться, не надеясь найти такое место посадки, с которого можно было бы точно определить, где находится Северный полюс. Продолжать путешествие при этих условиях, по его мнению, означало бы только блуждать вблизи полюса – предприятие весьма сомнительное и сопряженное с неоправданным риском.
Однако вернуться было не проще, чем лететь к полюсу. К счастью, погода стояла мягкая. Сутки напролет вся шестерка занята изнурительным трудом – подготовкой взлетной полосы. По ночам льды сжимают самолет так, что обшивка буквально стонет. Приходится почти постоянно обкалывать лед, чтобы спасти машину. Дни идут, приближается 15 июня, когда нужно будет либо взлетать, либо отправляться пешком к мысу Колумбия. Промедление грозит голодом. К 15 июня была проложена взлетная полоса длиной около полукилометра и шириной 12 метров, но в ночь перед взлетом ее почти на одну треть длины залило водой. Свободное от воды пространство слишком мало для разбега. С самолета сняли все, что только можно снять, – на льдине осталось почти две тонны снаряжения. И вот самолет в воздухе. Курс на Шпицберген. Густой туман. И тут новая беда: отказали элероны. Пилотирующий самолет Ризер-Ларсен с большим трудом, используя только руль направления, довел машину до Нордкапа и посадил «а воду. Около получаса ушло на руление по волнам. Наконец экипаж вступил на твердую землю. К счастью для экспедиции, вскоре подошло судно „Сьёлив“, 19 июня доставившее ее в Кингс-Бей.
Итак, задача, которую поставил перед собой Амундсен, и на этот раз не была выполнена. Он пробыл почти месяц в 200 километрах от полюса и с большим трудом, по счастью не потеряв никого из спутников, вернулся на Шпицберген тогда, когда многие уже привыкли к мысли об их гибели. Разуверившись в возможностях авиационной техники, Амундсен решает воспользоваться предложением итальянского правительства приобрести один из военных дирижаблей.
С гидропланами этот перелет являлся рискованным, но мы были счастливы подвергнуться этому риску в надежде на удачный исход, тогда как с дирижаблем успех предприятия являлся вполне возможным, – утверждал Амундсен в книге «Моя жизнь».
Загоревшись новой идеей, Амундсен с присущей ему настойчивостью берется за ее осуществление. Он покупает дирижабль N-1, изготовленный в Риме по чертежам полковника Умберто Нобиле на его собственном заводе.
Все лето 1925 года ушло на формальности, связанные с покупкой воздушного корабля, комплектованием экипажа, разработкой конкретного плана перелета. Поскольку Нобиле не только проектировал и строил дирижабль, но и имел большой опыт пилотирования, Амундсен предложил ему возглавить экипаж «Норвегии» – так стал называться дирижабль. Нобиле не без удовольствия принимает предложение, но с условием включить в экипаж итальянцев – механиков и мотористов. Амундсен соглашается.
То, что эти два совершенно различных по характеру, взглядам и устремлениям человека смогли объединить свои усилия, по меньшей мере удивительно. Этот союз был столь неожиданным даже для них самих, что Нобиле в своих мемуарах истолковал его как встречу двух неординарных личностей, одинаково честолюбивых и одинаково презирающих опасности. К слову сказать, после полета на «Норвегии» отношения между Амундсеном и Нобиле стали резко враждебными, тем не менее Амундсен, узнав о катастрофе «Италии», при первой же возможности вылетел на поиски оставшихся в живых членов ее экипажа. Этот полет стал для него последним. Трудно сказать, как поступил бы в подобной ситуации Нобиле.
Но вернемся к «Норвегии». Этот дирижабль объемом 18500 кубических метров, с корпусом длиной 106 метров, высотой 26 метров и шириной 19,5 метров был снабжен 250-сильными моторами, которые обеспечивали скорость полета до 110 километров в час. Он поднимал более 7 тонн полезного груза при общем полетном весе в 13 тонн.
К весне 1926 года «Норвегия» была подготовлена и облетана ее экипажем, и в конце марта на ней в торжественной обстановке подняли норвежский флаг. Амундсен и Элсворт уехали в Кингс-Бей позаботиться о стоянке для своего корабля, а Нобиле начал готовить дирижабль к перелету из Рима на Шпицберген. 10 апреля он стартовал и, сделав в пути две остановки – вблизи Лондона и в Осло, 15 апреля прибыл в Гатчину, под Ленинградом. Уже к этому моменту «Норвегия» пролетела более 3000 километров, что было явным достижением для дирижабля подобного класса. Сообщение, что в Кинге-Бее все готово к приему дирижабля, пришло в начале мая, 7 мая «Норвегия» уже на Шпицбергене.
Исторический перелет начался 11 мая 1926 года, около 10 часов утра. На борту дирижабля находились 16 человек, с которыми читатель познакомился в начале этого очерка. Полет проходил в хороших метеорологических условиях почти до самого полюса, куда «Норвегия» подлетела во втором часу ночи 12 мая. Сделав несколько кругов и сбросив норвежский, итальянский и американский флаги, экипаж взял курс на Аляску. Погода портилась. Наползал туман. Сильное обледенение. Куски льда срывались с лопастей пропеллеров и рвали обшивку корпуса дирижабля. Утром 13 мая «Норвегия» подошла к Аляске, в районе мыса Барроу. Здесь погода настолько ухудшилась, что экипаж потерял всякое представление о том, где находится. Штормовой ветер бросал дирижабль, как пушинку. Целый день путешественники боролись со стихией, и только к вечеру удалось определить, что «Норвегия» отнесена ветром к берегам Чукотки. Взяв курс на Аляску и пролетев всю ночь, дирижабль приземлился в 7 часов утра 14 мая в поселке Теллер, что в 150 километрах от города Ном. При посадке он был сильно поврежден и в итоге брошен экипажем. Это был первый в истории исследований Арктики перелет из Европы в Северную Америку через Северный полюс. «Норвегия» за 72 часа пролетела без посадки 5400 километров.
Второй раз лететь к Северному полюсу на дирижабле Нобиле – теперь уже не полковник, а генерал (он получил это звание за успешный перелет на «Норвегии») – решил без Амундсена. Нобиле стал готовить для этого перелета новый дирижабль N-4, по конструкции представляющий собой копию «Норвегии». Он получил имя «Италия».
«Италия» начала 55-часовой полет к полюсу и одновременно к гибели 23 мая 1928 года, в 4 часа 38 минут утра, взяв курс на северо-восток Гренландии. Уже через несколько часов полета густой туман окутал «Италию» и не отпускал ее из своих объятий почти весь день. В 17 часов экипаж достиг Гренландии. В условиях постепенно улучшающейся видимости, около 18 часов, «Италия» изменила курс в направлении Северного полюса. На полюс дирижабль прибыл вскоре после полуночи. Аэронавты снизили машину до высоты 100-150 метров и, описав несколько кругов, сбросили итальянский флаг и большой дубовый крест (последний – по поручению папы римского Пия XI, благословившего их путешествие). В районе полюса дирижабль пробыл почти два часа, затем рулевой направил машину к Шпицбергену. С первых же минут обратного полета стал постепенно усиливаться встречный ветер, небо затягивалось тяжелыми темными тучами, сгущался туман. Корпус «Италии» обледенел. Ранним утром 25 мая встречный ветер начал буквально останавливать полет воздушного корабля. Путевая скорость упала в среднем до 40 километров в час. К этому времени экипаж заметно устал – как ни как более двух суток в полете. Однако до половины одиннадцатого утра полет «Италии» протекал вполне нормально.
Катастрофа разразилась внезапно. Столь внезапно, что радист не успел даже передать в эфир просьбу о помощи. Дирижабль упал на лед с высоты 300 метров.
...Мы стукнулись о поверхность. Раздался ужасающий треск. Я ощутил удар в голову. Почувствовал себя сплющенным, раздавленным. Ясно, но без всякой боли ощутил, что несколько костей у меня сломано. Затем что-то свалилось сверху и меня выбросило наружу вниз головой. Инстинктивно я закрыл глаза и в полном сознании равнодушно подумал: «Все кончено!» – вспоминал Нобиле.
Дирижабль упал в 10 часов 33 минуты 25 мая примерно в 100 километрах от северных берегов Северо-Восточной Земли. От удара о лед разлетелись на куски командная и моторная гондолы. На льду остались девять человек, из которых трое – Нобиле, моторист Чечиони и метеоролог экспедиции профессор Мальмгрен – были ранены, а находившийся в этот момент в моторной гондоле моторист Помелла убит. Разбитый дирижабль с остатками команды на борту вновь оторвался ото льда, улетев в вечность. Судьба людей, унесенных полунаполненной оболочкой «Италии», осталась загадкой.