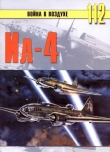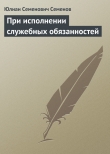Текст книги "Воздушные путешествия. Очерки истории выдающихся перелетов"
Автор книги: Аркадий Беляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
КАВАЛЕР ОРДЕНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Японцы представили меня к высшей своей награде – ордену Восходящего солнца, но тогда наша страна не принимала наград капиталистических государств и орден заменили... серебряными вазочками, – рассказывал М. М. Громов, вспоминая дни, проведенные в Токио после завершения первого советского группового сверхдальнего перелета из Москвы в Страну восходящего солнца.
Читатель, хотя бы поверхностно знакомый с историей авиации, поймет, что выполнение такого грандиозного перелета в 1925 году, да еще всего за 37 дней, было настоящим подвигом.
Михаил Михайлович Громов. Советский летчик номер один. Фигура столь колоритная, что невозможно удержаться от желания познакомить читателя хотя бы кратко с жизнью этого замечательного человека.
Михаил Михайлович вырос в интеллигентной семье. Отец – военный врач, человек чрезвычайно интересный, увлеченный, каждую минуту отдающий делу. Мать – медсестра, вложившая всю свою душу в воспитание детей. Мальчик рос очень любознательным, увлекался музыкой, физкультурой, живописью, любил животных. (Кстати, эти увлечения Михаил Михайлович пронес через всю свою жизнь.)
Мечта об авиации пришла в 11 лет, когда была сделана своими руками первая летающая моделька. В 15-летнем возрасте Михаил, благодаря отцу, попал на военный аэродром, и выбор был сделан окончательно. После реального училища – Громов студент Московского Высшего технического училища, слушатель теоретических курсов, организованных «отцом русской авиации», Н. Е. Жуковским. На всю жизнь сохранил Михаил Михайлович глубокое уважение к своим первым учителям, лекции которых он слушал на курсах: Н. Е. Жуковскому, В. П. Ветчинкину, А. А. Микулину, Б. С. Стечкину, В. С. Кулебякину.
Весной 1917 года – первый в жизни полет с одним из старейших русских летчиков Б. И. Российским, пока еще в качестве пассажира. Учеба в Центральной Московской авиашколе. И вот уже сФарман-4» послушно выполняет все желания своего юного пилота.
Октябрьская революция застала Громова в период его становления как военного летчика. Экзамен сдан блестяще, и молодого человека оставляют работать инструктором в школе. Такой чести и до нашего времени удостаиваются только лучшие из лучших выпускников авиаучилищ. Летчик-инструктор – труднейшая и почетнейшая должность в авиации всего мира. Именно эти люди изо дня в день терпеливо и настойчиво делают из мальчишек, в большинстве своем никогда даже не сидевших в кабине самолета, летчиков. Спросите любого летчика – каждый назовет вам фамилию человека, давшего ему путевку в небо, и каждый помянет его добрым словом.
Громову пришлось поработать летчиком-инструктором не только в Московской авиашколе. Летал он и в Серпуховской авиационной школе стрельбы и воздушного боя. Интересный факт: здесь, в Серпухове, в летной группе Михаила Михайловича учился Валерий Павлович Чкалов. По воспоминаниям Громова, Чкалов летал напористо, храбро, но бесшабашно и несколько грубовато – такой уж был у него характер. И сработаться с ним было не так-то легко. Но именно в те дни окрепло взаимное уважение летчика и его инструктора.
Мы специально привели здесь эту короткую, но в высшей степени точную характеристику В. П. Чкалова, для того чтобы читатель смог рельефнее представить себе Михаила Михайловича Громова, обладавшего характером, пожалуй, диаметрально противоположного свойства. Сам он был о себе такого мнения: На земле я слыл за человека до застенчивости скромного, но в воздухе стремился раскрыть все свои способности и замыслы. Да и смог ли бы я стать настоящим испытателем (эти слова Громова относятся ко времени начала его работы в качестве летчика-испытателя – А. В.), если бы летал ничем не отличаясь от других и не показывая своего мастерства? Конечно, нет... После испытаний очень сложного самолета «Фоккер Д-13» для меня не существовало никаких трудностей в пилотировании любых самолетов, малых или больших, с любым количеством моторов. Нужно, я это хорошо понял, лишь одно: устойчивость во всех осях самолета. Остальное – чутье к самолету. Это уже свойство не самолета, а летчика, человека.
Но вернемся к перелету Москва – Токио (в советской литературе его называют перелетом Москва – Пекин). Это был первый и, пожалуй, единственный сверхдальний групповой перелет разнотипных самолетов: в группе из шести машин было четыре типа самолетов. И если, скажем, в более поздние годы знаменитые итальянские воздушные «армады Бальбо»[2]2
Генерал Итало Бальбо – командующий военно-воздушными силами фашистской Италии, прославившийся организацией и проведением сверхдальних перелетов больших групп морских самолетов.
[Закрыть] имели в своем составе два-три типа самолетов, то это были машины, близкие по своим летным характеристикам, тогда как в групповом перелете 1925 года участвовали машины с резко отличающимися летными возможностями. Это в итоге даже определило нестандартную стратегию перелета: с каждого очередного аэродрома улетал сначала самый тихоходный самолет конструкции профессора В. Л. Александрова и В. В. Калинина АК-1 «Латышский стрелок», за ним, через некоторое время, взлетал Р-2, биплан Н. Н. Поликарпова с мотором «Сиддлей Пума»; после Р-2 стартовали на очередной участок маршрута два Ю-13 («Юнкерсы») «Правда» и «Красный камвольщик», и, наконец, последними уходили в небо два Р-1. Эти машины были, так же как и Р-2, конструкции Н. Н. Поликарпова, но с отечественными моторами М-5. Такой порядок вылета должен был обеспечить одновременное прибытие всей группы к месту очередной посадки, чего на практике, кстати, почти никогда не получалось.
Цели перелета широко освещались в прессе тех лет. Дело в том, что 31 мая 1924 года советское и китайское правительства подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Желая подчеркнуть искренность наших отношений к китайскому народу, Президиум ВЦИК СССР 1 июня 1925 года принял специальное постановление, в котором, в частности, были такие строки: Учитывая всю важность развития культурных и экономических связей СССР с дружественными ему народами Китая и Монголии, а также укрепления связей с окраинными советскими республиками и областями, Общество Друзей Воздушного флота и Российское общество «Добролет» организует в начале июня текущего года воздушный перелет Москва – Китай.
Экипажи двух Р-1 возглавили М. М. Громов и М. А. Волковойнов. Р-2 пилотировал А. Н. Екатов, АК-1 – А. И. Томашевский. «Юнкерсы» подняли в небо летчики И. К. Поляков и Н. И. Найденов. О каждом из этих людей можно рассказать много интересного. Герой Гражданской войны, кавалер двух орденов Красного Знамени, мужественный, упорный в достижении цели Томашевский. Также кавалер ордена Красного Знамени Волковойнов, человек сложной судьбы, послуживший и в белой и в красной авиации. Молчаливый и скромный до застенчивости Екатов. Люди разных характеров, темпераментов, судеб. Всех их объединяло одно – мастерское владение летной профессией. И лучшим из лучших был, конечно, Громов.
О ходе перелета предполагалось сообщать ежедневно при помощи всех существовавших в те годы средств информации. Два «Юнкерса» везли в своих пассажирских кабинах многочисленных корреспондентов газет и журналов, кинооператоров. Интересно заметить, что в компании представителей прессы летел и будущий основатель телевизионного «Клуба кинопутешествий» – Шнейдеров.
Командиром перелета назначили сотрудника Управления военно-учебных заведений Военно-воздушных сил И. П. Шмидта. Этот человек не был ни летчиком, ни авиационным инженером. Он был великолепным оратором, замечательным пропагандистом. Именно эти его качества и определили выбор: во всех местах приземления участников перелета собирались многолюдные митинги и, как только замолкал мотор севшего последним самолета, воздух наполняла пламенная речь «Тахузы» («борода» по-японски). И. П. Шмидта прозвали так за его совершенно великолепную бороду, почти такую же, какая была у его знаменитого однофамильца Отто Юльевича Шмидта.
Перелет готовили тщательно. Вдоль будущего маршрута предусмотрели более 20 посадочных площадок. В Новосибирске, Иркутске и Улан-Баторе организовали ремонтные мастерские.
Сложность маршрута была чрезвычайно неравномерна. Если первая тысяча километров пути – от Москвы до Сарапула – обещала, прямо скажем, приятную воздушную прогулку по хорошо облетанной воздушной трассе, то дальше – над Зауральем, Монголией и Китаем – летчиков ожидала «воздушная целина». Поэтому от границы Советского Союза отправилась наземная группа специалистов, которые пешком, на автомобилях и даже на волах преодолели более полутора тысяч километров пути через пески Монголии, готовя все необходимое на случай преднамеренных и непреднамеренных посадок. Возглавил группу молодой инженер, выпускник Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского X. Н. Славороссов-Семененко. Это был один из первых русских авиаторов, удостоенный высшей боевой награды Франции – Военной медали, которую он получил из рук французского главнокомандующего в первую мировую войну. (Тяжело раненный в воздушном бою французский летчик был вынужден приземлиться на нейтральной полосе – между французскими и немецкими окопами. Славороссов-Семененко сел рядом, на руках перенес коллегу в свой самолет и взлетел на глазах опешивших от такой дерзости немцев.) И хотя наземная экспедиция Славороссова редко упоминается, даже в публикациях о перелете Москва – Пекин, ее участники совершили своим переходом по пустыне настоящий подвиг.
Москва. 10 июня 1925 года. Центральное здание аэродрома украшено огромным лозунгом: «Наш пилот, наш самолет, наш мотор – от Москвы до Китая через Улан-Батор». На трибуне члены Реввоенсовета республики С. С. Каменев, А. С. Бубнов, члены правления «Добролета», Авиахима. После завершения митинга Томашевский поднимает в воздух своего «Латышского стрелка». За ним уходят в полет остальные. Перелет начался.
До Казани долетели вполне удачно. Огромные массы народа стекаются к аэродрому. Всем хочется посмотреть на летчиков и их машины. Несмотря на полные оптимизма, зажигательные речи Шмидта, мнения публики расходятся: кто-то считает летчиков сумасшедшими, а кто-то героями.
Прежде чем приземлиться в Новосибирске, и Громов и Волковойнов совершили по одной вынужденной посадке, впрочем не повлиявших существенно на состояние самолетов и настроение летчиков. Первые сложности начались после отлета из Новосибирска. Внизу – сплошная тайга, сесть при отказе машины совершенно негде. Ориентироваться среди безбрежного зеленого массива вообще тяжело, а тут еще вдобавок – густой дым от пожаров в тайге. В результате Красноярска из шести самолетов достигли только четыре. Томашевского и Екатова нет.
Собрались уже начать поиски, но прилетел Екатов. Оказалось, что из-за незначительной поломки в системе охлаждения мотора он приземлился невдалеке от станции Тайга – это было последнее место, где еще можно было посадить самолет. Устранив неисправность, летчик добрался до Красноярска без приключений.
Томашевского же подвел механик, который уложил рядом с приборной доской железный бидон. И самолетный компас «отомстил» экипажу за эту промашку. Восстановить потерянную ориентировку командиру экипажа удалось лишь, как шутят летчики, «методом опроса местного населения» после посадки у одного из селений. Там, кстати, и убрали бидон подальше от компаса.
Появились первые признаки усталости летчиков. Иначе не объяснишь, почему, например, Екатов в Нижнеудинске, а затем Волковойнов в Иркутске посадили свои самолеты по ветру (самолеты, особенно тех лет, всегда сажали только против ветра). Такая посадка была столь же несуразна, как, скажем, если бы летчик сел в кабину машины задом наперед. Громов вспоминал, что, как он ни пытался выяснить причину такой посадки у летчиков, ни один из них ничего вразумительного сказать не мог.
Впереди отрезок пути Иркутск – Улан-Батор, перелет Байкала. Отвратительная погода. Вся шестерка в день вылета из Иркутска до Улан-Батора не добралась.
Оба Р-1, самые быстрые машины, полетели вдоль по руслу реки Селенги в горном ущелье, лавируя между скалами.
Иду в «молоке», наконец стало светлее, выхожу из облака в 30 метрах от горного массива, неприятно, сразу появляется мысль, не вернуться ли обратно, на аэродром? Метрах на 60 иду по реке. Горы с боков образуют форменный коридор, местами они так близко сходятся, что, кажется, можно их задеть крыльями, – вспоминал Волковойнов.
Летчикам удалось с трудом приземлиться на крохотном аэродроме в Верхнеудинске. Только на другой день они добрались до Улан-Батора. Там их ожидал не так давно прилетевший Томашевский. Остальных пока еще не было. Следующим достигли столицы Монголии «Юнкерсы». Долго не было Екатова, но к вечеру объявился и он: пережидая плохую погоду среди холмов у Байкала, успел даже побродить по тайге с ружьем.
Улан-Батор тех дней Громов описал так: В то время, в 1925 году, во всем городе, как мне помнится, стоял всего лишь один каменный двухэтажный дом. В нем местные власти столицы торжественно принимали нашу экспедицию. Один большой деревянный дом служил гостиницей. В ней мы и остановились. Остальной город представлял собой рассыпавшиеся маленькие деревянные домики вперемешку с юртами.
Следующий участок перелета пролегал над пустыней. Жара, 50-60 градусов в тени. Где-то в середине этапа Славороссов выискал участок с более или менее плотной почвой, на который можно посадить самолеты, и оставил там запас бочек с горючим, маслом и продовольствие. В 150 километрах от этого места сел и, зарывшись в песок, скапотировал (перевернулся вверх колесами) самолет Томашевского. От всякой помощи летчик отказался, сказав, что починит машину своими силами и догонит экспедицию. Это свое обещание он выполнил с блеском.
Наконец в унылом пространстве пустыни стали появляться сначала небольшие, а затем все более и более крупные зеленые оазисы. Машины подходили к Китаю. На первом китайском аэродроме Мяотан произошла первая серьезная беда. Поляков, сажая свой «Юнкерс», ударился колесами о земляной вал, заросший травой и потому незаметный с воздуха, и снес машине шасси. Самолет после этого удара требовал большого ремонта. А до Пекина оставалось всего 200 километров. Поломанную машину оставили в Мяотане, и в дальнейший путь стартовал уже один «Юнкерс».
Пекин очень торжественно встретил летчиков. На аэродроме огромное количество народа, море цветов и флажков. Прибыли высокопоставленные чины, вручившие летчикам китайские ордена. Советский посол сообщил, что ВЦИК принял решение наградить всех командиров экипажей орденами Красного Знамени и присвоить им почетное звание «Заслуженный летчик СССР».
Вскоре выяснилось, что посадкой в Пекине перелет еще не завершен: пока наши шесть самолетов совершали свое 33-дневное путешествие, им навстречу (из Японии через Мукден в Москву) летели японцы. В связи с этим советское правительство приняло решение об ответном визите и дало распоряжение Громову и Волковойнову продолжить полет из Пекина в Токио. Месяц ушел на смену моторов, которые, хотя и служили верой и правдой, но выработали свой ресурс.
Лететь в Японию предполагалось через Корею и Японское море. Громов с Волковойновым рассчитывали быть в Токио через три дня. 29 августа при ясной солнечной погоде взлетели. Первый участок пути – до Мукдена – длиной в 900 километров прошли плохо: Волковойнов в пути садился и на Мукденский аэродром прилетел на полдня позже Громова. Почти весь полет плохо работал новый мотор на машине Громова. К тому же летчиков очень угнетали непрекращающаяся жара и очень высокая влажность – внизу сплошные рисовые поля, залитые водой. Дышать трудно, не просыхает одежда. Ночью мучают москиты. Повозившись с моторами, поняли, что в Пекине не нашлось масла нужного качества. Занялись поисками, но безуспешно. Тогда послали механиков – Родзевича и Кузнецова – скупать в аптеках Мукдена касторовое масло. Касторкой (ста пятидесятью флаконами), и заправили моторы.
Очень сложным оказался перелет Японского моря. Мало того, что на самолеты обрушился тропический ливень, – японцы запретили лететь над определенными участками их территории, пригрозив зенитным огнем и перехватом дежурными истребителями. Вынужденные посадки на сухопутном самолете на воду сами по себе не сулили экипажам ничего радостного. Вдобавок летчики знали, что море в этих местах буквально кишит акулами.
В Хиросиму Громов прилетел один. Самолет же Волковойнова приземлился... в запретной зоне, чем вызвал ночное заседание кабинета министров Японии. Японцы решили самолет разобрать, доставить его в Хиросиму багажом, собрать и позволить лететь дальше. Естественно, летчиков такое решение не устраивало: они теряли, как минимум, дней шесть-семь. Поэтому Громов с Родзевичем улетели в Токио, а Волковойнов с Кузнецовым приехали туда поездом.
Михаил Михайлович вспоминал интересную подробность. Подлетая к столице Страны восходящего солнца, он вел машину на довольно большой высоте. Вдали показался красавец-вулкан Фудзияма. Экипаж любуется вулканом, а рядом летит японский самолет в качестве почетного эскорта. Посадка в Токио, короткая торжественная встреча, летчиков приглашают на чашку кофе и тут же демонстрируют им уже смонтированный кинофильм об их полете рядом с Фудзиямой, посадке, торжественной встрече. Гости были приятно обрадованы такой оперативностью.
По оценке Громова, перелет из Пекина в Токио был хотя и вдвое короче, чем из Москвы в Пекин, но опаснее и труднее во много раз.
Восемь дней летчики пользовались традиционным гостеприимством японцев. Экскурсии по самым любопытным и красивым местам столицы и ее пригородов, банкеты, встречи с интересными людьми, интервью и цветы, цветы, цветы...
Михаил Михайлович Громов, лучший советский летчик, прожил долгую и интересную жизнь. Вы познакомились только с одним, первым из его дальних перелетов. Мы выбрали именно этот перелет, как наименее известный массовому советскому читателю. Все последующие – по городам Европы на АНТ-3 «Пролетарий» и АНТ-9 «Крылья Советов», через Северный полюс в Америку на АНТ-25 – прогремели по всему миру. «Несть числа» испытательным полетам...
22 января 1985 года Михаила Михайловича не стало. Ему шел 86 год. Почти до последних дней своей жизни – только тяжелая болезнь смогла приковать его к постели – это был энергичный, увлеченный человек.
Старость отступает перед умом человека, когда он держит себя в боевой форме, когда он соблюдает режим, занимается строгим самоконтролем, презирает излишества. И не ради того, чтобы пожить подольше. Ради дела, – в этих словах весь Громов.
ДВА ОЧЕНЬ НАСТОЙЧИВЫХ АМЕРИКАНЦА
В один прекрасный день эскимосское население самой северной точки Аляски – мыса Барроу – было поражено невиданным зрелищем: из облаков вылетела большая ярко-оранжевая птица и, скользнув по снегу, остановилась невдалеке от стойбища. Первый самолет, севший на мысе Барроу, пилотировали двое американцев – капитан Г. Уилкинс и лейтенант К. Эйлсон. Эскимосов более всего удивило то обстоятельство, что столь большая птица летает без перьев.
Неприметный человек среднего роста, с сухой поджарой фигурой и седоватой щетинистой бородкой. Он был очень похож на доброго усталого учителя средней школы, обремененного заботами о своих нерадивых учениках. Его облик никак не вязался с нашим представлением о бесстрашном летчике, посвятившем всего себя открытиям неведомых земель – такой портрет Георга Герберта Уилкинса нарисовал видный полярник, штурман многих советских воздушных экспедиций, В. Аккуратов.
К описываемому времени Уилкинс был уже ветераном авиации. Воздушная карьера этого прекрасного летчика и неутомимого исследователя родом из Австралии началась давно, в 1910 году, но удача не торопилась его побаловать. В 1918 году в качестве фотографа он участвовал в большой полярной экспедиции канадцев, возглавляемой знаменитым Вильярмуром Стефансоном. В 1919 году Уилкинс включился в соревнования «Дерби века», но смог добраться лишь до острова Крит, где разбил вдребезги свою машину. Летчик решил приобрести дирижабль и пересечь на нем Ледовитый океан, но эта мечта тоже не была осуществлена. В 1921 году он примыкает к экспедиции в Антарктику. В общем, этому энергичному и любознательному человеку дома не сиделось.
С Карлом Бенджамином Эйлсоном – Братом Орла (так прозвали его аборигены Аляски) – Уилкинса познакомил друг и коллега по предыдущим путешествиям, В. Стефансон. Из-за очень высокого роста Эйлсон получил еще одно прозвище – Биг Бен (Бен уменьшительное от Бенджамин) по аналогии со знаменитым Биг Беном в Лондоне.
Летчики быстро сдружились, их объединяла любовь к северу и полярным полетам. Возникла идея лететь с Аляски на Шпицберген. Во времена описываемых событий Уилкинс жил в Детройте. Будучи человеком небогатым, он обратился к жителям этого города с просьбой оказать ему материальную помощь для организации полярной экспедиции. Более восьмидесяти тысяч людей приняли участие в сборе денег, и Уилкинс смог приобрести два самолета «Фоккер», которые и переправил пароходом на Аляску.
Затея летчиков была архисложной. Даже перелет из Фербенкса, куда доставили оба самолета, в Барроу – место будущего старта – был чрезвычайно тяжел, а Эйлсону трижды пришлось проделать его, чтобы перевезти все необходимое для будущей экспедиции. Особенно сложно было на пути из Фербенкса в Барроу преодолеть горный массив Эндикотт. Оба «Фоккера» не были приспособлены к полетам на больших высотах, к тому же высота гор, указанная на картах, не соответствовала истине – они были значительно выше.
Уилкинс вспоминал, что в одном из полетов машина попала в струю сбросового ветра. Самолет дико затрясло, и Уилкинса прижало к стенке кабины. В это время он заметил слева скалистый выступ горы, который стремительно приближался. Уилкинс приказал Эйлсону положить руль вправо. Но тот запротестовал, указав на другую гору, которая возвышалась справа. Времени сделать разворот уже не оставалось, и волей-неволей пришлось лететь вперед в надежде на то, что удастся проскочить между скалами. Даже при достаточном запасе высоты в такие узкие ворота мог бы проскочить очень спокойный и хладнокровный пилот. Эйлсон без колебаний шел прежним курсом. Он направил самолет прямо в просвет между горами и проскочил ущелье так, что с обеих сторон между крыльями и скалами оставалось совсем пустячное расстояние. Уилкинс посмотрел в окно кабины и увидел, что колеса машины вертятся, как во время взлета, только что оторвавшись от земли. Он не почувствовал и не увидел, в каком месте самолет коснулся снега, но был уверен, что колеса машины задели его.
Первые попытки перелета из Барроу на Шпицберген не увенчались успехом: оба самолета оказались разбитыми. Кое-как приведя в порядок технику, летчики решили еще раз, уже на следующий год, попытать счастья. Но и следующий год не принес удачи. Вынужденная посадка более чем в сотне миль от мыса Барроу, тринадцать суток пешего перехода в жесточайшую пургу, ампутация пальца отмороженной Эйлсоном руки, разбитый самолет – вот результат этого полета.
Обанкротившийся в полном смысле слова Уилкинс вернулся в Америку. Денег и самолетов не стало, надежды рухнули. Но летчик не сдается. Из двух разбитых «Фоккеров» он собирает один самолет и продает его. На вырученные деньги приобретает «Локхид Bery» с мотором «Райт Уирлвинд» и вновь отправляет его в Барроу.
Наконец, после третьей попытки, летчики достигают желанной цели, и в США летит телеграмма: После 20 часов 30 минут полета сели на Шпицбергене.
...Взлетели на перегруженной горючим машине 15 апреля 1926 года, разбежавшись по утоптанному за двое суток эскимосами коридору в снежной целине. Впереди 1300 миль полета над сплошными льдами. Погода великолепная, попутный ветер. Путешествие было для обоих летчиков приятнейшей воздушной прогулкой, пока мощная облачность не преградила дорогу машине. Позже набрав высоту, экипаж не смог избежать слепого полета. С наступлением полуночи отказал генератор питания радиостанции, и связь с самолетом пропала. По всем признакам он входил в полосу мощного шторма. Кончался бензин. По расчету самолет уже должен был идти над Шпицбергеном. Летчики, хотя и не слишком в этом уверенные, решают снижаться. Самолет вышел из облачности почти над самой водой. Долетев до побережья, Уилкинс и Эйлсон тут же посадили машину. Надвигающийся шторм становился слишком опасным: лютый ветер, видимость всего несколько метров. Слив масло в бидон и укутав его, летчики определили, что у них еще более шестидесяти литров горючего – этого вполне достаточно для перелета в Кингс-Бей или Грин-Харбор, места, где на Шпицбергене можно встретить живого человека. Но удастся ли взлететь? В этом безлюдном месте некому утаптывать взлетную полосу.
Пять дней и ночей просидел экипаж в маленькой кабине, пока бушевала сильнейшая пурга. Наконец все вокруг засияло от солнечного света. Настроение стало прекрасным, тем более что прямо перед самолетом заблестел расчищенный пятисуточным штормовым ветром лед. Запустили мотор, но, как ни старался Эйлсон, самолет с места не двигался – лыжи прочно примерзли ко льду. Уилкинс вылез из кабины и стал раскачивать машину. Самолет сдвинулся с места, Эйлсон дал полный газ, и вскоре «Локхид» легко перешел в набор высоты. Взглянув вниз, на место вынужденной посадки, Эйлсон увидел на снегу... Уилкинса. Позже Уилкинс описал этот эпизод так: Как только самолет двинулся, я уцепился за подножку и попытался забраться внутрь, но вывалился обратно. Эйлсон, у которого не было возможности оглянуться назад, подумал, конечно, что я уже в самолете и взлетел. Однако на первом же вираже он увидел, что я продолжаю одиноко стоять на снегу. Он тут же снова приземлился. И опять мы попытались взлетать. Но на этот раз, как только машина тронулась, я взобрался на ее хвост и с огромным трудом пополз по фюзеляжу, стараясь добраться до кабины. Перчатки я сбросил, чтобы было удобнее схватиться за трап. Вероятно, со стороны это выглядело очень глупо, но другой возможности удержаться у меня не было. Самолет скользил очень быстро, и Эйлсон, чувствуя, что мой вес уже не давит на хвост, подумал, что я в безопасности, и дал мотору полный газ. Но когда самолет уже почти отрывался от земли, я понял, что перспектива добраться до кабины, болтаясь в воздухе, слишком призрачна. Тогда я отдался власти ветра, и он стащил меня по фюзеляжу назад. Стукнувшись о хвостовое оперение, я полетел прямо в снег, который, к счастью, оказался в этом месте довольно мягким. Очистив глаза и рот от снега, я понял, что все обошлось благополучно, если не считать шатающихся зубов. И снова Эйлсон развернулся и сел.
Оба летчика понимали, что если и в третий раз Уилкинсу не удастся влезть в машину, садиться уже будет нельзя: не хватит горючего долететь до обжитых мест. Тогда останется один выход: сбросить Уилкинсу палатку и затем послать за ним собачью упряжку. К счастью, третья попытка увенчалась успехом, и вскоре лыжи самолета заскользили вблизи домиков и радиомачт Грин-Харбора.
Описанный полет не стал последней победой в летной жизни Уилкинса и Эйлсона. В следующем, 1927 году оба летчика решили слетать с мыса Барроу к так называемому полюсу недоступности – району Северного Ледовитого океана, о котором начали слагать легенды. На карте это место занимает довольно обширную площадь, центр которой лежит в точке с координатами 83°40 с. ш. и 175° з. д. Амундсен, пролетевший над этими местами в 1926 году на дирижабле «Норвегия», предостерегал: Не летайте вглубь этих ледяных пустынь. Мы не видели ни одного годного для спуска места в течение всего нашего полета до полюса и от него до 86° с. ш. вдоль меридиана мыса Барроу. Ни одного!
Год спустя после предупреждения Амундсена, 29 марта 1927 года, машина Уилкинса и Эйлсона покинула Барроу. Достигнув за пять часов полета 77°46 с. ш. и 175° з. д., летчики посадили свой моноплан на лед. Надо заметить, что посадка была не преднамеренной, а вынужденной: отказал мотор. Эйлсон занялся ремонтом, а Уилкинс стал долбить лед и фиксировать погодные условия. Он промерил эхолотом глубину океана в точке посадки – 5440 метров. Как оказалось позже, летчики совершенно случайно оказались в той точке Северного Ледовитого океана, где его глубина максимальна. (Самая большая глубина, измеренная за 30 лет до полета Уилкинса и Эйлсона во время долгого дрейфа Фритьофом Нансеном, достигала 3850 метров.)
Починив мотор, летчики пустились в обратный путь, на котором их ждали великие испытания. За 6 часов 40 минут на самолет и его экипаж обрушились все напасти, которых только можно было ожидать при полете в пургу с сильнейшими порывами встречного ветра, когда над бескрайними льдами сгущаются сумерки. Экипаж шел курсом на Аляску до полной выработки горючего. И вот мотор остановился. Летчики нырнули в неизвестность. Самолет «сел› в большой сугроб между торосами. После этой „посадки“ отремонтировать его было невозможно. Три дня Уилкинс и Эйлсон отсиживались в палатке: сильнейшая буря не позволяла в полном смысле слова высунуть из палатки нос. Но вот стихии утихомирились. Засияло солнце. Летчики определили свое местоположение – до материка, (точнее, мыса Бичи) около 150 километров. Только человек, побывавший во льдах Северного Ледовитого океана, может понять, что такое эти 150 километров! Многие полярные исследователи, попав в беду и не будучи еще обескровлены голодом, холодом, одиночеством и белым безмолвием, в полной силе духа и тела проходили за день не более 3-5 километров. Уилкинс и Эйлсон прошли эту ледяную голгофу за одиннадцать суток.
Бороды, обросшие сосульками, глаза, слезящиеся от порывов ветра и лихорадочно блестящие от голода (к концу пути делили крошки сухарей), – примерно так выглядели летчики, когда они, еле волоча ноги, но поддерживая друг друга, вышли к людям на мысе Бичи.
Отметим здесь, что полюс недоступности «обжили» несколько позже советские летчики и ученые. Летом 1939 года И. И. Черевичный на самолете СССР Н-169 со штурманом В. Аккуратовым, уже упоминавшимся выше, и бортмехаником Д. Шекуровым из бухты Тикси совершил полет до 79° с. ш. и 166° з. д. В июне 1940 года этот же экипаж достиг 84° с. ш. и 179° з. д. В марте 1941 года Н-169 с учеными на борту покинул Москву и через две недели прилетел на остров Врангеля. 2 апреля командир повел свою машину на север и через 6 часов 55 минут посадил ее на лед в точке с координатами 81°02 с. ш. и 180° долготы. Пять суток экипаж самолета занимался на льдине научными исследованиями. Глубина океана в точке посадки была 2647 метров. Второй полет и посадка в точке с координатами 78°26 с. ш. и 176°40 в. д. состоялись 13 апреля. Еще четверо суток наблюдений и изучения погоды, льдов и океана. Здесь глубина была значительно меньше – всего 1856 метров. И наконец, 22 апреля машина Черевичного опустилась в точке с координатами 80° с. ш. и 170° з. д., где была зафиксирована глубина океана 3431 метр.