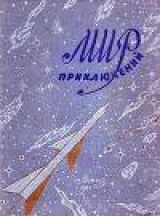
Текст книги "Мир приключений 1961 г. №6"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
Соавторы: Леонид Платов,Север Гансовский,Виктор Михайлов,Александр Ломм,Феликс Зигель,Бернар Эйвельманс,А. Поляков,Алексей Полещук,Б. Горлецкий
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
Дивно хорош Памир на рассвете! Но нам было не до красот. С губами, пересохшими и уже начавшими трескаться от жажды, измученные пронзительно ледяной бессонной ночью, ничего не евшие со вчерашнего утра, мы упорно поднимались все выше и выше в горы. Как всегда в горах, одна вершина, до которой, кажется, дойдешь из самых последних сил, а там ляжешь и не сделаешь дальше ни шагу, сменялась новой вершиной, потом и эта – следующей, и шагаешь, как автомат; тупо стучит кровь в висках, одеревеневшие ноги разъезжаются на скользком щебне, и нет конца пути…
Палаев шел медленно, через каждые двадцать-тридцать минут он должен был отдыхать. Приходилось останавливаться и нам.
Наконец, добравшись уже до границы снега, мы обнаружили небольшое озерко. Пробив корку льда, скрывавшую его от наших глаз, мы приникли к воде с такой жадностью, что, честное слово, только сводившая скулы температура ее спасла озерко от того, чтобы мы не выпили его до дна!
Отсюда после небольшого спуска снова в долину Джаргучака, но уже много выше нашего лагеря, мы начали крутой подъем на Заалайский хребет. Впереди и, как казалось, не столь уж далеко виднелся коротенький ледник, спускающийся по ущелью Джаргучака, а за ним – ровная площадка, заканчивающаяся небольшим подъемом. Таким нам представлялся перевал – наше избавление от басмачей, наша пусть кружная и трудная, но все же надежная дорога к Дараут-кургану, к частям Красной Армии, к Фергане!
Хотелось штурмовать хребет сразу, с ходу. Даже Палаев приободрился. Однако я не разрешил двигаться немедленно. Следовало отдохнуть и хоть чем-нибудь подкрепиться.
Нарвали горного щавеля; кроме эдельвейсов, это была единственная растительность здесь. Пожевали его. Барана пока резать не решались: а вдруг наступит время еще более трудное?
Наконец я подал команду:
– Вперед!
Мы находились на высоте пяти тысяч метров. Каждый шаг давал себя знать учащающимся сердцебиением. Сделаешь несколько шагов – и стоп, дышишь, как рыба, выброшенная на берег. А на леднике стало особенно трудно. Солнце, едва поднявшись на небе, сразу пробудило от ночной спячки тысячи мельчайших ручейков, склоны вершин заблестели, словно смазанные маслом, снег под ногами разрыхлился. Только и знай, что проваливаешься в снег – то по щиколотку, то по колено. И на всех – одни темные очки.
Люди с перевязанными глазами почти на ощупь шли за поводырем…
Когда утро перешло в день, стало еще хуже, в первую очередь из-за обвалов.
Ночью мороз сковывает все в горах так, что только снег трещит, но днем достаточно покатиться камешку или льдинке, как в своем неудержимом падении они увлекают тонны и десятки тонн подтаявшего снега, лавина ширится, разрастается, мимо несутся озверевшие глыбы сорванного с места льда, а то и обломки скал. Лавина грохочет артиллерийскими залпами, слышишь, как разламываются горы и рушится весь мир!
Только к полудню мы выбрались на то, что снизу представлялось ровной площадкой, – на большой снежный купол цирка, откуда стекали ледники: один – в ущелье Джаргучака, уже пройденный нами, а другой – в ущелье Сасык-теке. На него нам и предстояло спуститься. Но очень скоро мы убедились, что это не удастся. И тогда холод обнял наши сердца…
Весь цирк оказался изборожденным широкими и зиявшими, как пропасти, трещинами. Без должного горного снаряжения преодолеть их было невозможно. А кроме того, нам стало видно, что в направлении Сасык-теке цирк обрывался совершенно отвесно, стеною примерно пятисотметровой высоты. Разве с нее спустишься?… Тут нечего было даже говорить…
Но Палаеву показалось, что дело в ином, – в том, что он нас связывает, – и принялся уговаривать меня:
– Бросьте меня!.. Ну, прикажите бросить! Что всем из-за одного-то пропадать?
Я, наверное, поступил неправильно: начальник не должен выходить из себя. Но я вспылил – я обругал его так, что он замолк сразу, лишь буркнув:
– Молчу уже… Я ж старался, как вам легче, молодым. А старым что? Старым только доживать…
Мы повернули назад…
Печальное это было отступление – возвращаться было некуда. Никто не радовался, что под гору стало легче идти. Чем более мы приближались к оставленным вчера местам, тем тревожнее делалось на душе. Мы не были способны ни на какое сопротивление. Шорох катящихся камешков превращался в наших ушах в грозный грохот, свист летящего грифа – в свист возникающей лавины. И все же не трусость нами овладела. Трусость парализует тех, у кого есть силы к сопротивлению, а нас начало одолевать худшее: отчаяние. Ибо иссякли силы.
К счастью, когда мы спустились пониже, мы увидели, что лагерь пуст. Надолго ли, мы, конечно, не знали, но пока в нем не было никого.
Тогда мы спустились еще ниже. Нет, мы не ошиблись: лагерь был действительно безлюден. Я и Чуваев, оставив Мерщикова с полуживым Палаевым, поплелись туда.
Первое, что мы увидели, был труп Бориса Громилова. Не причинили басмачам вреда его динамитные патроны, как он надеялся, – они лежали рядом с Борисом. Он успел взорвать только один…
Пройдя в спальню мимо Раденко, нашли на койке Ивана Тремаскина. Его убили выстрелом из пистолета или винтовки.
На полу валялись раскиданные документы, в том числе мой бумажник. Отыскал я также свой пуховый свитер.
Продуктов почти не уцелело. Только с сахарным песком нам повезло. Басмачи вспороли два мешка его, да так и бросили: наверное, не хотели возиться с распоротыми. Мы с Ваней Чуваевым принялись пожирать сахар пригоршнями. Он хрустел на зубах, недоставало слюны, чтобы глотать его, но мы всё ели и ели его и не могли насытиться. А потом наполнили им карманы, и несколько мешочков для проб, валявшихся повсюду, и футляр из-под теодолита, – в общем, все, что могли.
Захватили также теплые вещи: нашли две шубы. Кроме того, нашли пару щепоток чая в жестяной чайнице и две раздавленных каблуком коробки спичек. Тем не менее их можно было зажигать. Теперь было уже не так безнадежно отсиживаться в горах. Единственное, что нас удручало по-прежнему, – отсутствие оружия. Но об оружии басмачи побеспокоились особенно: забрали из лагеря все.
Тяжело нагруженные, вернулись мы к Мерщикову и Палаеву. В этот день не двинулись никуда, тем более что, пока добрались до лагеря да пока вернулись обратно, стало смеркаться. И, поев сахару, мы уснули.
Как нам было тепло! (Правда, ступни, на которые шуб не хватало, мерзли по-прежнему.) Какое дивное ощущение сладости от съеденного сахара разлилось по жилам! (Правда, мы оставались голодными.)
И утром мы поднялись бодрыми и опять полными уверенности, что, несмотря ни на что, наши злоключения завершатся благополучно. Неистребим оптимизм человека: мелькни перед ним чуточная искорка надежды, и снова мир уже окрашен в светлые тона!
Поразмыслив и посовещавшись, мы решили искать выхода в новом направлении: к перевалу Кульдаван. Для этого нам надо было несколько спуститься по ущелью Джаргучака вниз, до впадения в него реки Терек, затем подняться по Тереку до верховьев, перейти там на другой берег и дальше выйти к перевалу Кульдаван, за которым дорога в Алайскую долину, а там уже и мирные кишлаки и какие-нибудь отряды пограничников или Красной Армии.
Самая большая опасность, мы полагали, грозит нам только вблизи. Но то, что басмачи разграбили наш лагерь почти дочиста и бросили его на произвол судьбы (во всяком случае, на какое-то время), вселяло в нас надежду, что они не очень следят и за дорогами к нему, а поэтому нам удастся проскочить по долине Джаргучака незамеченными.
Если бы люди способны были провидеть будущее! Хоть на ничтожный срок! Мы рвались с места, как стрелы с тетивы: к Саук-саю, к Кульдавану – любым, самым отчаянным путем – лишь бы скорее уйти из долины Джаргучака! Мы упорно, как маньяки, сами лезли смерти в пасть. Сиди бы мы по-прежнему в штольне или где-нибудь близ нее пусть со скудным, но все-таки запасцем сахара и барашком, мы смогли бы продержаться недели две. Басмачи же, как я узнал потом, держали Джаргучак под своим наблюдением только три дня: это же налетчики и трусы – разграбят что могут, к дёру! Я должен был сообразить это… Почему я не удержал Чуваева, Мерщикова и Палаева от того, чтобы непременно и немедленно тыкаться во все концы из Джаргучака? Может быть, они послушались бы меня – я все же был начальником… Но я и сам разделял их мнение. Я тоже находил, что первейший наш долг – вырваться к своим, сообщить, что произошло в Джаргучаке. И потому, как ни тяжко мне теперь, единственному уцелевшему из всех моих товарищей, но я обязан рассказать до конца, как расстреляли нас всех.
Нам действительно удалось, не столкнувшись ни с кем, проскочить по ущелью Джаргучака до Терека, затем по Тереку до верховьев, и, наконец, выйти к Кульдавану. Обычно подъем на Кульдаван занимает на лошадях четыре-пять часов. Мы преодолели его за два с половиной часа!
Дальше события развивались так. Опасаясь встречи с басмачами, мы проделали последнюю часть пути ночью, – достаточно было и лунного света, чтобы не сбиться с тропы, – и вышли на Кульдаван к рассвету. Теперь Алайская долина – венец, как говорится, наших мечтаний – была уже рядом. Только широкий пологий перевал Терс-агар да двадцать пять километров тропы в горах отделяли нас от долины.
Вот на этой тропе и наступила развязка.
Мы правильно решили: чтобы максимально уменьшить шансы на встречу с басмачами, переваливать и Терс-агар ночью. Это нам удалось. После него мы устроили дневку. На всякий случай хорошо замаскировались среди крупных камней – хоть Терс-агар мы и перевалили, но из гор в долину все же не вышли. Мало ли что может приключиться в калкане гор!
Место, которое мы выбрали, обладало всем, что нам требовалось: оно отличалось укромностью; рядом протекал ручей с бесподобно вкусной водой; для нашего барашка (он все еще брел с нами) было в изобилии травы вокруг.
Мы вымыли в ручье одеревеневшие, затекшие ноги, выстирали носки. Палаев после этого даже спать лег.
Солнце поднималось все выше. Давно высохли носки. Мы сторожко и без перерыва вели наблюдение за лежащей перед нами долиной. Все дышало покоем. Темно-зеленые альпийские луга с изредка белеющими на них красавцами эдельвейсами замлели в жаре. Ни ветерка, ни облачка. И совершенное безлюдье.
Оно-то нас и предало. Мы доверились ему и переменили решение: отдохнув, двинулись дальше, не дожидаясь ночи. Уж больно не терпелось вырваться из лап басмачей и выйти из гор на простор Алайской долины!
Шли спокойно: впереди я, за мной в двух-трех шагах Чуваев, за ним на таком же расстоянии Мерщиков, а замыкающим, отставая порою метров на двести, Палаев с барашком на ремне. Впрочем, барашек иногда приходил в игривое настроение – дорога ровная, травы вдоволь, – и тогда не Палаев тащил его за собой, а, наоборот, он заставлял Палаева шагать резвей.
Ничто не предвещало близкой развязки. Но тут-то она и наступила.
Как раз когда барашек подтянул Палаева почти вплотную к нам, Мерщиков вдруг, не повышая голоса, произнес:
– Басмачи!
Нас окружала такая тишь, что мы все услышали его. А он показывал глазами, где.
Да, сомневаться было не в чем. Впереди, на гребне небольшой возвышенности, куда полого вела тропа, по которой мы шли, торчали нацеленные в нас дула нескольких десятков винтовок…
Инстинктивно обернулись назад. Но и туда путь оказался отрезан. Слева, с расстояния метров пятидесяти, к нам во фланг заходила группа вооруженных бандитов. Их было восьмеро – ровно вдвое больше нашего.
Несмотря ни на что, захотелось броситься врукопашную – уж если отдавать жизнь, так не задаром! Но тут же эта мысль и погасла (во всяком случае, у меня): не бросаться же с голыми руками на десятки вооруженных! Я вспомнил судьбу геологической партии Юдина, которая не сопротивлялась, попав в окружение, – только один отстреливался. Его и убили. А остальных, правда ограбив н продержав некоторое время в плену, отпустили на все четыре стороны: Даже Юдина.
И я принял на себя ответственность за всех. Я сказал:
– Попробуем дипломатничать, – и пошел навстречу бандитам.
Я пишу, ничего не скрывая и ничего не приукрашивая. Если кто-нибудь захочет бросить мне: «Трус!» – я не побоюсь выслушать это обвинение и не опущу глаз. Ибо, поверьте, мысль о том, не было ли мое решение трусостью, сверлила меня самого куда чаще, чем кого бы то ни было еще. Ведь, хотя их уже нет в живых – Чуваева, Мерщикова, Палаева, – но для меня-то они всегда живы, я – то их никогда не перестану видеть перед собой и всегда готов держать перед ними ответ, когда бы они ни вздумали спросить меня: а правильно ли было мое решение, обрекшее их на смерть?
Вот они вновь перед моими глазами в самые последние минуты своей жизни: Ваня Чуваев, сжимающий кулаки и готовый, как стоит, кинуться на первого приближающегося к нам бандита (тем более, что это Джармат!); растерянный, жалкий Палаев; Мерщиков, чью уверенную поддержку в принятом мною решении я ощущаю всеми фибрами души и кому благодарен за это так, что и передать не могу. Он один отвечает на мою фразу «попробуем дипломатничать». Говорит мне: «Правильно, Николай Георгиевич!» – и шагает вторым вслед за мной по направлению к басмачам на гребне.
Тогда басмачи там подымаются во весь рост, и главный из них машет нам рукой: быстрее, мол. Да и те, что с фланга, подгоняют нас прикладами.
Но отказывают ноги. Я впервые ощущаю, с какою тяжестью давит на них туловище. Ступни цепляются за каждый камень.
А главарь продолжает махать рукой. Он в новой, блестящей на солнце кожаной тужурке, в синих брюках галифе, в знакомой вышитой русской рубашке. Да это ж чуваевская! Я узнаю и самого главаря: «мой» Худай-Назар!
Он насмешливо улыбается:
– Узнал? – говорит. – Хорошо! Я давно хотел побеседовать с тобой, как мне нравится! – Худай-Назар говорит по-русски почти без акцента, и запас слов у него богатый. – Подходи поближе, подходи, не бойся.
– Здравствуй, Худай-Назар, – отвечаю я. – Давай поговорим. Пожалуйста. Я не боюсь.
Но едва я заканчиваю фразу, как он наотмашь ударяет меня рукояткой пистолета по голове и стреляет в грудь. Уже падая, слышу, как он орет:
– Не боишься меня, сволочь? Врешь! Я вас, красных, заставлю бояться Худай-Назара!
Сознания я не потерял. Я слышал, как одновременно раздались и другие выстрелы. Ими свалили Мерщикова и Чуваева.
Через несколько минут (или секунд, не знаю) что-то несвязное забормотал Чуваев. Раздалось два новых выстрела: один в него, а другой мне в спину. Я лежал лицом в землю, кто стрелял в нас, не видел. Но сознания я не потерял и после этого. Оно работало как никогда остро. Я сказал себе: «Замри!»
И, хотя боль была чудовищной, я вытянулся и застыл, как мертвый.
А Чуваев, наверное, был без сознания. Он снова забормотал. Вслед за этим я услышал звук тяжкого удара, и бормотание прекратилось. Я понял: Ваня Чуваев погиб…
Вот, собственно, и все. Я пролежал на месте нашего расстрела часа три, пока басмачи не ушли. За это время они сняли с трупов (в том числе и с меня) все, что представилось им ценным. Когда они с меня стаскивали правый ботинок, то хоть предварительно расшнуровали его как полагается, а когда взялись за левый, то расшнуровали еле-еле, и он не пошел. Меня проволочили по камням, как куклу, шага четыре. Голова билась о камни; не сумею передать, какая боль жгла раненую спину… Я заставлял думать себя только об одном: «Не смей терять сознание! Не смей терять сознание!» Как я выдержал это испытание – не знаю. Но я обманул их: незаметно выпрямил ступню, и ботинок, наконец, слетел.
Сознание я все же терял. До сих пор, правда, не могу сообразить, когда. Но то, что я терял его, факт, потому что, кроме раны в грудь и в спину, я впоследствии обнаружил на себе еще две раны: вторую в спину, пробившую легкое, и в голову, чуть ниже виска. Этот выстрел раздробил мне нёбо и выбил два зуба.
Оттого, что я не запомнил, когда мне нанесли третью и четвертую раны, мне было не легче. Особенно мучительным оказалось ранение в голову. В рот с нёба все время натекала кровь, и надо было отхаркивать ее, а я не решался это сделать: басмачи увидали бы. Только часа через три я отхаркнул кровь: после того как басмачи наконец ушли. Я узнал это по тому, что услышал удаляющийся топот копыт: ведь, лежа лицом в землю, я только по слуху мог догадываться, что творится вокруг. Но еще час примерно и после топота я пролежал без движения: а вдруг не все ускакали? Ведь были среди них и пешие.
Когда я перевернулся с живота на бок, то снова потерял сознание. Не от боли, нет, – от зрелища того, во что превращены Мерщиков, Палаев и, в особенности, Ваня Чуваев…
Окончательно очнулся я от боли, которой жгло раны. Лучи солнца, поднявшегося в зенит, падали прямо на меня. А кроме того, кто-то или что-то дотронулось до моей шеи чем-то холодным и, как почудилось, мокрым.
Тут я решил: все… И чуточку, перед неизбежным концом, раздвинул веки…
Смотрю и глазам не верю: значит, я уже действительно труп – неведомо откуда взявшаяся собака лижет с меня кровь…
Я зарычал. Собака, испугавшись, отбежала к трупу Мерщикова и оскалилась. Я заставил себя встать (я вставал постепенно. Сначала на четвереньки, затем на колени и лишь после этого кое-как выпрямился). Собака отбежала еще дальше. Я замахнулся на нее, дошел до трупа Мерщикова и как мог забросал его камнями. После – Чуваева, последним – Палаева.
Не меньше часу потратил я на эту единственную почесть, которую был в состоянии отдать товарищам…
Все последующие три дня я беспрерывно старался двигаться по направлению к Алайской долине. (При выходе на нее меня в конце концов и подобрали.) И все эти три дня сознание попеременно то покидало, то вновь возвращалось ко мне. Помню, когда засыпал камнями Чуваева, увидел валявшийся почему-то около него (наверное, ветер отнес) мой листок: памятку-план на 9 июля (басмачи выворотили из наших карманов все до единого документа и бумаги). В плане был зачеркнут как выполненный только первый пункт: «Проверить доставку воды в штольню». Невольно пришло в голову: как давно все это было!
Помню, как, уже уйдя от проклятой полянки и добредши до ручья, повалился в него, чтобы утолить нестерпимую жажду, и увидел в воде свое отражение…
Помню, как мучительно было пить. Лежа ничего не получилось: простреленное нёбо не давало воде идти в горле, вода выливалась обратно через нос. Тогда я сел, подтащив под себя ноги, и принялся черпать воду ладонью, вливая ее в рот. Крохотные глотки попадали в горло…
Помню, как провел первую ночь после расстрела, привалившись к какому-то камню. Ночью принялся моросить дождь, вперемежку с ним падал липкий снег, а я не имел сил даже подняться. Как я не окоченел тогда?
Помню, как видел: метрах в трехстах-четырехстах от меня проскакало десятка два-три всадников, предводительствуемых кем-то на снежно-белом коне. Я спрятался меж камней, уверенный, что это басмачи. Теперь я знаю: это был взвод Пастухова. Случайно попавшийся на пути взвода киргиз на белой лошади вел его к месту нашей казни. А я уже ушел оттуда…
В общем, многое что вспоминается. Наверное, можно было целую повесть написать. Но сколько ни тратить бумаги, а смысл один: уничтожили басмачи нашу группу всю. Один я от нее остался, начальник… Уж лучше бы любой из товарищей выжил, а не я, – честное слово, говорю это от всего сердца!
На этом записи Н.Г.Сумина заканчивались. Как мы встретили его, читателю уже известно. Мне остается добавить к рассказу Н. Г. Сумина очень немного. Тот юноша киргиз, который прискакал к нам и сообщил, что они нашли на берегу Казыл-су русского, зовущегося Николаем (и, если вы помните, мы никак не могли понять, кто это «они»), оказался одним из работников Уч-курганского райисполкома. По поручению исполкома они, группой в пять человек, объезжали Алайскую долину, чтобы помочь местным Советам в кишлаках, и случайно наткнулись на Сумина. Хотя он три дня, будучи тяжко изранен, ничего не ел, он все еще упорно, в состоянии, близком к полузабытью, шел куда-то вперед. Товарищи доставили его к нам на следующий день после встречи: первым делом они привезли его в Дараут-курган, напоили сладКйм чаем с ложечки; какая-то женщина сварила ему жидкую рисовую кашу, чтоб ему легче было глотать. Теплой водой отмочили присохшие к ранам белье и одежду и раствором борной кислоты – единственного подходящего средства, нашедшегося в Дараут-кургане, – обмыли его раны, а потом как сумели перевязали их чистой материей.
Весь кишлак собрался у кибитки, где его оставили спать до утра на заботливо разостланных ватных одеялах.
На следующий день Сумин был уже с нами. Разыскивать остальных участников его партии больше не приходилось…
Так трагически закончилась памирская экспедиция 1930 года. Банды басмачей удалось полностью ликвидировать только больше чем через месяц. Между прочим, были изловлены Худай-Назар и Джармат. Их расстреляли в Оше.
В ущелье Джаргучака каждый проезжающий может увидеть теперь братскую могилу скромных советских тружеников – Николая Васильевича Раденко, Бориса Громилова, Ивана Тремаскина, а на тропе, ведущей с Терс-агара в Алайскую долину, – братскую могилу Мерщикова, Чуваева и Палаева. Не раз приходилось мне вновь бывать в тех местах, не раз обнажал я голову перед этими могилами…
Литературная обработка
Руд. Бершадского.









