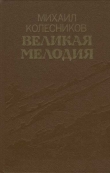Текст книги "Над Кубанью. Книга первая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Харистов заплакал, вытер обратной стороной кисти глаза и замолк. Не требовали дети продолжения рассказа, ходили слухи по станице, что застрелил тогда Василий Харистов родного отца, по глупому случаю.
Уходя домой, Миша бережно нес красный башлык, подаренный ему Харистовым.
ГЛАВА XVI
Ранней зорькой отец разбудил Мишу. В заполье оставалась неубранной рисовая кукуруза, надо было ее свезти домой. Миша неохотно просыпался – в коридоре холодно. Он с удовольствием снова натянул бы любимое одеяльце, сделанное из цветных ситцевых лоскутиков.
– Батя, я еще трошки позорюю, – просил он, пытаясь не разлеплять веки, чтобы не расстаться с блаженством сна.
– Надо ехать, Миша. Я уже коней запряг, рядно положил. Сегодня два конца сделаешь и тогда отоспишься. Миша спустил ноги с кровати, почувствовал прохладный пол, по телу побежала гусиная зыбка. Он потер плечи, поежился, и быстро принялся одеваться.
Мажара и рядно были неприветливо мокры, на железе барков и люшней осела маленькая капель. Миша надергал соломы, бросил на передок, взял вожжи.
– Ну, батя, тронули? – оглядываясь и подрагивая спросил Миша.
Он видел кудлатую голову отца, который, нагнувшись, привязывал к мажаре веревку. Судя по тому, что отец был без шапки, в одной рубахе и уж очень внимательно собирал его в поле, Миша догадался: отец остается.
– Ты чи дома? – спросил Миша.
– Поняй сам, сынок, – виноватым голосом попросил отец, – я еще после вчерашнего думаю поправиться. Голову разламывает…
Лицо отца было помято, глаза мутные, припухшие. В таком состоянии толк от него невелик. Миша тронул. Кукла рванула, заломив Черву.
– А Купырика? – спросил Миша отца.
– Видать, сегодня кум домой тронется, думаю подпречь. За Богатуном дождь ночью лил, боюсь, кум на своих из Гунибовской балки не выдерется.
– Порожняком же он! – недоверчиво глядя на отца, сказал Миша.
– Как порожняком? Кум четвертей пять зерна наменял, оно в амбаре в клетке сложено, ты не заметил.
За воротами Миша придержал коней.
– Батя, цибарки нема! – крикнул он.
Семен трусцой принес ведро – подцепил под мажарой на витой крюк.
– Поняй, – он махнул рукою. – Ванька Хомутов будет на заполье. Вчера обещал пособить кукурузу обломать, вы ее – живо. А я, может, управлюсь до пасеки добежать, слух был, что у Писаренковых гнилец…
Миша знал, что никуда отец не поедет и насчет гнильца, этой страшной пчелиной болезни, выдумано. Мальчику стало жаль отца, который оказался вынужден говорить неправду. Вспомнил, как обычно усердно работал отец, не жалуясь на утомление. Даже теперь, в ко-роткий осенний роздых, он успел уже съездить в горы, привезти груш и кислиц для взвара, дубовой клепки для кадушек. Миша обернулся, но отца уже Давно не было видно.
Мальчик посвистел отставшему жеребенку, намотал на кулак вожжи и прикорнул у шилевки. Кони скоро бежали по Камалинскому шляху, пустая мажара дребезжала, тело подрагивало. Начинался прозрачный день, на вымытых стрелках брицы и овсюга сочно поблескивала роса. Мажара оставляла явственный след, сдирая шинами увлажненную пленку пыли.
Лука Батурин, пригласив генерала на обед, сам сбился с ног и замотал всю семью и работников. Ему все казалось, что званый стол не придется по вкусу знатному родственнику, а все стремления Луки сводились к тому, чтобы не ударить лицом в грязь, чтобы прием был не хуже, чем у Велигуры. Старик пригласил Шестерманку и сам ощупывал румяные пироги и подкидывал их в ладонях, дуя на них и обжигаясь. Он всячески охаживал грубоватую стряпуху и пообещал набрать ситцу на юбку и купить камвольный полушалок. Акулина Самойловна не очень доверяла посулам скуповатого хозяина, а из кухни бесцеремонно выгоняла.
Лука уже в третий раз съездил в потребилку, купил только что привезенной керченской селедки и, сопровождаемый председателем правления, братом Велигуры, обходил лавку, присматриваясь к полкам – не забыл ли чего. В бакалейном отделе его внимание привлекли хрустальные подставки для ножей и вилок. Он взял одну из них, обтер пыль о штанину и покрутил диковинку.
– Что это, Мартын Леонтьевич, – спросил он, – чи люстровое убранство?
– Да, – встрепенулся Мартын Леонтьевич, – это для генеральского приема необходимый предмет, без него никакая лапша не вывезет, пусть даже в гусином потрохе ложка торчком стоит…
– Так что же это такое? – заинтересовался Лука.
– Для вилки и ножа подставка. Чистый хрусталь. О правую генеральскую руку, Митрич, клади.
Батурин, прихватив еще коробку фитильков для лампадки, укатил, довольный неожиданной покупкой. Дома самолично распределил подставки у приборов генерала и офицеров. Перфиловна заметила новшество.
– Что это притащил, Митрич? – спросила она, разглядывая подслеповатыми глазами хитрую штуковину.
– Сосать. Сиди весь вечер и соси, – сердито буркнул Лука.
Увидев, что старуха поднесла подставку ко рту и уже лизнула ее, выхватил.
– Что ты слюнявишь, необразованная! – рассердился он. – После твоего рота еще сблюет его превосходительство.
Обтерев подставку полой бешмета, поставил на стол.
– Шут его знает, что придумал, – сетовала Перфиловна, – не мог простого барбарису в лавке купить. Ишь каких леденцов фигуристых нахватал. Небось, черт дурной, полмешка муки отвез за такой конфет, а вкусу нема никакого, вроде стеклянки…
Гурдай прибыл на трех тачанках. Лучшие казаки-почтари сидели на козлах. Генерала сопровождали два помощника атамана, адъютант, военный писарь и человек семь верхового конвоя. Заметив атаманский поезд, ко двору Батуриных начали сбегаться люди, и двор вскоре наполнился шумом и говором. Кучера отстегнули постромки и задали жеребцам сена. Конвойцы также наволокли сена для своих лошадей, отпустили подпруги и, заметив перебегавшую двор Любку, покричали ей какие-то охальные слова. Любка торопилась из погреба, держа обеими руками чашку с квашеной капустой и поверх ее макитрочку с моченой антоновкой. Огрызнув-шись на казаков, она скрылась в дверях.
Гурдай сидел в углу под образами, у стола, заставленного всякой всячиной. Возле него расположились помощники атамана, потом адъютант, сам хозяин, приглашенные старики, Павло. После, поклонившись у порога, подошел Семен Карагодин, и из сеней выглядывали Махмуд и Мефодий. Перед гостями стояли граненые стаканы, а генералу Лука презентовал и высокий бокал, выпрошенный у жены форштадтского лавочника. Под столом Лука поместил шесть четвертей с водкой и во избежание несчастного случая обхватил их ногами. Сознание того, что водка имеется в должном количестве, наполняло радостью сердце старика, и слабый звон бутылей уравновешивал его волнение и радость.
Генерал посетил дом Луки впервые. Давно отвыкший от тяжелой казачьей еды, он с внутренним содроганием оглядывал горы снеди. Он отлично знал, что это не все, что за поросятиной, гусями, жареной курятиной и индюшатиной последуют пироги с разной начинкой, потом лапша с потрохами, борщ с говядиной, лапша молочная и тому подобные кушанья, обязательные как на званых обедах, так и на свадьбах и поминках.
Гурдай предполагал встретить здесь фронтовиков и побеседовать с ними по душам за стаканом водки, выпытав их мысли и предположения, но Лука пригласил к генеральскому столу только степенных стариков побогаче, в добрых намерениях которых атаман отдела нисколько не сомневался.
– Молодых не вижу казаков, Лука Дмитриевич, – обратился он к хозяину, – или считаешь зазорным с молодежью хлеб-соль водить?
Луку вопрос застал врасплох. Пытаясь по привычке вытянуться во фронт, он запутался ногами, чуть не повалив четвертей. Генерал понял замешательство хозяина и сделал снисходительный жест – «сидите».
Лука умостился на скамье, как вспугнутая квочка умиротворенно умащивается в гнезде.
– Нема молодых казаков, война же, ваше прево… – он запнулся, зная, что положение запрещает величать по званию родственника, принимаемого в доме: – Никита Севастьянович. Да вот, Павло мой, молодой фронтовик…
Павло угрюмо полез к чашке с гусятиной. Поперекидав куски во все стороны, он выбрал гузку, внимательно ее оглядел, густо посолил и принялся есть.
– Далеко уж очень сидишь, Павел Лукич, – вытирая рушником губы и усы, оказал генерал, – подойди-ка, присаживайся поближе.
«Ну, иди, иди же, иди», – моргал отец.
Павло встал, избочась подошел к генералу, грубовато подвинув плечом помощника атамана, присел.
– Что ж на сходку не заявился, или не хочешь родниться? – спросил Гурдай, ощупывая соседа взглядом. Ему не хотелось сердиться, но нелюдимость Павла и его явное недружелюбие раздражали.
– Что-сь нездоровилось, Никита Севастьянович, – сказал Павло, – раненый я. Все у животе мутит, прямо беда. Видал я, как вы прибыли с отдела. Отец линейку запрягал, звал. Думаю, пойду после пеши, как получшает, ан еще сильнее рана закрутила. – Павло говорил медленно, уверенно. Твердый рот еле шевелился, и сероголубые глаза глядели мимо генерала не то в окно, не то на низко подвешенного из-за недостатка места святителя Сергия Радонежского.
– Жаль, жаль, Павел Лукич, тебе как фронтовому казаку невредно было бы посещать станичные собрания. Дыхание надо знать, дыхание народа, – вразумительно говорил генерал, наклонившись к Павлу.
Павло отодвинулся.
– Да чего ходить? Вот и не был на сборе, а все узнал.
– От кого это? От отца?
– Отец иавдак там был, – ухмыльнулся Павло, – батя все по николаевской, по красноголоше охотничал. Пересказал мне все, что на сборе было, казак один, тоже фронтовик, как и я, еще пожеще меня раненный. Два раза раненный, Никита Севастьянович.
– Герой, значит?
– Герой, – подтвердил Павло, врезываясь тяжелым взглядом в генерала, – в грудь раненный и в спину, пониже копчика. На фронте ранение получил, прибыл вроде как защитник, а тут его в кнуты взяли.
Гурдай быстро замигал веками. На щеки вышли кирпичные пятна. Он быстро воспламенялся, в особенности когда ему противоречили.
– Телесные наказания по постановлению старших станицы – благородные традиции казачества, – сдерживаясь, сказал он. – Обычно бывают виновны наказываемые, а не наказывающие, – генерал пригубил рюмку и отставил ее далеко от себя, – заниматься де-магогическими речами, безусловно, легче, нежели воевать.
– Да, это вы верно сказали, – подтвердил Павло, играя желваками, – воевать – кисло.
– Ты-то когда в полк явишься? – неожиданно спросил генерал.
Павло поднял глаза, и в незаметном подергивании век генерал определил скрытое, еле сдерживаемое волнение, а в уголках губ усмешку.
– Каждый день в околодок ходю на перевязку. Пузо черное, чугун. Но, не глядя на это, ушел бы в полк, да вот коня негу. А в пластуны неохота идти. На пузе лазить казаку несподручно, у него пупок, как у цыгана, наружу.
Семен Карагодин отвернулся, чтоб не прыснуть.
– Я тебе, Павел Лукич, пришлю строевого коня, – неожиданно предложил генерал, – хорошего коня пришлю, из отдела.
Лука кинулся к нему, пораженный столь неожиданной милостью. Вопрос с конем был для Луки острее ножа, вот почему он снисходительно относился к отлыниванию сына от явки. Дать деньги на лошадь! Да эго для Луки острее ножа! Но шут с ними, с событиями, а вот если в такой заварухе пропадет добрый конь… Нет, нет, не таков был Лука, чтобы разбрасываться своими кровными «грошами». Обещанье генерала приходилось кстати. Охмелевший Лука склонился к руке родственника, пытаясь ее поцеловать.
Гурдай принял руку, покрутил усы.
– Пора, – обратился он к адъютанту.
– Сейчас будет готово.
Самойленко быстро вскочил, у порога споткнулся о половик, зло откинул его носком и, пригнувшись, исчез в дверях.
Гурдай поднялся, застегнул бешмет.
– Спасибо за хлеб-соль, за привет, за ласку, – сказал он, обернулся к святому углу, перекрестился, то же за ним повторили и другие. Отряхнув крошки хлеба с черкески, генерал тяжело вылез из-за стола, пожал руку хозяину и хозяйке.
– Коня пришлю, – еще раз пообещал он.
– Спасибо, спасибочко, вот уважили, Никита Севастьянович, – лепетал растроганный старик, – еще бы посидели, попировали…
– Деньги привози, Лука Дмитриевич, – осторожно напомнил гость, – на три тысячи акций тебе приготовил, у Карташева получишь.
Хозяин замигал глазами, точно его сразу швырнули с радужных небес на грязную землю.
– Не многовато ли, Никита Севастьянович, а? – пробовал он защищаться. – На двух бы помирились.
– Чудак ты, Лука Дмитриевич, – генерал наклонился к нему, – для тебя ж стараюсь. Сейчас ты хлебороб, а с приобретением акций станешь фабрикантом, сахарозаводчиком – по слогам произнес генерал. В этом слове, так смачно выговоренном, для Луки сразу засияла каждая буква. Он вновь вознесся на небо, сразу представив себя кем-то вроде бога Саваофа, возлежащего на пухлых облаках в довольстве и неге.
– Спасибо… Век помнить буду, – благодарил он.
– Эх, и зря вы, Никита Севастьянович, какого-сь Лаврентия Корнилова нам в государи рекомендовали. Свой же у нас государь батюшка, вы, Никита Севастьянович. Важности, фигуры – почище, чем у трех Миколок.
– Ну, ну, заговариваешься, Лука Дмитриевич. Какие же из нас дари?
– Казаков подниму за тебя. Ленты вышьем!
Генерал сердито глянул на разошедшегося старика. Лука сразу осекся. Жена дернула его за полу.
– Мигрич, еще заарестуют…
Во дворе генерала окружили казаки, казачки, дети. Он никак не мог протолкнуться к тачанке. Ямщики, приложившись, вероятно, не к одной чарке, торопливо пристегивали к валькам постромки, делая это по-пьяному от души, но неловко.
Генерал всегда оживал в окружении народа, приходя в горделивое сознание своего превосходства и величия.
– Ну, как?. – спросил он на ходу, не вкладывая в этот вопрос никакого смысла и не требуя ответа.
Каково же было его удивление, когда, чуть не наступив ему на ноги, протиснулся вперед неказистый казак. Это был Мефодий Друшляк.
– Будут, ваше превосходительство, земли прирезать горным казакам? – спросил он.
Задав вопрос, Мефодий испугался, заметив грозу на лице генерала.
– Почему вас интересуют горные казачьи станицы? Станица Жилейская расположена на плоскости и землями, удобными для земледелия, вполне обеспечена.
– Мы к куму, к Семену Карагодину, – невнятно забормотал Мефодий, – мы не жилейцы… путешественники… лесовозы-грушевозы с Майкопщины.
Рессоры колыхнулись. Генерал сел на тачанку.
– Данный вопрос рекомендую задавать своему отдельному атаману, – резко отчеканил он, оправляя завернувшийся конец ковра, – я не правомочен решать дела не моей компетенции. Пошли!
Кучер тряхнул вожжами, гикнул, и тачанка вылетела с батуринского двора. Мефодий ущипнул Махмуда.
– Видать, самим придется, Махмуд, решать. С их редкий толк.
Лука отозвал в сторону Карагодина.
– Тебя звал одного, а ты за собой двоих приволок, – напустился он. – Земли захотели? Мордовороты! Тут до нас Никита Севастьянович всей душой, по-родственному, а мы к нему всей спиной… дражним его… мало ему без нас… беспокойства… Коня подарил… – Увидел Павла, прикуривающего цигарку – А вот еще мой сынок, дышло ему по спиняке. Генерал к нему и так и сяк, а он бирюком глядит. Возьмет Никита Севастьянович и поставит крест на коне. Где я ему, чертову неудахе, строевика подберу? Разорить хочет. Во двор ничего, а все со двора норовит, да еще меня попрекает.
Лука достал с погребицы грабли с деревянными зубьями и деятельно принялся подскребать сено, раскиданное и затоптанное конвойцами. Тут уже от Луки досталось и конвойцам и кучерам, и, вероятно, долго еще икалось им, не так от выпивки и доброго харча гостеприимного хозяина, как от его ругательных посулов.
ГЛАВА XVII
Все больший разлад намечался во взаимоотношениях отца и сына.
Охотно ушедший на войну и значительно менее охотно пробывший там около трех лет, Павло вернулся с каким-то новым, чужим для отца чувством. И оттого, что эти настроения не совсем были понятны, Лука насторожился, начал присматриваться. Там, где раньше нисколько бы не задержалось внимание, теперь что-то, еле еще прощупанное, но уже подозрительное, рождало тревогу, лишало покоя.
Вначале Батурин несказанно обрадовался возвращению сына. Прибавлялся работник, и из головы уходили беспокойные мысли о гибели сына, не от шашки, так от пули. Лука снисходительно относился к симуляции Павла и даже сам возил крупчатку фельдшеру из ста-ничного околотка за помощь в продлении лечения.
Убитый конь немало способствовал таким настроениям старого Батурина. Справлять вторую строевую лошадь и амуницию казалось накладным, а отправлять единственного сына в пластуны не позволяли ни гордость, ни станичный сбор. И вот сын, вместо того чтобы утешить отца благодарностью за его заботы, глядит на него с ухмылкой, еле скрывая недоброжелательство.
Лука предполагал, что виной всему Любка, к которой по звериной ненасытности раза два неудачно приставал он. Но опрошенная тайком сноха побожилась, что Павлу про охальничество свекра ничего не известно.
Вскоре сомнения постепенно начали рассеиваться. Павло намекнул, что негоже обижать семьи фронтовиков, у которых отцом за бесценок арендовались паевые наделы.
– Казаки на фронтах дерутся, а ты тут – как осот, весь сок из земли высосал.
Луке было непонятно выступление сына против явно прибыльного ведения хозяйства, но когда к Павлу зачастили однополчане из голытьбы, отец понял, откуда приходят нехорошие мысли.
В поле также нехотя выезжал Павло. Если отец, показывая пример, нарочито работал с остервенением, Павло делал то же дело с Холодком и, мало того, не прочь был поиздеваться. «Две жилы, видать, у тебя, батя, – говорил он, – другой уже давно бы на твоем месте запалился. Вот бы тебя ямы для блиндажей послать покопать. Механизма у тебя справная».
Все же старый Батурин смирился бы с неприятностями личных взаимоотношений, но пришло время, когда на Павла стали указывать пальцами как на дезертира. Дважды вызывал атаман Батуриных на личный осмотр, приглашал писаря и фельдшера и заставлял Пайла показывать рану. Павло охотно исполнял требование атамана. Долго, словно издеваясь, накручивал на колени широкий грязный бинт. Перед взорами комиссии обнажался живот, покрытый кровоточащими шрамами. Атаман щупал живот и подписывал бумажку в полк о продлении. Но все же – очевидно, вследствие болтливости фельдшера – по станице обсуждали поведение Павла. Над Лукой посмеивались, и он наваливался на сына.
После отъезда Гурдая Батурины запрягли три пароконки и, захватив двух работников, отправились в поле за кукурузой. Кукуруза рубилась низко под корень, подсыхала в кучках, и возили ее с будыльями. Будылья, отмякшие в скирдах, скармливались рогатому скоту, а се-но из года в год экономилось, и от каждой зимы оставались пятидесятисаженные скирды, сохраняемые про запас на засушливые годы.
Запольная батуринская земля за хороший магарыч при переделе была отрезана в удобном месте на бывшем зимовье по саломахинской балке. Через батуринский надел от заполья проходила дорога, немного сокращавшая путь. Чтобы попасть в станицу, надо было пересечь балку по батуринской гребле. Вот тут-то и сказалась хозяйственная смекалка Луки. Он, загатив течение реки, прорезал посредине гребли сток, примерно в аршин шириной, по которому день и ночь шумела кипучая прорывная струя глубиной в полтора-два аршина. Поверх канала клался съемный плетень. Лука прятал плетень в полевом курене, построенном им из толстых жердей, на той стороне балки у густых и высоких камышей. Переехать через загату можно было только с помощью плетня. Обычно, дойдя по узкой гати до канавы, подводы оста-навливались, и казаки звали хозяев.
Лука пропускал через греблю по выбору. Все пользующиеся гатью платили оброк. Кто – пшеницей, кто отрабатывал натурой: давали коней на пахоту или делали ему две-три возки в горячее время. Действия Батурина были вполне законны, так как гребля стояла на его земле. Казаки пробовали заводить свои плетни, прятали их в камыше, но плетни всегда таинственно пропадали. Оставались плетни тех, кто платил побор или чинил греблю: возил навоз, забивал землей, оплетал хворостом. При больших наводнениях гребля размывалась, но никто не видел, чтобы приведением ее в порядок занимался сам хозяин. В засухи, когда воды в Саломахе было мало, Лука наглухо закрывал сток дубовым щитом, и огороды, расположенные внизу, лишались воды. Колодцы копать в те времена не было обычаев, копанки пересыхали. Жаловаться на Луку было некому. Он ходил в выборных стариках и, мало того, приходился родственником отдельскому атаману.
Сенька полдня ожидал хозяев возле куреня. Он искупался в ставке, изловил рубахой пару пескарей, – поиграв с рыбешками, отпустил их на волю, рубаху выжал, расстелил на земле и принялся швырять камни в лягушек, густо усеявших берег. Намахав руку, оставил и это занятие. Направился к балагану. Разрезав рябой арбуз кривым садовым ножом, мальчик отодрал мясистую сердцевину, чуть привявшую по гнездам семечек, и аппетитно съел ее с хлебом. Потом принялся за «скибки». Расправившись с арбузом, потрогал пальцами живот. Живот надулся и был туг, как барабан.
«А батя в письме сумлевается, кто меня поит, кто меня кормит, – ухмыльнулся Сенька. – Живу, как царская тетя».
Солнце заходило; Сенька почувствовал дрожь, вылез из куреня. Чтобы согреться, он побегал взапуски со своей тенью. Тени так он и не догнал. Сделав на руках колесо с десятью «переворотами», оделся. Под мышками, у воротника и по рубцам холстина не высохла, но без рубахи было хуже. Сенька поиграл с ящерицей, оторвал у нее хвост, потом наблюдал, как, шурша, улепетывала ящерица, а на земле скручивался и жил кусочек хвоста.
Вернувшись в балаган, мальчишка прилег на связки сухой куги и заснул, засунув пальцы под мышки и подобрав под себя ноги.
Разбудили его истошные вопли Луки. Сенька вскочил, стукнулся головой о сучковатую жердинку, по-ящериному выполз из куреня.
– Слышу, дедушка! – покричал он в ответ. – Зараз приволоку.
Он, пыхтя, взвалил на тачку плетень, поплевал на ладони и, схватив ручки, покатил тачку к гребле, натужно упираясь ногами.
На загате стоял Лука, зажав в руке повозочный кнут.
– Соня, – шипел Лука, – бес твоей душе! Уже час гукаю. – Кнут свистнул, но не достал Сеньки, сразу вильнувшего в сторону. К отцу подскочил Павло, схватил его за руку и легко вырвал кнут.
– Стареешь, ум теряешь, – он скрипнул зубами, – за что бьешь?
– Пусти, – рассвирепел Лука, – на отца руку подымаешь?
– Еще не подымал. Как подыму, сразу, плотву начнешь ртом ловить. В канаву хочешь?
– Не надо, Павло Лукич, не надо, что вы, – просила испуганная ссорой Любка.
Павло ощутил тугую грудь жены, хотел было ее оттолкнуть, потом привлек к себе, засмеялся.
– Ну, не его, так тебя.
– Меня кидайте, Павло Лукич, – повисая на крепких руках мужа, шутливо просила Любка, – я выплыву, а батю лягун укусит.
– На, – Павло отдал кнут отцу, – другой раз не забижай мальчонку, сколько разов тебя уговаривать буду. – Помог работникам положить плетень, тихо добавил: – У него отец фронт держит, а ты над его сынишкой лютуешь…
– Что ты мне все – фронт, фронт, – снова взбеленился притихший было старик. – По всему видать, навоевались. Небось от полкового имущества тренчика не найдешь. Четыре сундука повезли жилейские полки, поглядим, что обратно возвернется. Сто годов басурманские знамена зубами вырывали, а теперь небось на портянку их пустили… Фронт держит! До кубанской земли далеко, нечего мне в глаза тыкать фронтом, сам-то не дюже храбрый, дезертирничаешь?!
Они уже перевели повозки через греблю и остановились на полянке у балагана. Павло остыл, и ему не хотелось спорить с отцом.
– Ты меня, батя, на фронт не гони, – спокойно сказал он, в глазах у него заиграла хитринка, – паи-то мы одинаковые получаем. Пошел бы за меня повоевал.
Три года я на позициях был, а теперь дай бог тебе три года вошву покормить.
Я – за Миколку, ты – за Лавра Корнилова. Ведь на турецкую ты не ходил, как раз будет тебе в охотку, да и нраву ты подходялого.
На дороге показалась груженая подвода.
– Кажись, карагодинские кони, а, Сенька? – вглядываясь, спросил Павло.
– Карагодинские, – обрадовался Сенька, – это Мишка обратно с кукурузой. Я туда ему плетень клал.
– За какой радостью ты перед Карагодами выслуживался? – бормотнул Лука, оправляя шлеи, пытаясь незаметно дать пинка Сеньке, – Он каких-то азиятов во двор наволок, генеральскую честь конфузил…
Мажара съехала к гребле. Черва скосила глаз, заржала. Жеребенок приблизился, ткнул ее под бок, принялся сосать.
На мажаре вместе с Мишей сидел Хомутов.
– Ты чего этого возишь? – шутливым тоном спросил Павло, подходя к повозке.
– Супрягач, ничего не попишешь, – ответил Миша и приветливо помахал Сеньке, который в это время поил лошадей.
Павло поздоровался с Хомутовым, и тот несколько дольше обычного задержал его руку. Павло посмотрел на широкую обзелененную руку Хомутова, осторожно высвободился. Взял кочан, начал обдирать слой за слоем белую шелестящую рубашку. Дойдя до зерна, ковырнул ногтем, попробовал на зуб.
– Рисовая, крепкая, на кашу хорошая. Только надо ободрать не на камнях, а на вальцах.
Хомутов пристально смотрел на Павла. Он знал, что тот говорит сейчас ненужное. Догадывался Хомутов: беспокоит Павла вчерашняя вспышка в доме Карагодиных, и ему как-то захотелось успокоить Павла, внести некоторую ясность в его мысли, помочь ему.
– Родыч был? – спросил он, облокачиваясь на кукурузу, так что початки поползли в стороны.
– Был.
– Говорят, коня тебе обещал?
– Обещал.
– Возьмешь?
– А почему бы не так?! – скривив губы, ответил Павло и уставился на Хомутова. – А ты бы не так сделал?
– Тоже так бы сделал, – согласился Хомутов.
– Ну вот.
– Воевать пойдешь, значит, а?
Павло откинул початок в угол воза, попробовал у Хомутова руку выше локтя, там, где напряглись крупные желваки мускулов.
– Ого, да ты бугаек ничего себе, удержишь.
– Удержу, будь спокоен, – улыбнулся Хомутов и согнул руку так, что мускулы подняли рукав гимнастерки и натянули его, – как у Ивана Поддубного. Ну, воевать пойдешь?
– Там видать будет, – уклонился от ответа Павло.
– За нового царя, за Лаврентия?
– Может, за Лаврентия. Он мне еще хвост солью не обсыпал.
– Что ж, помогай тебе бог-отец, бог-сын и бог-дух святой, – произнес безразличным тоном Хомутов. – Ну, трогай, супрягач.
Миша дернул вожжами. Звякнули барки, отпрыгнул жеребенок. По губам у него стекало молоко, он слизнул и, пропустив повозку, пошел позади, помахивая головой. Павло двигался рядом. Он угадывал в Хомутове, этом рябоватом, простом солдате, какое-то единомыслие. Ба-турину было досадно, что Хомутов не договаривает до конца, хотя знает больше, гораздо больше, чем он, и яснее разбирается в сегодняшних непонятных делах, которые ему, Павлу, приходится осмысливать самому.
– Ну, а ты? – спросил Батурин.
– Что я? – как бы не понимая, переспросил Хомутов.
– Воевать пойдешь?
– А? Ты вот про что? Не забыл, выходит? Пойду, Павло Лукич, – внезапно обернувшись к собеседнику, выдохнул Хомутов.
– Что вчера слух прошел по станице верный или брехня?
– Какой слух?
– Вроде до вас, до Богатуна, две батареи с фронта возвертаются. Чего-сь непонятно, как это с фронта, да батареи, или там им уже делать нечего?
– Что ж тут странного, Павел Лукич, – невинным голосом произнес Хомутов, – наши-то богатунцы почти все в артиллерии.
– Так что?
– Да ничего. Ну, хватит, смотри, куда забрел. Возвращаться далеко.
Павло, отойдя от мажары, наблюдал, как удалялся задок, затянутый брезентом, как поблескивали шины. Он машинально определил, что у заднего правого наверняка разболтана втулка: вихляет колесо. Проводил глазами зеленое пятно Хомутовской гимнастерки, и глухое, неоправданное чувство злобы поднялось в сердце Павла, злобы к тому солдату, хитроватому, колючему, а самое главное – непонятному.
– Ишь сволота, – прошептал Павло, стискивая челюсти, – крутится, как червяк на удочке. Завсегда каменюку за пазухой щупает. Сколько бирюку ни подноси, все одно норовит тебя цапнуть.
Обида колыхнула душу Павла и залила сердце горячим и каким-то ненавидящим чувством. Где-то ясно и уверенно ходила правда, а он не мог ее ни увидеть, ни ощутить. И эта ускользающая правда злобила его тем более, что он знал: вот Хомутов мог бы прояснить его мысли, мог бы прямо, без обиняков, навести его на правильный путь. Батурина, сильного и мужественного человека, оскорбляло превосходство того, скрывшегося вот только сейчас на солнечном гребне балки. Павло окончательно обозлился и погрозил вслед кулаком – и, уже не сдерживая сердца, прошептал:
– Выбивать вас надо, чертову городовичню. Дышать нечем…
От куреня кричал Лука и ругался скверными словами, не стесняясь присутствием Любки. Павло уже не обижался на старика, наоборот, теперь отец был ему близок и родствен, как никогда. В этот момент только в нем он мог найти понимание и сочувствие. Подойдя к отцу, Павло взял его руку.
– Батя, ты меня прости… Я на тебя лаялся.
Такое поведение сына явилось полнейшей неожиданностью для Луки. Он обрадовался, заторопился, уже на ходу опалил его ухо:
– Да я и не обижаюсь на тебя, Павло. Ей-бо, не обижался, сыночек мой. Такой скипидар пошел, что кобелю каплю плесни под хвост – сбесится.