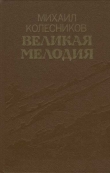Текст книги "Над Кубанью. Книга первая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА I

Со Ставропольщины дул сильный ветер, свистя в железных тернах, сгибая жердинки янтарных кизилов и орешников. Гнал осенний прикаспийский ветер рваные тучи, набрякшие студеной влагой. Густые дожди размывали дороги, вздували балочные ручьи, сбегающие в сердитую Кубань. Мчались шары перекати-поля, пролетая над завядшими кулигами донника и горицвета. Горько пахла степь, низкие тучи, клубясь и завихряясь, не могли полностью впитать эту горечь, и казаки всей грудью вдыхали пряные родные запахи.
Отмякли кобурные ремни и петли боевых вьюков, косматились конские гривы, отсырело оголовье, пенные полосы мыла появились у налобников и по скуловым грядам вдоль щечных ремней. Кони, навострив уши, поднимали головы. По блеску их глаз было видно, что узнавали они знакомое, близкое. Всадники подавали голос, похлопывали по взмокревшей шерсти, по теплой неутомимой лопатке, двигающейся в такт шагу. Кони сдержанно ржали, позванивая трензельным и мундштучным железом.
В рядах не в лад пели, еле-еле шевеля губами, и песня, точно нарочито, была одна и та же; мотив этой казачьей песни, обычно бурный, тоскливо удлинялся. Так загоревавший гармонист, бездумно перебирая лады плясовой, медленно растягивает мехи гармошки.
Скакал казак через долины,
Через кавказские поля.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке…—
бубнил Буревой, перебирая в руке сырой охвосток повода.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
– Брось, Буревой, выть, – сказал Писаренко, – зря кольца дарили казачки…
Буревой, не ответив, замолк и внимательно уставился на заляпанные грязью носок сапога и стремя.
Всю ночь форсированным маршем шла с Армавира Жилейская бригада и к утру подходила к станице по Камалинскому размытому тракту. Никто в станице не знал о приближении казачьих полков, возвращающихся с германского фронта.
Станица еще спала, над ней клубились облака, шумели осокори и высокоствольные акации.
От Бирючьей балки бригада повернула к Золотой Грушке. Полки спешились, и казаки, держа лошадей в поводу, прошли мимо кургана. Каждый, приостановившись, снимал шапку, наталкивал в нее щебневатой земли и, миновав Аларик, с обрыва вытряхивал шапку в реку, несущую кипучие воды. Накрывшись, казаки снова перестраивались и двигались к станице верхней дорогой. Позади сотен осталась мятая колея глубокого следа, точно проклеймившая землю возле кургана дуговым кабардинским тавром. У подошвы Золотой Грушки зачернела яма, вычерпанная казаками, а по осыпным краям повисли обнаженные корешки, шевелящие по ветру белыми усиками.
Три года тому назад отправлялись на фронт казаки прикубанских станиц. Шли в шестерочных звеньях, и каждый полк растягивался на версту. Теперь командиры развели строй «пожиже», в звеньях по три с глухими рядами, и все же полковые колонны были короче. Многих недосчитаются в кварталах и сотнях, и не одна мать или жена обольет стремя звеньевого горючими слезами, исцарапает сапоги, требуя ответа за убитого, за жизнь, оставленную в далеких и чужих землях.
Мрачные ехали казаки, втягиваясь в просторную форштадтскую улицу. Первый раз в истории Войска прибывали полки как бы тайком, без звона колокольного, без торжественной встречи на границе юртовых жилейских наделов. Впервые отняли землю у Золотой Грушки казаки и отдали ее Кубани.
Неудачна была война, много выбито казаков, и хотя везли в сундуках добытые в боях неприятельские знамена, хотя привел кое-кто голенастых баварских коней, но не было славы.
С большим трудом пробились эшелоны через Украину и Донщину. Выдержали немало стычек с разными непонятными отрядами, требовавшими сдачи оружия. Никто не бросал цветов под колеса теплушек, а на станциях встречали насупленными лицами и пулеметами. Революции требовалось оружие, в эшелонах его было вволю. Угрожающей силой казались идущие в полном боевом порядке полки кубанских казаков, но никто не сумел отнять ни силой, ни уговором пулеметы, винтовки и шашки. Только в Армавире, под угрозой артиллерийского обстрела, сдали казаки гаубичную батарею и десяток повозок с огнестрельным припасом.
Полки вошли в станицу, и снова начался дождь, но теперь уже мелкий, обложной, при потухающих порывах ветра и низком оловянном небе.
Дедушка Харистов, узнав в окошко кое-кого из фронтовиков, схватил шапку, короткий кожушок и, на ходу одеваясь, заторопился к церкви ближним путем, огородами.
С вчерашнего дня Харистов заменил заболевшего трясучкой церковного сторожа, и отсутствие его возле сторожки в столь ответственный миг могло окончиться худо. Пройдя огороды, старик с трудом перебрался через загату, накрытую поверх колючим хворостом шиповника, и потрусил по площади, спотыкаясь о свежие кучки, нарытые кротами. Войско двигалось обочь площади к саломахинскому мосту. Харистов, заскочив в ограду, схватил поржавевший дрот, спускающийся с колокольни, торопливо его задергал, пытаясь наверстать упущенное время. Малый колокол, которым обычно отбивались часы, тревожно загудел, спугнув с колокольни голубей-дикарей и галок с разбитого молнией карагача.
От колонны отделился казак.
– Брось шуметь, – незлобно крикнул он, осадив коня. – Перестань!
Харистов видел всадника сквозь редкий частокол ограды, но, не понимая смысла запрещения, продолжал звонить.
– Брось балабонить, – гаркнул казак. – Што ты галок пугаешь. Перестань, а то плетюгана отвалю…
Харистов мгновенно выпустил дрог, обернулся к всаднику. Заметив теперь седую бороду звонаря, казак сразу отмяк и извиняющимся голосом добавил:
– Командир полка приказал. Чего народ баламутить. Встревать не за что, дедушка… Тут хоть как-нибудь тихом-михом да по дворам…
Он исчез за сторожкой, и перед Харистовым только на миг мелькнул взмыленный круп коня и блеснула подкова. Старик поглядел на ладони, выпачканные о ржавую проволоку, вытер их полой полушубка и быстрым шагом направился из ограды, думая пешком поспеть к правлению до начала сдачи знамен.
Набат все же поднял станицу. Причина тревоги сразу стала ясна. По улице, казалось, бесконечными звеньями двигались верховые казаки. Шли и шли, булькая и чавкая сотнями копыт. А когда все же строевая колонна закончилась, потянулись повозки, укрытые брезентами и увязанные бечевой, лазаретные линейки, патронные и пулеметные брички, телефонные двуколки, привязанные чембурами заводные и вьючные лошади, походные кухни и маркитанские возки.
Станичники устремились на главную площадь, кто пешком, кто верхом охлюпью, кто на подводах. Харистов увидел быстро идущую наперерез новенькую двухрессорную линейку Батуриных.
«Подвезут», – решил старик и остановился.
На линейке сидели Лука, Сенька и Миша. Правил лошадьми Павло, одетый в брезентовый плащ поверх синей суконной бекеши.
– Садись, дедушка, – натянув вожжи, крикнул Павло.
– Лезь вот сюда, на мягкое, – пригласил Лука, указывая на задок, на который был брошен навилень бурьянистых объедьев.
– Там старичку несподручно, батя, – сказал Павло и, потеснившись, посадил его рядом.
– Да я ничего, – смутился Лука, – я говорю, там помягче и не так грязюкой кидает, а тут у крыла, глянь, всего обсалякало.
– Ну, пошли, – Павло дернул вожжами и сбоку подстегнул гнедого чулкастого коня, идущего в пристяжке. Гнедой рванул, заломил коренную пару, чуть не перевернул линейку.
– Ишь ты, Гурдай-Мурдай! – весело крикнул Павло.
– Атаманский? – спросил Харистов.
Павло обернулся:
– Ага, зверюга конь! Думал, что сбрешет атаман отдела, ан нет, прислал.
– Зря ты его подпрег, – бормотнул Лука, – дорога легкая, грязь жидкая.
– Нехай жир потрясет, ему полезно, – отозвался Павло. – А то не только под верх, а и мышей перестанет ловить. – Толкнул Сеньку локтем – С тебя магарыч.
– За что, дядька Павло? – хитровато спросил Сенька.
– Как же, отец прибыл с фронта.
– А? – протянул невинным голосом Сенька. – А вот ты, дядька Павло, давно-давно с фронта, а что-сь с тебя магарычу не вижу.
Павло от души расхохотался.
– Это ты верно. В самую точку попал. Ничего, наше дело еще впереди. Ну, поддай пару.
Кони обежали на мост. Павло боком объехал обозы, поднявшись на бугор рысью, погнал трояк возле дороги, подминая подвявшие стебли белены.
Миша видел редкие звенья, исхудавших коней, захлюстанные брюхи и подперсные ремни, подвязанные тугими витыми пучками хвосты. Он удивленно заметил, что казаки почти поголовно были одеты в мятые шинели, а бурки приторочены поверх саквенных кобуров. Помимо холодного оружия, все были вооружены винтовками, поперек груди висели серые подсумки с патронами.
Кое у кого у седел, поверх бурочных скаток, были пристегнуты дулами книзу короткие, нерусские винтовки, а вместо котелков на свертках попон заднего вьюка приспособлены лакированные каски с латунными шишаками. Музыкантские взводы двигались обычным порядком, но оркестры молчали, трубы, затянутые в набухшую парусину, покоились за плечами трубачей.
Народ, кинувшийся было к казакам, отхлынул и молчаливо двигался мимо дворов вместе с сотнями. Кое-где над толпой взметывался женский крик, сразу же обрывался, и еще страшнее становилось тяжелое безмолвие.
– Коней узнают, – обернувшись к Мише, тихо произнес Павло, – хуже нет для бабы пустого седла.
Лицо Павла точно окаменело и отдалилось. Около глаз, на щеке, прилипла отшвырнутая копытом грязь, застывшая серыми кляксами.
– Жену почему не взял? – осторожно спросил Павла Харистов.
– Любку? Нечего ей тут делать. Все едино сопливить стремя некому. Я ведь домашний вояка. Еще наго-лосится… успеется…
В последних словах предсказывающе прозвучал особый, затаенный смысл.
Фронтовики ехали и исподлобья глядели на хаты с пегими подтеками по меловым стенкам, на окна с прилипнувшими к стеклам лицами старух и детишек.
Казаки глядели на близко знакомые замшелые заборы, палисадники, усыпанные мертвой листвой. Мокрый хмель обвивал крылечки. Сиротливо поднялись вверх цыбаря[4]4
Перекладина колодца-журавля.
[Закрыть]; на летних печах лежали снопы камыша.
Лошади чавкали по раскисшей дороге, по щеткам стекала грязь. Иногда, завидев конюшни, кони ржали радостно-заливисто; услышав ответный призыв, петляли шаг, толкались на месте и, угнув голову, тянули домой. Всадники, набирая повод, ставили лошадей на место, в строй, освященный тремя годами кровопролитной брани. Бригада еще была подчинена войне и дисциплине, и пока никто не был волен в своих поступках.
Бригада направлялась на главную площадь, к правлению, чтобы дать отчет в проведенных походах. Впереди шел 2-й жилейский полк – как прославившийся в сражениях и сумевший в целости сохранить и приумножить полковое имущество. За ним следовал 1-й жилейский полк, потерявший во время тарнопольского разгрома старинные сундуки и почти четверть рядового состава. Чтобы скрыть урон, звенья были разведены с глухими рядами, и в рядах вели в поводу осиротелых коней.
Впереди полков ехали командиры, но не те, которых по мобилизации провожали отсюда, «е те, которых присылал на пополнение штаб дивизии. На первом полку стоял командиром есаул Брагин, на втором – Сенькин отец, старший урядник Егор Мостовой. В обозе, на головной бричке, сидел, накинув бурку и закутавшись желтым верблюжьим башлыком, Василий Ильич Шаховцов, командир батареи, сданной в Армавире по требованию большевистского комитета.
Сенька издалека узнал отца, вскочил и громко позвал его.
Мостовой услыхал голос сына, обернулся и долго вглядывался. Линейку задержали сгрудившиеся на перекрестке люди, и Мостового скрыло за поворотом угловое здание школы.
– Батя, батя приехал, – подпрыгивая, радовался Сенька.
– Да куда он денется, твой батя! – буркнул Лука. – Ну-ка поняй, Павло, пошвидче в объезд мимо Велигуровых, а то на площадь к разбору шапок заявимся.
Втянувшись в главную площадь, откуда они с молебном уходили на войну, сотни разошлись по местам и по трубному сигналу построились в резервную колонну, загнув на рысях фланги. Когда в тылу строевых сотен накапливались ряды обозных повозок, Батурины прикатили в правленский двор. Лука побежал скинуть дождевик, чтобы появиться среди стариков в полном мундире, а Павло с ребятами, быстро отстегнув постромки и привязав лошадей к пожарной коновязи, направился к правленскому крыльцу. Тут, несмотря на неожиданность, все было готово к встрече. Собирались музыканты. Стоял атаман, в парадной черкеске, с двумя писарями по бокам, причем один держал знаки атаманской власти, другой – инвентарную опись для проверки прибывших лошадей, бричек, амуниции и полкового снаряжения. Вокруг, заняв оба крыла просторной веранды, стояли выборные старики – члены станичного сбора.
Бригада построилась и общим фронтом подвинулась ближе к правлению. Ветерок колыхнул оранжевые штабные флаги, показав вшитые посредине извечно знакомые, ярко-красные ромбы, но теперь их цвет приобрел какую-то особую значимость.
Вот сейчас, как полагается по старине, подбодрятся казаки, несмотря на тяжелый марш, – прозвенит команда, блеснут клинки, отполированные многомесячной сечей; и замрут на одной линии, готовые и к бою, и к принятию новых обязательств перед станицей.
Но совершенно неожиданно раздалась певучая команда: «Слезай», повторенная, как эхо, всеми двенадцатью командирами сотен. Выборные старики недоумевающе переглянулись, подвинулись ближе к барьеру.
– Отпустить подпруги, покачать седла! – повторили сотенные, и немного спустя покатилось резкое «смир-но-о-о!».
Команда, хранящая в своих шести буквах огромную сдерживающую силу непререкаемого подчинения и готовности ко всему, была произнесена. Старики вышли из оцепенения, облегченно вздохнули.
К крыльцу медленно, прямо по грязи, не разбирая дорожек, шли вооруженные командиры полков. За ними знаменосцы несли штандарты, завернутые в кожаные потертые чехлы. За штандартами следовал взвод охраны с шашками наголо. Подача знамен делалась по заведенному с давних времен обычаю, хотя отсутствие офицерского состава нарушало торжественность возвращения и встречи.
Оркестр рявкнул марш. Атаман, видя, что со знамен так и не сняли чехлов, сердито прокричал:
– Отставить!
Замирающий звук барабана поплыл над площадью, усеянной по бокам квадрата фронтовиков шапками, платками и картузами.
Есаул Брагин первым поднялся по ступенькам, приблизился к атаману и совершенно неожиданно троекратно приложился к его мокрым усам. Повернулся к народу и поднял руку. Короткий шум сразу стих, и только стая галок пронзительно каркала, стараясь умоститься на сухой тополь. Галки снижались, цапали лапками ветви и, словно обжегшись, взлетали, испуганные и взъерошенные.
Мостовой, задержавшись внизу, у чистилки, старательно отскабливал сапоги, наблюдая растревоженных птиц, и одновременно искоса поглядывал на крыльцо. Знаменосцы стояли уже наверху, а взвод охраны, беззастенчиво оттеснив выборных, замер в положении «смирно».
– Господа казаки, – начал Брагин, – мы не хотели воевать с немцами. Войну начало царское правительство, а потому, не признав его и сбросив, мы не признали и войну, затеянную царем. Мы возвращались домой по областям, горящим уже сейчас в огне междоусобицы и вражды, и с радостью вступили на мирную землю родной Кубани. У нас пытались отнять оружие, но мы его отстояли. Мы лишились артиллерийского вооружения, но это не суть важно, ибо в казацкой руке самое главное шашка и меткая винтовка…
К Мостовому сбоку протиснулся Василий Шаховцов и, разматывая башлык, шепнул:
– Что это он надумал, а?
Мостовой улыбнулся, скучающе взглянул на атамана, на выборных, насупленных и важных, широко зевнул и принялся сворачивать цигарку. Старики, оскорбленные столь демонстративным нарушением порядка, зашушукались, тыча пальцами в Мостового.
– …Вы мне доверяли, казаки! – почти орал Брагин, стараясь, чтобы его слышали все, а не только однополчане, к которым он обращался. – Вы прятали меня как офицера от анархических банд, слушались моих советов, послушайтесь и теперь. Наша свобода сохранится до тех пор, пока у казака имеется лошадь, винтовка и шашка, пока есть организация и дисциплина. Разъезжаясь по хуторам и приписным станицам, помните наказ вашего товарища и командира: по первому зову являйтесь сюда, готовые ко всем неожиданностям. – Брагин обернулся назад и согнулся в поясном поклоне: – Низко бью вам челом, господа старики.
Полки напряженно молчали. В толпе поднялось и затихло реденькое «ура». Мостовой нервно растер горячий окурок в корявых пальцах. Оттолкнул плечом не успевшего посторониться Брагина и, не ответив на его угодливую улыбку, обратился к народу. Мостовой тяжело выговаривал слова, которые, придя с трудом, сразу становились на нужное место, и вырвать из рядов хотя бы одно из них было так же немыслимо, как пошатнуть Егорово упрямое тело.
– Граждане станичники и товарищи фронтовые казаки Жилейской бригады! Много у нас было сволочей офицеров, и немало мы отправили их в штаб Духонина[5]5
Отправить в штаб Духонина – убить.
[Закрыть] пощадив тех, кого поняли преданными рядовому казачеству. Есаула Брагина мы оставили решениями митингов девяти сотен, помиловали, в результате, выходит, понесли ошибку. Только сошел с коня – и сразу с атаманом в обнимку и сгорбатился до земли перед кем не нужно. Сковырнули мы старый режим, домой заявились, а тут все по-прежнему. Везде Советы выбирают, а у жилейцев опять атаман Велигура.
Площадь зашумела, с веранды раздались угрожающие выкрики. Велигура растерялся, и на его сером нездоровом лице, искрапленном угреватыми точками, дернулись широкие, точно ременные, складки. Мостовой сбил шапку на затылок, окинул толпу быстрым, решительным взглядом.
– Оружие сохраняйте, казаки, – прокричал он, – сгодится оружие, а власть надо менять! Так и до царя, выходит, короткие пути остались. Разойдитесь по домам по увольнительным запискам, проверьте, как тут вместо нас хозяинували, какие прибытки фронтовому казаку прибыли. Утро вечера мудренее. Поглядим, обмозгуем, а потом соберемся и все вырешим. Знамена оставим при правлении, а не в церкви; так будет лучше их укараулить…
Мостовой подошел в Брагину.
– Вы глядите, господин есаул, не дюже, а то мигом разжалуем…
– Товарищ Мостовой, вы меня напрасно сконфузили, ей-богу, напрасно, – извинялся Брагин. – Посудите сами, остывши, не вгорячах: что я сказал предосудительного? Ведь в результате вы повторили мой разумный призыв, несколько иными словами. Только я уважил стариков, почтил атамана, но что ж из этого? Нельзя же с порога всех обозлить, а завтра братоубийственную войну открывать.
Мостовой не доверял Брагину. Вот и сейчас есаул стоит перед ним высокий, подтянутый и чистый, гораздо опрятнее его, несмотря на одинаковые условия пути. Кажется Мостовому, что этот красивый и бравый офицер смеется над ним, над его мыслями, над обгорелой шинелью, захлюстанной настолько, что полы обвисли тяжело и при движении колотятся и стучат, как будто в обтрепанной бахроме подвешены дробинки.
Брагин напоминал Мостовому щуку, случайно накрытую хваткой, когда она, прижатая дужками, бессильно бьется под клетчатой сетью, – схватишь руками, выскользнет, красивая и упругая, созданная для хищных нападений и предательских набегов. И глаза есаула были щучьи: зрачки, обведенные светлым прозрачным ободком, придающим лицу удивленное и бесстрастное выражение.
– Ты меня, Егор, прости, – говорил Брагин, тряся пойманную им руку Мостового, – знаешь: родные места, люди, расчувствуешься. Ведь Велигура хороший старик. Нет? Ну, может, и нет, но вот видел я там перед собой выбритую физиономию врага, а тут что за враг? Борода, усы, русские такие усы, казачьи…
Мостовому стало ясным, почему этот человек, весьма нелюбимый казаками, остался нетронутым, почему свои не пустили ему пулю в спину во время последнего неудачного наступления русской армии.
Он легонько освободил руку и направился вслед за писарем, который спешил проверить по описи полковое имущество и регалии.
На правленский двор свозили повозки, распрягали и отводили лошадей в общественные и близлежащие частные конюшни.
К Велигуре повезли на четверочных бричках кованные стальными полосами сундуки. Во дворе у амбаров их с трудом сгрузили, подложив на борта повозок столбы. Поставили сундуки на деревянный настил, наполовину вошедший в землю под их тяжестью.
– Наши будут, – хвастливо заверил подошедшего Мишу Федька Велигура.
Миша ничего не возразил: он чувствовал себя одиноким и ненужным. Сенька остался с отцом, Петя и Ивга потащили домой брата. Павло, побеседовав с однополчанином, куда-то исчез, дедушку Харистова послали за сургучом для печатей к отцу настоятелю сергиевской церкви. С прибытием полков у всех нашлось ка-кое-то дело, один Миша, никуда не определившись, из любопытства сопровождал сундуки. Обрадованный появлением Федьки, Миша оживился и вместе с приятелем деятельно принялся знакомиться с завезенным во двор имуществом.
Походные кухни, известные им давно, не возбуждали никакого любопытства, две закутанные брички, которые уже подкатили под навесной сарай, также не привлекли особого внимания, и друзья снова возвратились к сундукам. На сундуках висели два хитрых старинных замка, продетые толстыми ушками в резные тяжелые скобы, и красовались шнуровые печати с явственным оттиском царских орлов на сургуче. Миша до этого встречал сургуч только на водочных бутылках.
– А что, Федя, может, там водка? – неожиданно спросил Миша.
– Вот дурак, – ухмыльнулся Федька, – кто ж в сундуке водку держать будет. Бутылки поколотятся. Ишь как их швыряли, давно б с них юшка через крышки потекла.
– Сургуч, как на водке, – тихо проговорил Миша и еще раз обошел сундуки. Приблизившись, протянул руку, чтоб пощупать печать.
– Ну, давай, давай отсюда, – грубовато отогнал его поставленный на часы казак из молодых правленских тыждневых, – захаживаешь, как заяц вокруг капусты. Все одно не утянешь, хребет лопнет. – Часовой рассмеялся собственной остроте, показавшейся ему забавной, и легонько потолкал прикладом по крышке. – Не иначе золотом да самоцветным камнем набиты. По жмене каждый казак кинет – и то бугор.
Федька присел на колодезный сруб и показал часовому язык.
– Золото?! Кто ж туда золото будет кидать?
– А куда же его девать?
– В подушку зашивают, в седло, вот куда, – уверенно заявляет Федька, – вилку золотую нельзя в седло зашивать, проткнет не тебя, так коня, а деньги можно.
С черного крылечка спустились несколько стариков, сам хозяин и есаул Брагин. Сковырнув ногой развалившегося на крылечке щенка, Велигура повел гостей по двору. Видно, они только что совещались, судя по куцым обрывкам не договоренных в доме фраз. Миша уловил фамилии Мостового, Хомутова, Гурдая, Филимонова и Корнилова. Лука Батурин постучал по сундуку кнутовилкой.
– Как бы не утянули, – сказал он, – народ вороватый пошел, на ходу штаны снимают. Ко мне бы их перетащить, я уж их сам как-нибудь бы укараулил. Беспокойный я до сохранения имущества.
Атаман нахмурился.
– Что ж, я-то раззявей тебя?
– При чем тут раззявей, – Лука почесал затылок, – ишь Егорка Мостовой сегодня чего с правленческого крыльца сулил. Он вожжу под хвост захлестнет! Я его еще смолоду знаю. Егорка раз посулил, так уж стреножит…
– Хоть бы тебе чиряк на язык, – обругал Луку Тимофей Ляпин, – вечно ты с предсказами, как ворожка. До атаманской булавы надо еще голову, а где она у твоего Егора? Стреножит?! Кандальное путо и то хороший жеребец свернет на боковину, а ременное где-нибудь да треснет.
Старики удалились под сараи. Ляпин взобрался на бричку, отвернул брезент. На бричке рядком стояли, укрытые чехлами, станковые пулеметы.
– Ну как, Лука Митрич, стреножит? – спросил Ляпин, подмаргивая.