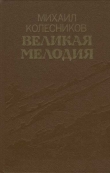Текст книги "Над Кубанью. Книга первая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Мефодий покрутил бутылку, пока водка не запенилась, и ловко вышиб пробку.
– Ну, Михаил Семенович, теперь твоих делов тут нету. Начались поминки.
Миша, заскучавший было у окна, шмыгнул в двери и, посвистывая, направился к калитке. У ворот столкнулся с супрягачом Хомутовым и невольно остановился. Сапоги из армейской юхты, зеленый картуз, синяя вельветовая рубаха делали его нарядным и независимым.
– Отец дома, хозяин? – козырнув, опросил Хомутов.
– Уже учуял. Ну и нюх у тебя, Хомут, как у Малюты, – огрызнулся Мишка.
Хомутов, изогнувшись, шепнул:
– Про Малюту цыц. Все знаю.
– Пришел отцу доказать? – Мишка петухом полез на Хомутова.
Тог взял его за ухо и подтолкнул к воротам.
– Иди, ребята ждут. Доказать! – передразнил он. – Не таковский. На другом над тобой душу отведу.
Хомутов направился к дому. Мальчик; поглядев ему вслед, подумал:
«Не пойму… Хороший он мужик аль нет».
Подошел Павло Батурин.
– Отец, кажись, прибыл?! Не ошибся?
– Только что заявился.
– Сам?
– Хомутов к нему…
– Видал, – перебил Павло. – Еще кто?
– Каких-то азиятов приволок с Закубани.
– Ну, пойдем, поглядим на азиятов. Покуда, Михаил Семенович.
Павло сдвинул на затылок каракулевую шапку и оправил серебряный пояс.
– Может, не стоит беспокоить? – заколебался он. – Что они делают?
– Белую головку раскупорили.
– А, – протянул Павло и облизнулся, – тогда без меня они не управются…
ГЛАВА VII
Петя и Ивга сидели на крыльце, и на их коленях белела шелуха грызового подсолнуха. По теневой стороне улицы кучками шли разодетые станичники.
– Куда народ идет? – спросил Миша, поздоровавшись и запасшись горстью подсолнухов.
– Гурдая встречать, отдельского атамана, – солидно ответил Петя, не переставая грызть семечки.
– По телефону сообщили, что из города вышел автомобиль с Гурдаем, – скороговоркой добавила Ивга.
Общество Ивги, особенно последнее время, стало какой-то необходимостью для душевного равновесия Миши. Если раньше девчонки мешали их ребяческим играм, стопорили их резвость, то теперь отношения перерастали во что-то новое, волнующее. Разлука приносила тоскливую необъяснимую пустоту. Мог ли открыто признаться в чувствах этих мальчишка, на которого мягко опускался пятнадцатый год? Конечно, нет. Скрывая неизведанные порывы даже от близких приятелей, Миша замечал, что девочка больше понимает его. Это решало их от-ношения, приближало друг к другу. Теперь под напускной грубостью скрывалось уже просыпающееся чувство первой ребяческой любви, чистой и возвышенной. Миша видел плутовское лицо Ивги, темное пятнышко родинки над верхней вздернутой губой, худенькие плечики и между ними две короткие, туго заплетенные косички. Заметив пытливый взгляд Миши, Ивга отвернулась, и у нее порозовели мочки ушей, покрытые нежным пушком, заметным на солнце. Миша тоже отвернулся, будто наблюдая, как в воздухе играют голуби-вертуны, выпущенные с соседней голубятни. На него глядела Ивга, и, когда они встретились глазами, девочка вспыхнула.
– Ну, чего уставился?! – сказала она, шутливо замахнувшись на него платочком. – Хочешь, чтоб ушла? Уйду.
– Нет, нет, не буду, оставайся, – встрепенулся Миша и, застеснявшись своей порывистости, исправился: – Хочешь, пойдем к дедушке Харистову?
– Петя пойдет? Пойдешь, Петя?
– Ясно, – отозвался брат, – ведь без меня тебя все равно мама никуда не отпустит.
– Не отпустит?! – обиделась Ивга. – А я без спросу уйду. Что она мне сделает?
– Выпорет.
– Это тебя выпорет, – вспыхнула Ивга, – а меня мама не тронет. Я девочка.
– Большая цаца – девочка, – поддразнил Петька.
– Вот именно большая. Девочек все жалеют. Их вон и на войну не берут.
– Не потому, что жалеют, а потому, что вы плаксы.
– Вот, как хочешь обижай, – не заплачу, – принимая независимый вид, сказала Ивга.
– Пошли к Харистову? – вторично предложил Миша и покраснел: ему показалось, что Ивга насмешливо глянула на него, сумевшего за все время вставить в разговор две фразы – и все о Харистове. Мише стало неловко…
В обширных просторах степей и полей он был решителен и ловок, окруженный такими же, равными ему, сверстниками. Стальными лемехами плугов покорял землю, заставляя ее работать на себя, на человека. Под его ноги ложились поверженные травы, он возил землю на гребли и видел, как ему подчиняются воды, останавливая свое извечное движение. Когда трехлеток-стригун проявлял свою волю, он подчинял и его, и доселе строптивая лошадь носилась по травам и дорогам, повинуясь.
Здесь, в несколько чуждой ему семье Шаховцовых, его томили уныние и злость от своей нерешительности и застенчивости. Его стесняли сюртук Ивгиного отца, Петины штиблеты на резинках, фотографии брата, гордого, черноусого, снятого с кокардой и сияющими пуговица-ми. Мише казалось, что бешмет и сапоги, ставившие его в почетный ряд воинственных казачьих поколений, здесь оттеняют его неравноправие. Так он у себя несколько пренебрежительно отнесся сегодня к Махмуду, так, вероятно, относятся здесь к нему. Хотя, надо сказать, никакого повода для таких подозрений в семье Шаховцовых не давалось. Итак, он решил идти к Харистову.
Харистов жил на форштадте, на планах, отведенных при первых поселениях, когда казаки, чтобы нести кордонную службу, селились в пунктах, удобных для наблюдения. Обрывистое плато господствовало над долиной Кубани, помогая следить за черкесами, идущими в набеги. Красные скалы, курганы Золотая Грушка и Аларик и коренной выход Бирючьей балки обрамляли кубанский обрыв, а дальше за Кубанью стояли кудрявые леса.
Приближаясь к дому Харистова, дети видели лево– бережное село Богатун, белеющее меловыми хатами, грязно-желтую извилину Кубани, голубые протоки, пьяно расползшиеся по просторной пойме, паром, похожий издалека на спичечную коробку, а на нем фигурки людей.
Село Богатун, основанное переселенными на Кавказ николаевскими солдатами, стояло на общинных владениях станицы Гунибовской. Станичный сбор охотно разрешил поселенцам занять бросовые, непригодные под пахоту земли. Когда же богатунцы разработали мочажинники, выкорчевали корявый лес и лозняки, хозяева предъявили счет переселенцам и стали взимать в общественный фонд арендную плату.
Начали жить трудолюбивые богатунцы на чужой земле, постепенно приучаясь к ремеслам, поставляя окрестным станицам не только батраков, но и бондарей, кожемяк, полстовалов, овчинников, сапожников.
Гунибовцы всегда корили богатунцев землей, считали их чуть ли не своими подданными. Приезжали на ярмарку в Богатун, куролесили, поднимали стрельбы, затевали «инжальные драки. Жилейские и камалинские казаки не уступали гунибовцам, отводя душу все в том же Богатуне.
Село завело торговлю, появились лавки с красным товаром, бакалеей. Прибывшие из Армавира и хутора Романовского торговые люди бойко вели оборот. Сюда казаки горных станиц привозили ободья, бондарную клепку, держаки для вил и грабель, дубители, сухие фрукты, табак, обменивая на зерно и подсолнух. Богатун сделался как бы обменным пунктом между закубанскими станицами и второй степной линией.
Домик Харистовых был выкрашен дешевой краской – суриком. Возле дома – палисадник, с дорожкой фиолетовых петушков. Кроме петушков, в палисаднике росли роза, гвоздика, львиный зев, а возле забора желтые и красные мальвы.
На стук щеколды вышла жена Харистова – Самойловна, или, как ее называли на улице, бабка Шестерманка.
Самойловна исподлобья окинула гостей суровым взглядом больших черных глаз, странно моложавых, не соответствующих ни годам ее, ни общему виду.
– Вы к деду? – спросила она грубо.
– К дедушке, – поклонившись, ответил Миша, – хотели его попросить, чтоб указал заводи, где сомы…
Самойловна подтянула концы платка, поправила чепчик и пошла к дому, постукивая палочкой. Ребята остались в недоумении. У крылечка Самойловна обернулась.
– Прокофьич в лес ушел, – сказала она так же грубовато.
– В какой лес?
– А? – приложив ладонь к уху, переспросила бабка.
– В какой лес, бабушка? – повторил Миша.
– Спуститесь вниз, пойдете по протоке, а там прямо к реке. У чернокленовой рощи свернете.
Ивга, искоса поглядывая на Мишу, держалась за брата.
– Ивга, что ты задумалась? – поинтересовался Миша.
– Бабки вашей испугалась, – губы девочки задрожали, – как ты ее бабушкой можешь называть, она не бабушка…
– А кто ж она? – удивился Миша, ничего еще не понимая.
– Бабка она, бабка, бабка… – сжимая кулачок, твердила Ивга. – злая, горбоносая, страшная. Настоящая баба-яга.
Миша рассмеялся.
– И даже ничуть. Ты ее узнай поближе, она хорошая, она добрая. Ее весь форштадт уважает.
– Пусть, пусть ее любят, а я ее боюсь… вот боюсь, и только, – твердила Ивга, – я и вашего деда боюсь.
– Ну, дед совсем не такой, – разъяснял Миша, – у дедушки борода большая-большая, как два веника, глаза серые-серые. Сам розовый, лысый… И лысина розовая, а на ней пух…
– Не желаю видеть вашего деда с пухом. Сами идите к нему, я домой.
– Как же ты пойдешь, тебя мальчишки побьют, – угрожал Петя, – ужасные ребята на Саломахе.
– Не ужаснее ваших бабок. Не хотите – сама пойду.
Ивга прибавила шагу. Мише хотелось побежать вдогонку, быть с ней, защищать от нападения мальчишек и отчаянной храбростью очаровать сердце девочки. Но коричневая юбочка вскоре скрылась, и они, минуту помедлив, разом, точно по уговору, повернули к спускy, по тропке, ведущей к протокам и чернокленовой роще.
После ухода Ивги Петька молчал, а Мише было грустно.
Благодатная кубанская осень пышно раскустила орешники, кизилы, ежевику. Ветви, покрытые ягодами, сгибались, обнажая пожелтевшие кое-где листья, но это не казалось печалью: созревшие плоды возмещали увядание. Между кустами бежала светлая протока, кружа опавшие листья, сбивая их в верткие стайки. Кое-где к берегу приткнулась коряга, вода принесла хворост, накидала на дерево, заилила, образовав спокойную заводь. Быстрина пролетала мимо, а в спокойных заводях, с чуть подрагивающей поверхностью, водились сомы.
Они останавливались возле воды, наблюдая за юркими стайками пескарей и еще какой-то мелкой рыбешки. Иногда они явственно различали сытые спины сомят.
– Зря удочки не захватили, – сказал Петя, – я прошлый раз на лимане нарезал лозин. Вот лозины не ломкие, гнутся куда хочешь.
Миша недолюбливал рыбную ловлю за ее спокойствие, но ему нравился ловецкий пыл приятеля, и он поддерживал эту страсть.
– Лески понаделал?
– Ого, еще сколько, – похвалился Петя, – наплел из конского волоса. Ножиком начекрыжил у нашего серого. У него белый хвост, удобный.
– Да, белый хвост лучше, – согласился Миша, – для обмана белый хвост хорош. А вообще белый конь несподручный в хозяйстве. Как ляжет в навоз, так желтые пятна. Ни щеткой, ни скребницей пятен не выведешь…
– Я – песком, мигом отходит.
– Можно кожу порвать, – рассудительно заметил Миша, – это раз, другой, а если всегда песком, мясо повыдираешь.
Внезапно из-под густого сплетения винограда, образовавшего естественную беседку, с шумом вылетел яркий фазан. Заметив людей, фазан метнулся в сторону и сразу пропал за порослями бересклета.
Приятели кинулись за фазаном. Напоровшись на шиповник, остановились. Покидали камни в ту сторону, куда скрылась птица, камни со свистом просекали листву, но фазан не поднимался.
– Точь-в-точь индюк. Вот бы приволочь домой, – мечтательно сказал Миша. – У нас как раз гости, маманя б целиком зажарила.
– Сюда б деда Меркула, он бы его подцепил на мушку.
– На мушку?! – поддразнил Миша. – У Меркулова ружья и мушки нема. Он на ствол берет. Как на ствол попала дичина, значит, его…
– На лету?
– А то как же?! Вот в перепела дед Меркул только на лету и попадает… А привяжи ему на куст убитого перепела, не попадает. Кто к чему привычен.
– Неужели в привязанного не попадет? – Петя с недовернем поглядел на приятеля.
– Не попадет. Он сам мне признавался. Даже вот когда перепел в жаркие страны перелет делает, ведь туча его идет через горы.
– В Индию идет, – заявил Петя, – через Кавказский хребет в Индию, а через Крым в Палестину.
– Не в том дело, куда перепел летит, в какую страну. Меркулу это без надобности. Идет перепел тучей, солнца не видно, опустился на землю, сразу на табуны разобьется.
– Зачем же на табуны? – недоверчиво спросил Петя.
– Чтобы лучше прятаться по кустам, по травам. У птиц тоже табун. Какие засветло думают хребты перелететь, не останавливаются, а запоздавшие стаи тут ночуют. Выходит тогда Меркул на охоту. Поднимет собака табун, и жахает Меркул со своего шомпольного на лету. По полтыщи набивает, право слово. Пятнадцать копеек десяток торгует перепела – сам небось видел, весь базар завалит…
– Солить бы их?
Такую птицу солить – соль переводить. Сладкая, когда свежая, а в засоле протухает.
Петя прислушивался к словам друга и шел впереди, чуть сутулый, бычковатый, унаследовавший здоровье от таких же физически крепких родителей. Вот Миша, он чуть выше, стройнее, с более легкой походкой человека, привыкшего к лошади, буйной реке и крутизнам.
– Почему перепелки каждый год летят на охотников? – опросил Петя, очевидно, не в состоянии самостоятельно осмыслить вновь пришедшую мысль, – почему они на все лето не останутся в жарких странах? Навсегда не поселятся там?
Миша был явно обескуражен вопросом друга. Он обогнал Петьку. Приближались шум Кубани и невнятные крикливые голоса у богатунского парома.
– А я знаю, почему перепела обратно летят! – неожиданно выпалил Миша с просиявшим лицом.
– Почему?
– Да потому, что перепел родился в России, тут и рос. У нас поля, пшеница, просо, разве не потянет обратно. Тебя б не потянуло?
Петька с минуту думал и, подняв глаза, утвердительно качнул головой.
– А как они через турецкую границу летят? Там война. Все сутки небось снаряды рвутся. – Петька встрепенулся, точно вспомнив что-то еще более важное. – Не заберут у нас турки землю? Не дойдут до Кубани?
– Ни за что, – уверил Миша. – Сколько казачьих полков дерется. С каждой станицы, считай, по целому полку. Вон Павло Батурин заявился с германского фронта. Говорит, если кусок какой земли и возьмут, так на ней все одно сто лет трава расти не будет… А где ж дедушка? Черноклены-то кончились…
– Позовем, – предложил Петька.
– Дедушка! Ого-го-го! – закричали оба, краснея от натуги.
Вместе с эхом донесся близкий ответный голос. Дети узнали голос Харистова, а вскоре послышались и его шаги. Ребята влезли в гущу черноклена, притихли. Харистов медленно шел по тропинке. Серенький бешмет был расстегнут, из-'под соломенной широкополой шляпы виднелась седая широкая борода, так хорошо известная ребятам. Старик нес ночной улов. Через плечо была переброшена сумка, оставляющая мокрый след на боку. Очевидно, перед отправлением сумка выкупалась в реке, а вместе с ней – сазанчики и окуни. Влажные переметы свисали с его плеча. Дедушка осторожно отводил ветви, преграждающие путь, стараясь не поломать их. Для Харистова своей особой жизнью жило каждое деревцо, и каждую упругую ветвь провожал он мягким взглядом добрых глаз.
Ребята, взявшись за руки, бросились поравнявшемуся с ними деду под ноги.
– Тонем, тонем! – заорали они пронзительно.
Старик отпрянул. Дети со смехом и ребячьим говором начали тормошить его.
– Повалите! – Харистов широко улыбался. – Уж не хотели ли вы деда напугать? В турецкую войну на меня курд с дерева бросился, и то не испугался…
Дети видели испуг старика, и то, что они оказались страшнее курда, льстило им. А словам Харистова они верили беспрекословно. Любимец детворы рассказывал много интересных историй, в беседах с ним мальчишки жили в мире бесстрашия, мужества и самопожертвования.
Дедушка Харистов был другом знаменитого кубанского бандуриста Дибровы и теперь изредка переписывался с ним. Хранил старик заветную бандуру, пользуясь ею в исключительных случаях. Кому-кому, но детям больше всех доводилось внимать его тихим песням. Воспитывали песни эти хорошие чувства чистой любви к родной земле, обильно политой казачьей кровью.
Старик присел на бугорок, положил рядом подрагивающую сумку, прикрыл ее развесистой шляпой.
– Ну, что поделываешь, Большак? – ласково спросил он Мишу, теребя его волосы.
– Дедушка, что ты меня всегда Большаком кличешь? Может, это плохо? – спросил Миша.
– Большак был мой хороший дружок, – ответил Харистов, – на тебя чем-то похож. Нос горбоватый был, глаза быстрые, волос только почернее твоего.
– Я выгорел, дедушка, – поспешно разъяснил Миша, – у меня зимой черный. Расскажи про Большака…
– Это было еще до того, как ходили мы на турецкую войну, – начал Харистов, полуобняв своих юных друзей, сразу же притихших, – собрались мы, молодые казаки, погулять в мирных аулах. Войны давно не было, силу девать было некуда, в табунах выпасывались кони-резваки, и ходили они без боевого дела, теряли свои достоинства. Тогда уже строго было за набеги, но имели мы причину. Абречил по линейским станицам молодой сын князя Султан-Гирея и год назад, под спасовку, угнал из станичного табуна косяк лошадей, вместе с ахалтекинской кобылой, которую отец Большака добыл в песчаной Хиве. Знаменитая была кобылица, и по при-говору общего сбора разрешили назвать ее по имени кургана Золотой Грушкой. Обидел князь не только хозяина, но и всю станицу, послали жаловаться на князя Большакова отца и в отдел, и в область к самому наказному атаману казачьего войска. Ничего не получилось с тех жалоб. Имел Султан-Гирей заручку и в отделе, и в области. Как-никак был абрек княжеского звания, и трудно было с ним судиться простому казаку. И вот решили мы сами отнять кобылицу у князя. Поклялись на клинках, что не выдадим друг друга, и темной ночью вплынь перешли Кубань, обминули сторожевую заставу у Ханского брода. Всю ночь скакали, угадывали север по дубам и камням. Пересекли три реки: Чокрак, Фарс, Айрхи – и ранней зорькой достигли Лабы-реки и аула Улляпа. Аул стоял на Лабе, напротив высокого берега, на котором Тенгинское поселение, а моста тенгинского тогда там еще не было. Мы узнали их повадку, черкесов этих, пели их песни – и свободно добрались до княжеского дома. Знали мы, что прятал Султан-Гирей Золотую Грушку в каменном сарае, напротив своей сакли. Подкрались мы осторожно к сакле, даже собак не побудили. Окружили ее, легли у дверей, а Федор Батурин, старший братан Луки, подполз к сараю, замок скрутил и вывел кобылицу. Почуяла своих Золотая Грушка, подала голос. Зажал храп Федька, а она поднялась дыбки и опять заржала: хозяина требовала. Кинулся тогда к ней Большак, сам не свой, успокоилась Золотая Грушка, но тут видим – в сторожевом глазке огонь мелькнул, и – выстрелил князь из сакли. Пуля миновала Большака, зато достала Федьку. Поднялись собаки, а за ними аул. Схватил Большак Федьку, кинул на Золотую Грушку, подхватил своего коня, и мы пошли наутек, вниз к Лабе. Широкая Лаба-река, берега луговые, заливные до самого аула. Ладно бы добраться до реки, а там поминай как звали, для казака абы в воду окунуться. Дружные черкесы стрельбой подняли всполох, улицы закупорили, решили закапканить нас живьем. Видим, уходить некуда, сбились мы в кучу, кони храпят, беспокоятся.
– Уходите вразброд, – приказал Большак, – сборное место на том берегу у Тенгинки.
Верное было приказание, потому что по одному легче проскользнуть, кучка всегда заметная, а один всадник теряет примету. Повернулись трое из наших, перемахнули каменную загорожу и ушли.
«А ты чего?» – спросил меня Большак. «Не могу тебя одного бросить». – «Как хочешь. Будем пробиваться вместе». А сам Федькино тело поперек седла держит, ссовывается Федька, а он его прилаживает, чтобы удобнее. – Заметив удивленный взгляд ребят, дед понимающе кивнул и улыбнулся: – Думаете, почему тело не выкинули? Нельзя. За каждого ответственный старший. Горе было б Большаку, если бы вернулся с набега без Федьки, живого или мертвого. Позор лег бы на три поколения Большаковой семьи.
Начали травить нас по аулу. Куда ни кинемся, пулями встречают. Прижали нас к каменной стенке возле мечети, некуда деваться. Разогнались, взяли стенку, и радостно сразу стало, – думаем, теперь вырвемся. Дорога упала лугом за скирдами, а там Лаба. Большак впереди, повернется ко мне, вижу – смеется, а Золотую Грушку по шее треплет, выручила, мол. Вдруг от реки стрельба: и там черкесы. Крутнули мы к скирдам, знаем, что скирду пуля не прошибет. Спрыгнул Большак на полном скаку, Федькино тело арканом сдернул и к себе поволок. «Пускай коня!» – закричал мне. Конь у меня был – никому в руки не давался, за сто верст домой приходил. Соскочил я, дал коню направление и урезал плетью. Пошел мой конь следом за Золотой Грушкой. За Лабой казачьи поселения, увидят казацкого коня, приплывут на помощь, выручат. Тогда за набеги казаков уже судили, да лучше суд, чем черкесский кинжал. Подлезли мы под скирды, закидали Федьку сеном, ждем. Нас заметили. «Лезай на скирд, закопайся, может быть, останешься, – говорит Большак. – Золотую Грушку сохранишь. – Поцеловались мы. – Обязательно Золотую Грушку сохрани, видал я – подалась она вихрем к Лабе-реке». Я уполз, а Большак отстреливаться начал. Взобрался я на скирду, сено подо мной – шу-шу – и полезло. Чую, под ногами щенята пищат, оказывается, попал в собачье гнездо. Продрал я дырку в сене, вижу – стреляет Большак. Зову его, а он повернулся ко мне страшным лицом. «Васька, богом молю, схоронись, не то убью». Не надо было Большаку отстреливаться, может, судом бы отделался, да удержать было трудно. Подвалил он черкеса, зашумели азияты, кинулись скопом, в плен взяли Большака. Ловили они двух, и двух поймали, одного живого, другого – Федьку – мертвого. Пересидел я и ушел к ночи, а Большака не видел больше, засамосудили его. Тягали меня за проказу, все общество откуп дало, освободили.
Старик замолк. Поднималась от трав, вытянувшихся в лесу, влажная тягучая духота, пахло прелью и мускусной букашкой, выпускающей на черноклены липкие соки. Не верилось, что в этом мире, полном безмятежного покоя, убивали людей и жизнь человека ценилась дешевле ахалтекинской кобылы. И в то же время что-то притягивающее скрывалось в подобных рассказах, и словно без войны и убийства слишком трезвым и пресным казалось человеческое существование. Степная горлинка чистила клювик на тонкой жердине бересклета. Ветвь колебалась, горлинка, сохраняя равновесие, взмахивала матовыми крыльями, взъерошивая перья на шейке.
– А Золотая Грушка? – тихо спросил Миша.
– Домой пришла, вместе с моим конем.
– А сейчас где она? – полюбопытствовал Петя.
– По старости пала! Под тем курганом зарыли.
Он указал вдаль, где в промежутке деревьев виднелась спокойная вершина кургана.
– Можно разве, дедушка, под таким заветным курганом коней закапывать? – тихо спросил Миша, наблюдая полет вспугнутой кем-то горлинки.
– Золотую Грушку можно. Старики на сборе разрешили… На ней кровь человеческая.
Вдруг медноголосо загудели колокола, сразу же разрушив дремотное спокойствие. Все звуки заглохли, над лесом и долиной поплыл звон набата. Дети встрепенулись.
– Пожар!
– Гурдая встречают, – равнодушно сказал старик, вытирая чистеньким платочком лысину. – Раз в колокола ударили, значит, на наш юрт въехали. – Харистов поднялся. – Тронули, казаки. Видать, и без моей медали теперь обойдутся. Сами хлеб-соль поднесут генералу.