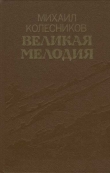Текст книги "Над Кубанью. Книга первая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА IV
Елизавета Гавриловна, управляясь по двору, первая увидела Сеньку и постучала Мише в окошко. Миша, не услышав слов, но поняв, что мать зовет его, моментально выскочил, на ходу накинув полушубок.
– Чего кликали, мама? – спросил он, поеживаясь на студеном воздухе.
– Сенька-то, погляди!
Мишино сердце забилось не то от гордости за друга, не то от зависти. Сенька подъезжал на отцовском Баварце, снаряженном диковинной драгунской сбруей, непривычной казацкому глазу. Баварец, подбодряемый Сенькой, подпрыгивал под ним, играл, кося глазами, и у трензелей клубилась пена. На Сеньке была надета каска, а шишак ее сиял на солнце не хуже золотого купола сергиевской церкви. Каска делалась, конечно, не на Сеньку, но он производил в ней впечатление. Понимая это, Сенька поворачивался во все стороны и изредка самодовольно улыбался своим щербатым ртом.
Миша сам отворил другу калитку, и тот въехал во двор как победитель.
Не слезая, он похлопал коня по взмокревшей шее и будто невзначай сообщил:
– Сегодня сообщной митинг будет. Богатунцы должны прийти… Хомутов атамана будет сковыривать. С Армавиру пять комиссаров приехали.
С тех пор как с фронта прибыл Егор Мостовой и сделался заметным человеком в станице, сообщениям Сеньки, безусловно, верили, и новости, привозимые им в дом Карагодиных, не возбуждали никаких сомнений. Елизавету Гавриловну слегка смутило только количество прибывших комиссаров. Она покачала головой и переспросила:
– Неужели целых пять комиссаров?
– Пять, – подтвердил Сенька. – Что, не верите, тетя Лизавета?
– Что-сь больно много. Вон Гурдай один весь отдел объезжал, а тут на одну станицу пятерых прислали. И каждый небось на жалованье…
– На жалованье?! – Сенька скривился. – Два белых, а третий как снег. Комиссары не за жалованью служат, а за… а за… идею.
Выговорив последнее слово, Сенька покраснел. Слышал он его от отца и не совсем еще понимал его смысл, но слово «идея» нравилось.
Подошел Семен Карагодин в новых сапогах и каракулевой шапке с синим верхом. Семен был у Батуриных, вдоволь наслушался разговоров Луки и до сих пор не мог вполне прийти в себя. Лука подбивал Семена не поддаваться агитации за Советскую власть, говорил, что у большевиков на лбу растет рог, а на груди у всех антихристово тавро выжжено.
Увидав на голове Сеньки каску, Карагодин сплюнул.
– Снял бы пакость такую, Сенька, – укорил он, – тут и так насчет рогов разговору не оберешься, а ты ездишь по станице, людей дразнишь. Далеко собрался?
Сенька наклонился к гриве.
– Проездить надо, застоялся. И так было сарайчик разнес. Как жахнет задки, так аж саманины колыхаются. Не конь, дядя Семен, а землетрясение, вот провалиться мне на этом месте.
Карагодин оглядел коня.
– Хорош, бродяга. Надо будет его весной в плужке испробовать. Сорганизуем супрягу: Хомутов, Мостовой да Карагодин, а?
– К плужке, видать, Баварец непривыкший, – возразил Сенька, – горячий конь, за всех за ваших будет тянуть, ну и враз або запалится, або сбочится.
Заметив неприятное удивление дядьки Семена, да и вообще всей карагодинской семьи, Сенька смутился.
– Я не потому, что жадный, дядя Семен, – оправдывался Сенька, – черт с им, с Баварцем… да и есть другой конь лучшейший…
– Какой же это… «лучшейший»? – передразнил Ка-рагодин.
– Батя казал, в гурдаевской экономии какие-сь самоходные машины пахают землю, трактора их кличуть…
– Ну, ну? – заинтересовался Карагодин. – Так Гурдай, что ж, твоему бате их подорит?
– Подорит? – снисходительно хмыкнул мальчишка. – Жди, пока подорит… Забирать будем силком, во как… Тогда коней на бороньбу поставим да воду возить на кулеш, а самоходными тракторами пахать.
Елизавета Гавриловна покачала головой.
– Откуда только у тебя все берется, ну и выдумщик. Сроду не слыхала, чтоб букарь сам без худобы ходил, ты что-то путаешь, Семей Егорович…
– Гляди, фронтовики, – перебил Миша.
На площади появилась конная группа, вооруженная винтовками. Фронтовики ехали, не придерживаясь строя, по направлению к саломахинскому мосту.
– Павло Батурин впереди, – вглядываясь, сказал Карагодин, – с утра еще подседлал своего Гурдая и куда-то подался. Кто ж с ним?
– Степан Шульгин-Лютый, Прокопенко Николай, – узнавал Миша, – а вон тот на сером, кажись, Огийченко, верно же Огийченко, батя?
– Огийченко, верно, – подтвердил отец, – на «киргизе» Лучка, а рядом с ним Писаренко Потап, а вон отстал Буревой. Чего он отстал, чи конь захромоножил? Ишь на перегон пошел Писаренко! А вон…
Еще, может быть, долго перечислял бы Семен Карагодин казаков, если бы они не прибавили аллюра и не скрылись за церковью да если бы вдруг не появился Лука Батурин. Он был верхом, что случалось с ним чрезвычайно редко, так что странно даже было видеть Луку на лошади.
– Собирайся, седлай, что же ты глядишь? – заорал он на соседа. – Видишь, Павло, дышло ему в спину, фронтовиков повел. К добру, думаешь?
Над станицей почти одновременно загудели колокола. Так собирали на митинги в то беспокойное время. Лука загарцевал возле двора. Семен подседлал Купырика и потрусил за соседом, сорвавшимся сразу в намет. Купырик бежала, помахивая черной гривой. Карагоднн согнулся, еле-еле успевая за резвым конем соседа.
– Ну, а мы что с тобой, тоже на митинг? – спросил Миша приятеля.
– От митингов этих голова стала как кадушка, право слово, – отмахнулся Сенька, – поедем на Золотую Грушку, коням требуху раструсим.
– Чего к ней ехать, – возразил Мишка, – Петька сказал, се казаки всю в Кубань сковырнули.
– Петьку послухаешь, завтра сдохнешь… Вот, огник его задуши, брехун. – Сенька склонился – Два полка по шапке земли, – посчитай, ты же грамоте обучен. Разве свернут такой курган? Там в нем не меньше тыщи вагонов глины…
Ребята пересекли площадь. Они решили добраться до Золотой Грушки низом, спуститься с плато и через велигуровскую гать второй протоки проехать Красными скалами до Золотой Грушки. Кстати решили посмотреть общественную люцерну, не зазеленела ли и нельзя ли по ней пустить коров, пока не закидало яры снегом.
Через велигуровскую греблю их не пустили. Везде за хатенками, что возле самой мельницы, за плетнями прятались вооруженные казаки. Мише показалось, что у перелаза, положив кожух на переступку, стоял один из пулеметов, виденных им в атамановском дворе.
Отсюда виднелось шоссе, ведшее к богатунскому перевозу. Близко текла река, у берега торчали перила парома. На нем толпились люди, размахивающие руками.
– Туг чего-то не так, – подъехав, сказал Сенька, – гляди, вон Тимоха Ляпин што-сь приглядывается, как шулека[6]6
Коршун.
[Закрыть] на копне. Он зря тут сторожить не будет.
Из-под мостка вылез Матвей Литвиненко, увешанный подсумками с патронами.
– Давайте отсюда, – грубо приказал он, – черти вас тут мордуют.
– Чего вы тут делаете? – спросил Миша. – Глянь-дядька Тимоха в бурьяны полез, пузом!
– Занятия учебные на пересеченной местности, – заявил Литвиненко. – Поняйте, пока вас самих не попересекали.
Приятели повернули обратно. Сенька хотел возвращаться домой, но Миша настойчиво предлагал продолжать задуманную поездку.
– А может, и взаправду Золотую Грушку сковырнули, под нею добра сто сундуков, бумаги с золотыми печатями, а в каждой печати по три пуда, – соблазнял Миша, – поразгребем землю, гляди, и обогатеем. Тогда твоего Луку паралик разобьет.
– Возьми его себе, черта старого, какой он мой, – протестовал Сенька. Что-то вспомнив, засмеялся, так что подрагивала каска на голове, точно на столбе чугунок – Ох и напужал его папаня, ужас. Как швырнет спинякой… и смех и грех…
Сенька подробно поведал другу случай на улице, и они долго перебирали мучительные казни, которым можно было подвергнуть злого старика.
На развилке дорог повстречали Василия Шаховцова. Он ехал на беговых дрожках.
– Василий Ильич, куда вы? – спросил Миша, поздоровавшись.
– В Богатун, – чуть придерживая лошадь, ответил Шаховцов.
– Не пропустят в Богатун. Там застава.
Шаховцов улыбнулся, боковым ударом вожжей подхлестнул коня и уже на ходу коротко бросил:
– Пропустят.
* * *
Бегунцы удалялись, оставляя на мокрой песчаной дороге узкий, будто саночный след.
– Из наших, – гордо сказал Сенька, – его батя хвалил. С орудиев, говорит, здорово стреляет, пометче, чем дед Меркул со своего шестичетвертового.
Набат не замолкал. Две церкви звонили по очереди, и, когда переставал звонить колокол сергиевской церкви, доносился отдаленный протяжный гул со станичного бока.
– Учиться некогда, – заметил Миша, – вот уже неделю не занимаемся. Все учителя на сходках… И чего учителям надо? Земли? Ну на что учителю земля?
– Земля каждому человеку нужна, – солидно говорил Сенька. – Ты погляди на человека, кто землю сроду не пахал. Какой-ся хилый, хлипкий, на ногах кое-как держится. Вот-вот, гляди, упадет. Коли пахать не умеешь, от земли отдаленный, то жри землю по три жмени утром, в обед и вечером, чтобы ноги укоренить.
Миша поморщился.
– Ну ее, землю жрать. Она невкусная.
– Тебе никто в рот ее и не сыплет. Ты к ней другой вкус имеешь; для нашего брата хлебороба она сладкая, бо возле нее растешь, из нее растешь…
Над ними нависли Красные скалы, размытые у основания дождями. Если глядеть вверх на обнаженные утесы, казалось, они чуть заметно раскачивались, чтобы со страшным грохотом ринуться вниз, круша все на своем пути.
Проехали, по обыкновению, рысью. Миновав урочище, выбрались на лесную затравевшую дорогу. Сенька перекрестился.
– Нельзя в шапке, – посовестил приятеля Миша.
– В ерманской можно. Басурманская.
К Золотой Грушке ребята добрались узкой тропкой, зигзагами вьющейся по яру. Лошади взбирались по-разному. Если привычная Черва шла спокойным шагом, осторожно укрепляясь ногой, как бы пробуя крепость почвы, то Баварец продвигался рывками, оскальзывался, обваливал глину, шарахался на боярышник.
– Непривышный к нашей местности, – незлобно определил Сенька, выбираясь на венец, – здоровый дурак, а какой-ся чумовой… Кабы вшивеньшй наездник, то и заурчал бы в щель, в терны головой… А вот и Золотая Грушка, Миша.
У кургана приятели спешились. В яме, вырытой у подножия руками казаков Жилейской бригады, скопилась вода. В воду плюхнулась лягушка, расплескав ряску.
– Ишь живучая, – удивился Миша, – на Саломахе уже ни одной не встретишь, осень.
Они поднялись на курган, уложенный влажными, примятыми пыреями и ковылем. С Золотой Грушки был отчетливо виден левобережный Богатун, раскидавший белые домишки по песчаной низине, вправо лежала станица, подернутая синеватым маревом, широко распласталась северная пологость Бирючьей балки, и за ней островерхо торчал темный спокойный лес. Со степи слабый ветерок приносил горькие запахи завявших полыней и шевелил кусты перекати-поля, застрявшего между донником и цепким будяком. Кураи колыхались, пытаясь оторваться от земли, но ветер был ленив и не мог помочь траве-путешественнице. Внизу шумела мутная Кубань, вспухшая к зиме. Корявые стволы дубов и чинар неслись по течению, ныряя и нагромождаясь, обнажая корневища, похожие на вислые казачьи усы, окунутые в пенную брагу. В горах проносятся ураганы, расшатывая деревья, вырывая их и сталкивая в реку. Кубань жадно облизывает берега, сбивает кипучей струей поваленные деревья, уносит их в низовье, сердито кружа, обгладывая и швыряя. А там, ближе к морю, когда река, остепенившись, сбавляет норов и мчится не с такой уже сокрушительной силой, за деревьями охотятся люди, встречая поживу на юрких килевых лодках, цепляя баграми и втаскивая на песчаные косы…
– Батя говорил, что нема на свете реки лучше нашей Кубани, – мечтательно сказал Сенька, глядя вниз. – Батя, как был на ерманском да австрийском фронтах, сто речек либо переплыл, либо перешел, задрав шинелю, а вот лучше Кубани нету, даром что злющая с виду. И казаков больше нет, как в России. – Сенька повернулся к Мише, коротко засмеялся, показывая щербатину рта – А как на фронте казака боятся, если бы ты только знал! Вроде такая же у казака башка, и рук только две, да и ног не сто, а вот супротив казака все жидкие, пужливые какие-сь…
Миша внимательно слушал друга, а потом, заметив что-то, приподнялся, пристально вглядываясь вдаль.
– Ты чего? – спросил Сенька, обрывая речь.
– Глянь, кого-сь догоняют. Ишь как!..
От станицы приближалась тачанка. Она мчалась по Камалинскому тракту, делаясь все больше, заметнее. За тачанкой, рассыпавшись точками по степи, скакали всадники.
– Может, надо наперерез пойти, – предложил Сенька, подтягивая подпруги – Раз из станицы уходят, видать, чего-сь напроказили.
Выстрелы защелкали где-то совсем близко, будто кто-то ломал пересохший валежник.
– Со скоку навкидок палют, – восхитился Миша, – погляди, кажись, из тачанки…
– Давай тикать отсюда, – заторопился Сенька, – а то как бы нам тут не накидали за будь здоров.
Спустившись с кургана, они рысцой потрусили к загибу главного тракта, круто падающего в этом месте в Бирючью балку. Выстрелы прекратились, и, когда мальчишки разочарованно решили, что стычка, так интересно начатая, уже закончилась, на них из-за тернов вылетела тачанка. Миша мельком заметил: кони забрызганы по самые уши и грязыо же закиданы дышла, барки и навесной козырек козел. В тот же миг сбоку вырвались всадники, и повозочный, метнув беспокойный взор, гаркнул и внезапно осадил четверик. С тачанки поднялся человек с черной бородкой.
– Карташев, полковник, с Песчаного хутора, – угадал Миша, – давай поближе. Ишь его сколько фронтовиков окружило.
Фронтовики здорово потрепали лошадей по бездорожью, кони дымились и устало покачивали тугими пучками подвязанных хвостов. Казаки держали винтовки на луках седел, и все они – и Павло Батурин, и Шульгин, и Писаренко, и Буревой, и другие – надвигались настороженно, так как на коричневом войлоке задка спиной вверх скорчился человек в офицерской шинели, точно собираясь прыгнуть.
– Какое вы имеете право нас задерживать? – спросил Карташев деланно спокойным голосом. Шея полковника, туго замотанная башлыком, казалась неестественно толстой. Белая папаха сидела будто на плечах. Из-под башлыка еле виднелись полоски погон.
Шульгин вместо ответа подвинул коня ближе, наклонился и, зацепив пальцами, рванул погон. Потряс им, поворачивая его, как зеркало, когда наводят Солнечного зайчика.
– Серебряные, – Шульгин скривился в недоброй улыбке. – Ишь какие тыловая офицерщина приспосабливает. Вроде и войны никогда не было, будто на параде в Катеринодаре-городе, перед белым собором, о правую ручку самого наказного атамана Бабыча.
Шульгин ловко выхватил кинжал, просверлил в погоне дырку, не торопясь продел пучок гривы и завязал концы.
Мелколицый Писаренко подтолкнул кряжистого Буревого.
– В полковники произвел, – ухмыльнулся Писаренко, – козырять теперь придется Степкиному коню-строевику.
Карташев знал нравы казачьей вольницы и остался неподвижным. Даже когда Павло Батурин вынул у него из кобуры наган и отстегнул портупею шашки, полковник только чуть-чуть скосил глаза.
– А этот, чи богу молится? Рачки стал, – указал Павло на человека в офицерской шинели.
– Хорунжий Самойленко ранен. Окажите помощь, – процедил Карташев, прикрывая веки точно от усталости.
Буревой толкнул хорунжего винтовочным дулом. Тот встрепенулся, рывком встал на колени и поднял руки.
– Послушный стал, – хмыкнул Буревой, – опусти да вытягни оружие.
– Куда подцепили? – спросил Павло, принимая оружие от Самойленко.
– Кажется, сюда. – Хорунжий повел плечом и покривился от боли, на рукаве постепенно стало расползаться мокрое пятно.
– Писаренко, слезай, перевяжи, – распорядился Батурин, – а ты, кучер, заворачивай до Жилейской…
– Что вы от нас хотите? – повторил свой вопрос Карташев, опускаясь рядом с Писаренко, ухаживающим за раненым.
Павло переглянулся с товарищами. Те утвердительно кивнули и выжидательно молчали, двигаясь пообок тачанки.
– Добеседовать нужно, господин полковник, – серьезно ответил Павло, – а то вы на митинге пошумели, пошумели, каким-ся царским генералом пригрозили, фронтовиков большевиками обозвали, да и ходу. Не поняли вас фронтовые казаки и имеют желание туман из мозгов разогнать…
Карташев молчал, уткнувшись носом в башлык. Колеса швыряли грязь. Миша приблизился к Батурину, покачивающемуся впереди молчаливой процессии.
– Дядька Павло, как же вы так? За Карташева нагорит от Гурдая-генерала, право слово нагорит.
Павло прищурился, подозвал Сеньку, потрогал его за острое колено.
– Вот твой дружок сомнение имеет, не нагорит ли нам от Гурдая за Карташа. Как ты мыслишь, Семен Егорович, а?
Сенька оправил каску, подтянул потуже подбородочный витой ремешок.
– В молчанку играешь? – улыбаясь, спросил Павло. – Чего же не отвечаешь?
– Нельзя так с бухту-барахту, дядька Павло. Коли у вас, у фронтовиков, как ты вот только говорил, туман в мозгах, так в моем котелке коровья жижа, навоз…
– Хитер, Семен, а? – удивился Павло, оглядывая мальчишку. – Не хлопец, а натуральный лис…
Батурина отозвал Огийченко, красивый черноусый казак, прозванный за остроту зрения «биноклем».
– Павло, а не за нами вон тот народ? – спросил Огийченко, неопределенно указывая куда-то влево, на кусты привявшего татарника.
Хотя никого не было видно, но словам Огийченко приходилось беспрекословно верить. Павло, приостановив коня, поднялся на седло, укрепился подошвами на мягкой козловой подушке и приложил ладонь козырьком.
– Верховые от станицы скачут, – удивился он, – кого узнаешь, Огийченко?
– Я уже давно узнал. Теперь померекайте, – отвечал Огийченко. Подцепив на губу рисовую бумажку, он полез в кисет и, шаря в нем, с ухмылкой поглядывал на Батурина.
– Да не мучай душу, бисов бинокль, – выругался Буревой, тоже оглядывавшийся вместе со всеми, но ленясь подняться в седло, натужно навалившись животом на луку.
– Старики, – зажигая спичку, ответил Огийченко, – сто бород на сотню коней. Видал твоего батьку, Буревой, да и твоего, Павлушка, папаню угадал, твой тоже там, господин Писаренко, блаженный титор с форштадтского собору…
– Раз с линеек послезали, верхи начали, дело сурьезное, – сказал Буревой, 'почесывая живот, – мозги будут вправлять, на место ставить.
Писаренко, бросив хорунжего, поспешно отвязывал повод и прямо с тачанки прыгнул в седло.
– Дурная курятина, хлопцы, – забеспокоился он, – кому-кому, а мне от батьки попадет. Последние дни не узнаешь, вроде кто его стручковым перцем натер, на живых людей кидается. А тут еще черт нас дернул стрельбу открывать, хорунжего пометили…
Старики рассыпались по степи и, постепенно округляя фланги, сомкнули кольцо. Павло подал знак, остановились. Хотя и заметив, что фронтовики враждебных действий не предпринимают, старики медленно, с опаской сближались. Вперед выдвинулся Лука Батурин.
– Сдавай оружию, – сурово потребовал он, нацеливаясь длинноствольной однозарядной берданкой.
Павло хмыкнул, оскалился.
– Может, без этих коников, батя? А?
Лука неожиданно вскипел, накинулся на сына:
– Для того я тебя, сукин сын, растил, чтоб ты против отцовской воли шел? Как на фронт идти, за требуху держался, охал, а тут за винтовку взялся. Своих казаков казнить, на начальство руку поднимать! – Обратился к Карташеву – Прошу прощения за таких окаянных детей. Чего хотите от нас требуйте, какие хотите муки им придумывайте.
Карташев искоса оглядел всех и, оценив обстановку, приподнялся.
– Я считаю нецелесообразным, господа старики, принимать репрессивные меры к… – он подумал, – заблудившимся… достаточно вашего родительского внушения.
– Слышишь – кричал Лука, – оглоблю тебе в ребрину, видишь – святой человек, а вы над ним изгнушались. Скидай оружию, а то худо…
Старики зашумели, надвинулись. Они были достаточно воинственно настроены и, безусловно, подогреты к драке. Зазорным считается поднять руку на старшего, а тем более на отца.
– Давай отдадим оружию, – шепнул Павлу Огийченко, – бес с ними. Все одно винтовки назад получим.
– Пошумят, пошумят, да и помирются, – поддержал Буревой.
Писаренко, видя, как ему сучит кулаки отец, также моргал, чтобы не заводить ссоры. Один Шульгин настаивал на отпоре, но, подчинившись большинству, снял вслед за всеми винтовку, подсумок и, неохотно развязав гриву, ткнул погон в руки Карташева.
– Так и быть, покрасуйтесь еще, господин полковник, – сказал он с недоброй улыбкой.
Карташев принял погон, небрежно опустил его в карман и, вторично попросив Луку Батурина не наказывать казаков, попрощался с ним за руку. Притянув к себе, шепнул:
– Передайте атаману, важно.
В широкой ладони Луки очутилась жесткая бумажка. Козырнув всем остальным, полковник легонько подтолкнул кучера. Тачанка укатила туда, где чернел лес Камалинского юрта.
Павло приблизился, ощутил жиловатую ногу отца возле своего стремени.
– Батя, – невинным голосом сказал он, – что там тебе за писульку сунул господин полковник?
– А тебе какое дело? – окрысился старик.
– Да мне особого дела нету, – Павло пожал плечами, разбирая повод, – для тебя хотел лучше.
Они поехали рядом.
– Как для меня лучше? Что такое?
– Бывало так у нас в полку, – повествовательно начал Павло, – даст офицер неграмотному казаку бумажку и прикажет снести вахмистру або сотенному старшине. Казак и рад стараться, как же – в особо-нарочные произвели, бежит сломя голову, отдает. Не успеет повернуться, а его вахмистр по морде раз, два, три…
– За что ж это? – изумился Лука.
– За дурость, за темноту, вот за что. В бумажке-то написано офицером: подателю сего, казаку такому-то, отпустить пару горячих, а третью до слез.
– Ну… – протянул Лука и покряхтел.
Павло, определив, что клюнуло, подморгнул Шульгину и добавил:
– Мне-то что, мне ничего, батя. А вот тебе как бы не оконфузиться: подашь записку атаману, а там написано, плюньте вот этому старику три раза на бороду…
Лука охал молча, продумывая сказанное сыном.
Взглянув раза два исподлобья, определил, что лицо сына серьезно и нет насмешливости. Толкнул его стременем и втиснул бумажку в руку.
– Прочитай про себя, Павлушка, – дохнул он, – пояснишь, что там нацарапал Карташев.
Павло развернул, глянув в конец. Внизу стояла мудреная подпись Гурдая, без упоминания чина и должности, и дата. Письмо адресовалось жилейскому атаману Велигуре.
«Приказываю до конца оказывать сопротивление организации Советской власти, большевистских комитетов, – про себя читал Павло, – угроза 39-й пехотной дивизии, вызванной большевиками из Тифлиса, неосновательна. Атаман области генерал Филимонов обратился к командующему Кавказским фронтом генералу Пржевальскому и наказному атаману Донской области Каледину с просьбой о помощи. Вооруженные силы, бронеавтомобили и бронепоезда следуют на поддержку войскового правительства. На разоружение эшелонов 39-й дивизии послан отряд от преданных нам 14-го и 18-го пластунских батальонов и 1-я кубанская батарея. Эшелоны будут подходить медленно, с промежутками, с количеством солдат не более 800, разоружить их будет легко. Окажите поддержку отрядам из надежных жилейцев, не способных к митинговщине и братанию. В городе нас поддерживает драгунский кавалерийский полк. Да поможет вам бог».
Первым желанием Павла было смять, уничтожить гурдаевское письмо. Потом, вспомнив, что содержание его, вероятно, заинтересует Егора Мостового, он мигнул Сеньке. Тот сразу смекнул в чем дело, подъехал с правого бока и, отвернувшись, протянул ладонь лодочкой.
Лука, ревниво следивший за каждым движением сына, схватил Павла за руку и одновременно взмахнул плетыо. Но Сенька по обыкновению успел угнуться, удар пришелся по сытому крупу Баварца. Конь взмыл и сильным махом помчался вперед. Миша, не желая оставлять друга, поскакал за ним, переведя Черву с крестовитого галопа в полевой карьер.
Павло увидел близко возле себя злое лицо отца, распаленное гневом.
– Батя, батя, ну, не дури, – заиграв желваками, попросил Павло, ощущая у узкого ворота бешмета цепкие отцовы пальцы.
Лука отпустил.
– Чего-сь мне не по сердцу твои делишки, – сказал он сурово. – Егорка Мостовой враг мой, а ты возле себя этого змееныша привечаешь. На что он тебе? Что тебе, кроху хлеба в рот кинет Егорка? Держи рот пошире. Он норовит язык оттуда выдрать со всем корнем. Казак, а с городовиками спутался, из Богатуна не вылазит, с Хомутовым хлеб-соль завел, да все на нас кулаками замахивается. – Лука попробовал спину, покряхтел. – Вроде мы ему, наподобие черных котов, дорогу перебегли. Ну, ему еще простительно, бо он всю жизню чужим быкам хвостяки крутил, известный лодырь, а вот тебе, Павло, стыдно. Тебе сам Гурдай родычем доводится, а ты супротив его прешь. Что тебе Егорка сулит? Какого там-нибудь сопливенького комиссаришку из себя разыгрывать, с «голенищей» под мышкой, собак по-над дворами дражнить? А вот Никита Севастьянович Гурдай, дай ему бог здоровья за тыщу лет, гляди-гляди, сам в цари выпрыгнет, а тебя если не самим министром поставит, то как-никак отделишко даст, в атаманы выдвинет. Думаешь, зря он тебе такого жеребца прислал? Жеребец – это не хустка с кружевом. Жеребец – это жеребец… А Сеньку я когда-сь с поганого ружья пристрелю. Позавчера прошел мимо меня, я был возле потребиловки, шапку не снял… – Старик, вспомнив, наклонился к сыну – Чего там в бумажке, а?