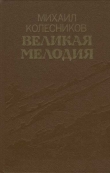Текст книги "Над Кубанью. Книга первая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА VIII
Лучшие полки из императорской армии, набранные на Дону и Кубани, были разгромлены в июньских боях, во время кровавой авантюры Керенского. Донские части Корнилова и кубанские дивизии 10-й армии потерпели поражение.
Жилейский казак Павло Батурин, вернувшийся из-под Тарнополя израненным и полуглухим, много мог рассказать о жестокой, ненужной бойне. Война утрачивала свои краски даже для казаков, которых вековой быт и традиции с детства готовили к бранным подвигам.
Теряло войско в далеких землях лучших сынов, гибли известные по станицам кони, и наряду с именами добрых казаков называли лошадиные клички.
Станицы обязаны были пополнять урон в своих земляческих полках. Стучали палками тыждневые, разнося новым призывникам атаманские повестки. Таяло население станиц. Появились невиданные в истории казачьего войска дезертиры, и их покрывали, их не казнили общественным презрением. Поговаривали о большевиках, несущих мир и свободную жизнь. Напряженно ждали телеграфных вестей из столичных центров. Не верила станица, что будто бы использовали кубанцев для борьбы с рабочими генералы Корнилов и Крымов. Еще со времен Екатерины, составляя гвардию императорской охраны, войско почти не знало случаев усмирения внутренних восстаний кубанскими полками.
Объезжал отдел генерал Гурдай, рожденный в Жилейской станице, и жилейцы с нетерпением ждали к себе именитого земляка, чтобы отменно принять его и получить ответ на сомнения.
По улицам атаманского проезда еще с утра принялись было вывешивать флаги, но выполнение этого обычая сразу же неприятно застопорилось. Какие поднимать флаги? Трехцветные, имеющиеся в изобилии в правленском запасе? Нельзя, скинули самодержавие. Красные? Старики не привыкли к новому цвету. Скрепя сердце решили вовсе отменить флаги. На колокольню форштадтской церкви выставили наблюдательный пост. Отсюда степь просматривалась на двенадцать верст, до самого венца Бирючьей балки, границы жилейских земель. Чтобы ненароком не прозевать генерала, по шляху выставили цепку верховых.
Павло Батурин, прндя в гости, расположился у окна. Из окна карагодинского дома отчетливо видны площадь и все приготовления на ней.
– Ишь, здорово встречать родыча моего приготовились, – пренебрежительно сказал Павло, отдирая шкурку твердой таранки крепкими белыми зубами.
– Невжель родыча? – усомнился Мефодий Друшляк.
Павло, оторвав слой тараночной спинки, нехотя жевал ее. Ответил не сразу, явно показывая пренебрежение к столь незначительному факту.
– До окончания старого режима был невжель. А теперь так себе, туды-сюды, не знаешь еще, каким родычем придется хвалиться. – Павло качнул головой на Хомутова: – Вон Хомутов, каким-ся каторжанином задается, кандальником, а для меня такая родня была б еще хуже атаманской. Нагляделся я их, кандальников, в Екатеринодаре-городе, как стоял с четвертой сотней на гарнизонном отдыхе. Идут не идут, цепями позвякивают, а за мотню железное кольцо прицеплено… срамота.
Павло повернулся к Хомутову всем туловищем и, заметив, что тот, хитровато усмехаясь, шепчет что-то Семену Карагодину, снова безразлично оборотился к окну.
На площадь собирался народ. Подходили кучками, мужчины и женщины порознь. Женатому казаку считалось зазорным ходить на виду у всех с бабами. На плацу неумело разворачивалась сотня казачат, пробуя парадный строй развернутых взводных колонн. Сотней командовал вахмистр Тимофей Ляпин, бывший гвардеец, вырядившийся по такому праздничному случаю в красную гвардейскую черкеску, обшитую золотым позументом.
Казачата ломали строй, шеренга то вьширала пузом, то заносила не вовремя фланги, и середина дугой выгибалась на поворотах. Ляпин метался вдоль строя, размахивал плетью, и перед Павлом мельтешили то лысая морда ляпинского жеребца, то бочковатые окорока.
– Мало каши ели, – презрительно процедил Павло, – чтобы по шнуру пройти, надо заранее понатореть, зад как следует помозолить.
К окну приблизился Семен и, наклонившись к Павлу, как бы накрыл его горячим дыханием своего тела. Расстегнутый ворот открывал кирпичное тело, покрытое седым, моховатым волосом.
– Нету ж натуральных строевиков, на молодятине выезжают, – прохрипел Семен над ухом. Глаза его были пусты по-пьяному, покрасневшие веки часто моргали, словно он пытался разобрать что-то важное, но ускользающее от взора. Семен привалился к Павлу.
– Душный ты, Семен, медведь, – Павло вздернул плечами.
Карагодин отодвинулся.
– Сразу сто пудов с плеч. Такого бугая на фронт не взяли?
– Фронт от нас не уйдет, – точно протрезвев, сказал Семен, – когда надо, в первых звеньях в любой огонь полезем босыми пятками. Надо будет, враз грызю фельдшер вырежет, она у меня своя, не покупная, на своем загоне приобрел. Когда хочу, тогда и вырежу. Ты о другом подумай, Павло, вот кому рот попекли горячими каштанами, вот кому душно, – он по очереди ткнул в Хомутова, Махмуда и Мефодия.
– Ты, кум, за наше здоровье не беспокой фронтового казака, – наполняя рюмки и проливая на стол, сказал Мефодий, – мы сами из своей духоты дырку продерем, сами как-нибудь каштаны остудим.
Батурин встал и, тяжело ступая, так что по следу заскрипели половицы, приблизился к Мефодию.
– Про чего Семен мелет? – положа две руки на плечи Мефодия, раздельно спросил он.
На крутой, вспотевший лоб Павла упали русые крученые пряди, он их стряхнул назад. Над бровями появились красные дужки. Мефодий чувствовал на плечах ладони, которые как бы прожигали ему рубаху.
– Без земли мы задыхаемся, – просто, как о чем-то незначительном, сообщил он, не двигаясь и не отстраняясь.
– Кто это мы? – стягивая пальцы на плече, спросил Батурин.
– Я, и он, Махмуд, и его аул, и Ванькино село, и наша станица.
– Ваша станица? Так вы у бога крайние были?
Батурин оторвал ладони так, что щуплый Друшляк шатнулся.
– Разве только мы страдаем? – расстегивая крючки бешмета, сказал Мефодий. – Возьми всю горную местность, закубанский рай лесной. Пропади оно пропадом то райское место, задохлись в нем, как в гнилом колодезе.
– Ну, ну, поясни про колодези, – буркнул Павло.
– Возьми, к примеру, станицы после перевала, после Волчьих ворот, Курджнпскую, к примеру, Апшеронскую, Хадыженку, Нефтяную, Ширванку, Самурскую, да хоть всю Майкопщину перебери. Муку-мученическую принимают в этих распроклятых щелях да лесах. Земли-то нет, один лес да камешока. А знаешь сам, кажись, Павло: казак в лесу не привыкший, казак – степовой человек, ковыльный, и в степи он как рыба в воде, а в лесу вроде как в тюряге, да и того хуже.
Павло потер нахмуренный лоб полусогнутым пальцем; подозрительно, словно впервые, оглядел собеседника.
– Чего-сь я не понимаю, поясни складнее. Чем же вы недовольные? Вот нам неудовольствие больше иметь надо. За каждый дрючок, что вы с гор притянете, насыпай зерна коробку, а то и мерку, как попу на новину…
Мефодий подскочил, хлопнул по коленям руками.
– Это вы лесом обижены?
– Да, мы, а кто же? – Павло нахмурился. – Все одно ваши данники. Нам-то еще ничего, под боком лес, хоть и не такой сподручный, больше дровяной, а все же лес. А вот в голом степу, по станицам Кавказского, Ейского отделов, там от вашего брата небось караул орут, обираловка! – Павло ломко расхохотался, потянулся к рюмке, сразу выпил, поймал пятерней вареник, бросил его в рот. – Лазаря запеваешь! Ну и народ, до чужого добра люты. Волчиная вся повадка.
Махмуд бросил есть, и Павло, мельком поймав его ненавидящий взгляд, сразу насторожился.
– Черкесский народ тоже мало земли имеет, – торопливо сказал Махмуд, – казаки землю завоевали – раз, князь забрал – два, ханоко отнял – три, и остался горский народ – с одной стороны – скала, с другой – камень, с третьей – дуб. Хоть со скалы вниз, хоть камнем голову убивай, хоть на дуб вешайся.
Батурин побагровел.
– Так ты что, думки имеешь у казаков земли оттягать? Казаков на дубовый сук, а сами в наши хаты, а?
– Ты меня не мог понять, Павел, – вразумительно сказал Махмуд, очевидно, сразу же подготовивший себя ко всяким неожиданностям, – нам ваша хата не нужна, у горцев своя сакля есть. Черкесский народ хочет делать так, как говорит солдат Хомутов Ванька.
– Хомутов? – переспросил Павло. – Вот откуда собачатиной воняет! Что ж ом велит вам делать, солдат Ванька Хомутов?
– Землю у князей забрать, ханоко прогнать, свой совет выбрать и им все дела решать. Так говорит Хомутов Ванюшка, солдат…
Павло уже не слушал взволнованной речи Махмуда. Он уперся тугим, нехорошим взглядом в Мефодия.
– Одни, выходит, у вас путя-дорожки, закубанский кум? У тебя, у азиятов и у городовиков. Постыдился бы казацкое званье срамить. Не могу разуметь, чего тебе еще надо? Хлеб чужой вволю едите, желуди имеете, дров, лесу всякого тоже невпроворот. Какую вам еще жар-птицу надо?
Мефодий, видя упористость Батурина, решил обойти его с другого бока. К тому же хозяйка испуганно моргала ему, советуя не поднимать ссоры, зная буйную вспыльчивость соседа.
Мефодий понимающе кивнул Елизавете Гавриловне, отставил рюмку, налил водки в граненый стакан и подал Павлу.
– Ты выслухай меня, Павло Лукич, со всем вниманием, а уж если я чего не так расскажу, можешь тогда и казнить меня как хочешь.
Павло принял стакан, скривился – Ну, рассказывай, а то что-сь я туго усмысливаю твои заковырки. Мудрено зуб заговариваете, вроде большаков.
– Я человек хотя и немного грамотный, но азбуки разбираю, – издалека начал Мефодий, – обучался только у полкового священника, потому что в наших горных станицах в мой школьный возраст школ не было. И вот обучавший меня священник так говорил мне: «Гляди, детка: будешь жить – всегда делай по правде и говори только правду». Вот эту-то правду я и хочу объяснить тебе, Павло Лукич, да и тебе, Иван Батькович, да и ты, кума, послухай. Вот ты, Павло Лукич, укорил меня обменным хлебом. Да, верно, казаки с горных станиц добывают больше всего хлеба в степных станицах, обменивая его на лес и лесные фрукты. А вот как достается этот кусок хлеба, я вам скажу: очень и очень тяжелым и непосильным трудом. Кум Семен не один раз побывал в наших местах, он знает тот труд. Лес, что мы возим, тяжко добывается: надо нарубить его в трущобах и оврагах, потому что тех лесов, какие были пятнадцать-двадцать лет тому назад близ станиц и на равнинных местах, давно нет, вырубили, там только пеньки да молодняк. Так вот, нарубив такого лесу, нужно его еще обтесать, да не как-нибудь тык-мык, а с уменьем, потом дать просохнуть, чтобы больше положить па воз, да проездить на «линию» самое малое четыре-пять недель, а то и больше, потому что завсегда выезжать приходится осенней порой, после уборки, когда дожди пойдут, а дороги на равнине, сами знаете, зарезные. Едешь, ночи не спишь, лежишь под колесом и глядишь, чтоб лошадей аль быков ие сперли. А думаете, кражей не было? Были.
– Нема кражей у нас, – бормотнул Павло, – как вы к нам с войной таскаться меньше стали, так тишь, ничего не слышно.
– Слышно, Павло Лукич, слышно, – продолжал Мефодий, отнюдь не задетый оскорбительным тоном Батурина, – на плоскости народ не в пример к нашему вороватый, по степям разбег большой, балки длинные да глубокие, шута два упоймаешь. Только прошлой ночью человек кричал, за Кубань было слышно. Не знаю, как кому, а у меня жилы смерзли, до утра глаз не слепил. «Что делают?» – думаю…
– Говори, про что начал, – перебил Павло, – не участковый есаул, в нашу жизню не путайся.
– Так вот, уворуют тягло, повозку-то кидать надо? На себе не потянешь ее? Нет. Бросишь повозку у такого куманька, как Семен, а сам с кнутиком до дому. Путешествуем грязные, голодные и холодные, от дороги изнуренные до последней степени. Почему же все это? За ради удовольствия вот, мол, фон барон Иван Петров в путешествию отправился? Играй сто оркестров. Нет. Через то волочемся с гор своих, как цыгане, что обездоленные мы. Негде посеять нам своего хлеба, земли много, не обидели, а вот пахать нечего, вся под лесом. – Мефодий уперся костистыми локтями в сгол, охватил руками голову и горько покачал ею. – Сытый голодного не разумеет. Ясно, что своя рубаха к телу поближе, поплотнее. Лес-то тоже не даром достался, Павло Лукич, если все хочешь знать. Платили мы десятки лет попенный сбор в доход войску за срубленные деревья. Больше двух миллионов выплатили попенных денег войску. В своих юртах, па своих юртовых наделах платили. А что это, если разобраться? Да это поземельный налог. А вот спросил бы я вас, линейские казаки, платили вы за проданный хлеб, полученный на своих наделах? Нет. А мы десятки лет платили и только с тысяча восемьсот девяносто пятого года прекратили эту дань, да и то после того, как устроили десятка два лютых побоищ с лесниками на мосту Белой речки, под Майкопом-городом. Был такой у нас внутренний враг, лесничий Пальчинский, обокрал всех и потом – видать, от стыда – жизнь прикончил, сам себе копыта отодрал.
– Лес рубаете, пеньки торчат, а пахать нечего, – угрюмо произнес Павло, вставая из-за стола и разыскивая по всем углам шапку. – Надо корчевкой заняться, рукава подсучить, штаны закатать повыше, и земля будет.
– Отдайте из войскового капиталу наши два попенных мильона, мы не то что пни повыдираем, мосты на реках поставим заместо сегодняшних калек, разваленных, переправы наладим.
– Маку вам, – зло перебил Павел, надевая шапку, – два мильона! Ишь чего захотели. Вас с потрохом продай, столько не выручишь.
– Маку там или еще чего-нибудь, Павло Лукич, а своего добьемся! – запальчиво выкрикнул Мефодий. – Мы эту колоду карт раскроем, что нам старый режим бросил. Кинем по столу, может, и нам очко-молочко попадет, не все ж водичка.
Павло подошел к Мефодию и смерил его тяжелым взглядом.
– Ты что ж, может, за нашими землями прибыл? Азиятов еще с собой приволок!
– А может, и так.
– Что? – скрипнув зубами, прошипел Павло, – что? – Он поднял руку, расправил пальцы и неожиданно схватил Мефодия за грудь. – Я с тебя двух сделаю, мышь поганый.
Все кинулись к Батурину. Хозяйка, вскрикнув, села на лавку. Павло обвел всех мутными глазами, разжал кулак.
– Идите вы все… – Не докончив, направился к выходу. У дверей обернулся – А ты, Семен Карагодин, зря с такой сволотой путаешься… Богадельню открыл. Азиятов, городовиков, чумаков понасбирал. Тебе, казаку, стыдно…
– Зачем вы его разобидели? – шептала Елизавета Гавриловна. – Павел Лукич человек хороший. С отцом не ладит, пришел душу отвести, а вы его со злым сердцем отпустили.
Семен, прикрыв дверь, позвал всех к столу.
– Пройдет. Спереди горячий, а сзади лед. Присаживайтесь, гостечки дорогие. Ты чего, Хомутов, за картуз взялся, положи его на место, не убегит… Гавриловна, ну-ка тащи на стол лапшевник…
Хомутов говорил с Махмудом, деловито расспрашивая его о жизни в черкесских аулах, много ли пришло горцев с фронтов, нет ли стычек с окрестными жителями. Махмуд рассказывал Хомутову обо всем, и гот слушал, черкая по полу лозинкой.
– Про большевиков знаешь что-нибудь? – неожиданно спросил он, внимательно присматриваясь к черкесу.
– Нет, – откровенно признался Махмуд. – Большак был казак-абрек, у нашего князя хотел кобылу украсть и аул спалить. Давно это было, очень давно. Кончили Большака-абрека в нашем ауле. Мой дед Алдаш убил. Так, может, большаки того Большака маленькие ребята…
– Большевики все то сделают, что я тебе раньше говорил. Земли дадут, князя за шиворот да в Кубань. Про Ленина слыхал?
– Нет, не слыхал, Ванюша, – точно стыдясь, признался Махмуд и тяжело вздохнул, – далеко в горах живем, ничего не слышим, где хорошие люди живут, когда к нам придут. Ленин кто такой будет?
– Ленин над всеми большевиками главный, Махмуд.
Оставив задумавшегося черкеса, Хомутов подошел к Мефодию и Семену. Они рассуждали у окна, изредка поглядывая на площадь, где скакали верховые, стреляли, в воздух из длинноствольных берданок. Это были дозорные, прилетевшие из сторожевой цепи с известием о приближении отдельского атамана. Звуки выстрелов глухо отдавались в комнате, и коротко дребезжало стекло.
Мефодий, перебравший горя и водки, довольный сговорчивым собеседником, продолжал сетовать на свою судьбу.
– Отменные мы какие-то, кум Семен. Погляди на вашего брата линейца или черноморца. У вас краска на лице, да и сами вы по себе стройненькие, объемистые, а поглядишь на нас, горных казаков, разве мы такие? Сухие, черные, как граки, глаза злые, щеки запавшие, мясо не уколупнешь ногтем, как на сухом чебаке. А отчего такая богопротивная обличья? От недоедания, непосильного труда, от того самого леса, на который Павло позавидовал. Ведь как взял он меня за грудки, дух в пятки ушел. Что я перед ним? Сморчок. Стукнет сверху, ну и войдешь в землю, как гвоздь, по самую шляпку. Пережил я все тяготы вместе с горскими казаками. Обратился к вам с открытой душой… За многие годы наболело в моей душе, ведь горскому казаку слава-то взаправди казачья, а жизнь собачья… горькая жизнь… туды ее за ногу…
Мефодия перебил шумно ворвавшийся Мишка:
– Папаня! Маманя! На Бирючьем венце Гурдаева машина показалась, сам видел с колокольни. Лука уже коней в линейку запрягает, сам шлеи протирает, на бабку кричит.
– Поел бы, сынок, – просила мать, освобождая край стола и вытирая его тряпкой, – я тебе ножечку куриную оставила, вареники в печи в глечике, небось зашкарубли, лапша есть, пирог с гусачком. Ишь как похудел, сыночек, избегался, одни глаза остались. – На горского казака, а то и черкеса стал похож. – Хомутов закурил. – Точь-в-точь Махмуд. Еще на два пальца подтянется, и готов новый Махмуд.
Друшляк, пьяно раскачиваясь, подошел к Мише.
– Верно: чернявый, – икнул он. – Кума, а кума! Мы с кумом спорили под возом… Рудый же был Мишка, а?
– Я выгорел, – заявил Миша, не обращая внимания на назойливого кума.
– Сколько уже ему, а? – интересовался Мефодий, туго соображая, какой именно вопрос им сейчас задан. – Годов сколько Мишке твоему?
– Считая с покрова, пятнадцатый пошел, – приосанясь, ответил Семен и крякнул, – пятнадцатый аль еще четырнадцатый? Слышишь, старуха?
– Пятнадцатый, конечно пятнадцатый, – охаживая своего птенца, говорила мать и не успевала подавать и убирать снедь, хватаемую наспех сыном.
Кончив есть, Миша поднялся и перекрестился. Видя улыбку Хомутова, показал ему язык и, выйдя, ужимками позвал мать.
– Мама, мне бы сапоги новые да бешмет, – попросил он, похлопывая ее шершавую руку, – все наши ученики из высше-начального в строю будут. Можно, мама?
– Можно, для тебя все можно, сыночек.
Она заторопилась. Со звоном открыла сундук, покопалась в нем, вынула шелковый бешмет, пояс, кривой ученический кинжальчик, козловые сапожки, сшитые у азията-чувячника, и шапку из серого подрезного переростка. Пошла в коридор и там, положив одежду поверх одеяла, любовно оглядела сына. Миша наскоро поцеловал ее в щеку, подтолкнул к двери.
– Мама, ну иди, гости ж ожидают, а то мне нужно одеваться.
«Чужим скоро будет сыночек, – подумала она, уходя. – Раньше, бывало, купала сама всегда, а теперь уже при матери одеться стесняется».
Пасхальный перезвон колоколов почему-то не приносил прежнего мирного успокоения. В тяжелое время вырастал сын, и она не могла уже накрыть его крылом и защитить от налета ястреба, как защищает квочка своих беззаботных цыплят.
ГЛАВА IX
Навстречу Гурдаю сотню почетного конвоя лично повел Велигура. Атаман горячил коня и широким жестом оправлял ниспадающие атласные отвороты касторовой черкески. Велигура прекрасно держался в седле, и сознание того, что за ним мчится сотня казачьей молодежи, еще больше бодрило его, забывались пожилые годы, сглаживалась неуверенность в сегодняшнем непонятном времени. Вот едет с инспекторским объездом атаман отдела, – и в прежние времена были бы короткие сомнения в четкости парадного приема: не подкачает ли строй, удадутся ли скачки, понравится ли генералу обед? Теперь другие сомнения точили сердце Велигуры, и, встречая гостя, он не ведал, что привезет тот, – может, хорошее, может, настолько дурное, что нужно бы сдерживать ретивый бег коня, чтобы позже узнать неприятные вести.
Сотня шла по накатанному до блеска главному шляху. Подковы оставляли резкие следы на дороге, кое-где шип вырывал землю, и из-под копыт летели ошметки. Все казачата надели черные черкески, шапки с синими верхами, красные парадные башлыки. Бурки были приторочены к седлам, туго пригнаны и застегнуты тренчиками. Сам вахмистр Ляпин следил за седловкой и не одну зуботычину отпустил, наблюдая за не совсем умелыми руками молодых казаков. Позади сотни, на отшибе, чтобы не запылить, вели заводных лошадей для отдельного атамана и свиты.
Велигура привстал на стременах. Превалив через гребень, тихо катилась машина, поблескивая ветровым стеклом. Атаман полуобернулся, потряс плетью. Сотня рванулась на карьере, распластались гривы и красные башлыки. Не сбавляя аллюра, взводы перестроили фронт влево. Фланги выскочили на обочины, с треском ломая придорожный бурьян. Велигура лихо осадил коня и лающе отдал рапорт генералу.
Гурдай стоя принял рапорт и бодро поздоровался с сотней. Казачата ответили вразброд неокрепшими петушиными голосами. Генерал гмыкнул, пожевал губами.

– Ничего не попишешь, – через плечо сказал он свитским офицерам, – война. Хорошо хоть казаков нашли, а то могли девок водрузить.
Подвели заводных коней. Генерал заметил: с оранжевых чепраков срезаны царские знаки, сохранившие на сукне явственный, не вылинявший след витых вензелей. Это могло быть и хорошим и дурным предзнаменованием, но в данный момент незначительная деталь неприятно ущемила его сердце.
Ляпин, оттеснив молодого фатоватого адъютанта Самойленко, услужливо поддерживал стремя, засиявшее на солнце. Гурдай отстранил вахмистра и молодо прыгнул в седло. Прыжок достался нелегко. Генерал, покряхтывая и отдуваясь, нарочито медленно освободил полы черкески и подсучил рукава. Кортеж шагом тронулся к станице, сопровождаемый глухо посапывающей машиной, которой управлял ко всему безразличный солдат-шофер с георгиевской ленточкой в петлице гимнастерки.
У крайних планов всадники перешли в рысь, поднимая едкую кудлатую пыль. Не отставая от отдельского атамана, скакал Самойленко, как бы нарочито подчеркивая свою типичную для казака посадку на необлегченных стременах. Часовые, занявшие голубиную вышку колокольни, дали условные сигналы и кубарем скатились вниз. Дирижер постучал палочкой по раздвижному пюпитру и выпрямился известным профессиональным жестом, освобождающим плечи. Трубачи откашлялись, вдели мундштуки и приложились губами к кислой латуни.
Капельмейстер, определив по выпученным глазам подчиненных полное внимание, подбадривающе кивнул и взмахнул рукавами парадной белой черкески. Трубы рявкнули марш «Под двуглавым орлом». Гурдай сошел с коня, оправил одежду и оружие. Казенный марш, услужливо состряпанный из резких однородных звуков, подражал тупому удару солдатских подошв, марширующих по бесчисленным плацдармам империи. Генерал любил эти звуки, олицетворяющие необходимую верноподданность бессмыслия, но сейчас он удивленно приподнял брови, обратился было к адъютанту, поймал восхищенный, понимающий взгляд хорунжего, махнул рукой и направился между душных шпалер к церковным воротам. Избранные форштадтские старики выдвинулись вперед с хлебом-солью. Атаман остановился, снял шапку и трижды перекрестился на церковь. Не торопясь приблизился к старикам, принял хлеб-соль, приложил к хлебу пушистые усы, пропахшие табаком. Хлеб передал в услужливо протянутые руки адъютанта.
– Здравствуйте, дорогие станичники, – сказал Гурдай и под гул ответного приветствия троекратно облобызался со стариками. Садясь на лошадь, атаман взялся за луку, задержался.
– Как они, форштадтцы? Замечена ли большевистская агитация? – тихо спросил он Велигуру.
– Что вы! Что вы, ваше превосходительство! Моя станица только за царя, – поспешно выпалил Велигура, – за царя, – еще раз дохнул он.
– Чеснок уродился? – спросил генерал.
Велигура от неожиданности быстро замигал жиловатыми веками.
– На грядках сеем чеснок… в огородах… уродился, ваше превосходительство.
– Заметно, по вас заметно, Иван Леонтьевич, – смягчил Гурдай, поименовав атамана по имени-отчеству.
Велигура сразу расцвел, и по лицу сеточно запестрели морщины.
– Люблю чеснок. Еще с холерного года пристрастился. Водку и чеснок никакая холера не берет.
Гурдай ехал рядом, уже не слушая атамана. Вернулся к прерванной мысли.
– Запомните, Иван Леонтьевич, – сказал он, глядя на нервные уши жеребца, – царь в прошлом, царя бесповоротно свергли. Временное правительство – эфемерная власть, которая вот-вот обратится во флюид, – генералу понравилось это внезапно пришедшее на ум слово «флюид».
– Да, да, во флюид, – повторил он и образно освоил его смысловое значение, представив Керенского, Львова и других властителей вроде Церетели, Прокоповича, Родзянко рассасывающимися в прозрачном воздухе, как частицы дымка или влажные пары тумана. На смену им выступали ясные очертания умных мужей, дальновидных государственных деятелей, поддержанных клинками трех войск, объединенных идеями юго-восточного союза. Кубанцы, донцы, терцы – вот реальная сила. Генерал приосанился, мысль была весома и ощутима. Заметив растерянность Велигуры, внутренне подосадовал, что силы, на которые придется опереться в будущей борьбе, чрезвычайно инертны и некультурны.
– Казаки вашей станицы должны ориентироваться прежде всего на самостоятельность, – произнес генерал тоном приказания. – Кубань должна быть самостийна.
Атаман покорно наклонил голову. Немногое он понял, и запутанность высказываний начальства навела на него первую тревогу.
Они двигались по улице, запруженной народом. Оркестр на линейках двинулся вперед, чтобы встретить гостя в центре, у правления. Спустились к Саломахе, шагом переехали гулкий деревянный мост. Гурдай с наслаждением глядел на знакомую ему с детства реку, местами заросшую чмарой и кугой. Протянулся узкий след, четко обозначенный по желто-зеленой ряске, – недавно проехала душегубка, подгоняемая длинным богом. А вон вдалеке, возле глинища, откуда начиналось поселение иногородних, пунктирно чернеют поплавки сетей. Велигура с опаской наблюдал за генералом, стараясь уловить, на какие именно непорядки он обратил внимание. Может, кто с того берега показывает генералу дулю? Атаман прищурился, вглядываясь.
– Рыба не перевелась? – спросил Гурдай.
Велигура вздрогнул. Не так давно в верховье отравили воду, заложив на вымочку неразрешенное количество конопли. Двое суток чурбаками плыли по реке полузадохшиеся сазаны. Их вылавливали руками, й с неделю по станице ходили раздувшиеся от рыбы свиньи.
– Ловят рыбу, – схитрил Велигура, уклоняясь от прямого ответа.
– Надо бы смелее спускать воду, Иван Леонтьевич, заквасите реку. Торф скоро образуется.
– Как ее спустишь, – отмахнулся Велигура, – мельники не дадут.
– Да-а-а, – протянул Гурдай. – Мельницы тоже нужны.
С бугра спускалась паровая машина. Паровик, украшенный огромной трубой, клубился дымом, и казалось – вот здесь, в станице Жилейской, люди присутствуют при начале эры, впервые зародившей паровой двигатель.
– Что это еще за новость? – кисло спросил генерал, наблюдая, как жерновами катятся железные колеса.
– Первая молотилка-самоход Ильи Ивановича Шаховцова. Чудо современной техники, – объяснил приосанившийся Велигура, в душе завидовавший изобретательному механику.
– Шаховцов Василий, артиллерийский поручик, родственник вот ему? – спросил генерал, указывая плетью на приближающееся чудо современной техники.
– Илья Иванович Шаховцов – отец Василия Шаховцова, – услужливо доложил хорунжий, предвосхищая ответ атамана.
Со свистом крутился маховик, гоняя визгливую цепь. Питающая бочка висела сбоку на охватах, откованных из шинного железа, и казалось – вот-вот она перетянет и перевернет пыхтящее чудовище. Топливо – солому – везли па молотилке-барабане, прицепленной к паровику. Два парня скидывали солому вниз на помост; кочегар искусно скручивал солому двухрожковыми вилами и швырял в топку тугие пучки, моментально охватываемые пламенем. Жар он помешивал железной шухальницей, поминутно клацая металлической заслонкой. Пообок ко-чегара, как капитан на низкобортном грузовозе, стоял Илья Шаховцов, наваливаясь всем своим плотным небольшим телом на штурвал.
Поравнявшись с атаманом отдела, Шаховцов приподнял картуз. Кочегар потянул цепку свистка. Паровик пронзительно заорал. Испуганный жеребец рванул в сторону, и генерал больно зашиб колено о столб телефонной линии. Самойленко подскочил к генералу.
– Ваше превосходительство! – с подчеркнутой озабоченностью воскликнул адъютант.
– Ничего, – Гурдай скривился, – ничего. Черт их знает. Азия…
Мимо тарахтели пожарная бочка и ручной пожарный насос с гофрированным рукавом и шлангом, обмотанным накрест на ручки «качала». Все это было прицеплено к барабану. Насос катился на буккерных колесах, на него цеплялись мальчишки, отгоняемые парнем, оседлавшим бочку. Мальчишки дразнили парня, швырялись пылью и сухими комками грязи. Орава, рав-нодушная к именитому гостю, пробежала со смехом и улюлюканьем. Гурдай же после ушиба потерял хорошее настроение.
– Кто бы мог предполагать, что станичный атаман окажется настолько значительным меценатом, – ехидно проговорил он, так чтобы слышали только сопровождавшие его офицеры.
Офицеры сдержанно посмеялись. Шутки начальства всегда остроумны, тем более генерала, получившего высшее военно-юридическое образование, носившего поверх гозырей черкески университетский значок. Офицеры же – питомцы скоропалительных военных училищ, бывшие воспитанники Александровского реального училища и гимназий.
Притрусил отставший Велигура.
– Высшая техника, – язвительно произнес генерал, потирая колено.
Атаман не понял насмешки, просиял.
– Спрос на самоход Шаховцова очень большой, – сказал он. – Обычная молотилка оторвет для перевозки десять пар лошадей. Шаховцов же – самоходом с тока на ток. Способный хозяин, подал прошение о приписке в казаки. Как вы думаете, ваше превосходительство?
– По-моему, – генерал пожевал губами, – если не будет порочащих политических обстоятельств…
– Шаховцов – надежный!
– Сын?
– А что сын?
– Ничего. Конечно, слухи, но имеются и факты. В полку переколотили почти всех офицеров, а поручика Василия Шаховцова… оставили жить.
Грянула музыка. От кирпичного здания правления отделились почетные казаки, украшенные медалями и крестами. Они преподнесли хлеб-соль. Гурдай спешил конвой, снял шапку и, незаметно прихрамывая, пошел им навстречу.