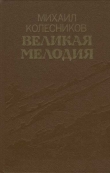Текст книги "Над Кубанью. Книга первая"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА II
Двор Егора Мостового на краю станицы, у устья Саломахи, впадающей в Кубань через камышовое гирло, поросшее по берегам ивами и густым вербовником.
После сдачи станичному сбору знамен 2-го жилейского полка Мостовой возвращался домой, ведя в поводу коня, заморенного утомительным маршем. Сенька находил дорожки, цеплял отцову руку, тянул за собой.
– Сюда ступай, батя. Вот сюда, тут хорошо идти, золы накидали… Батя, чего же ты осклизаешься? Так
/ и упасть можно.
Дождь немного притих. Кое-где сквозь порванные облака проглядывали звезды. Тучи двигались за Кубань, к хребту, прорывы закрывались, и блеснувшая перед этим лужа угадывалась только по бульканью редких дождевых капель.
– Тьма-тьмущая, Сенька, – сказал Егор, нащупывая влажную спину сына, – как у тебя с обужей?
– У меня чеботы добрые, батя, – успокаивал отца Сенька, – у меня онучи из шинельного сукна, дядька Павло отдал свои, фронтовые.
На Сенькиных ногах были худые опорки, набитые холодной грязью. Двигаться было тяжело, пальцы, казалось, раскисли. Сенька храбрился, стараясь не беспокоить отца при первой же встрече после трехлетней разлуки.
– Лука все время нашим паем пользовался? – спросил на ходу Егор.
– А как же. Из году в год, без передыху пшеницу-белокорку сеял. Первые два года родила ничего себе, а на третий – подкачала.
– Стало быть, истощил землю?
– Ну да, – подтвердил Сенька, – по своим паям пшеницу пускал вперемежку то с подсолнушками, то с кукурузой, а на нашу навалился одним зерном. Жирная, говорит, земля, черт ее не возьмет.
– Заработанное тобой сполна отдавал?
Сенька помялся.
– Как сказать, батя. Сапоги да тулупик справил, как мы и рядились. Ничего себе, юхтовые сапожата – матрос Филипп пошил. За Батуриным еще пять четвертей гарновки да чувал кукурузы рисовой. Отдать должен.
– Сапоги-то сносил?
– Где там сносил, – мальчишка засмеялся. После короткого молчания добавил – Дед Лука только показал их, а потом в сундук. Я ему говорю, отдай, зима подошла, ногам зябко, а он кнутягой…
– Бил? – тревожно перебил отец.
– Бил?! – Сенька хмыкнул. – Так я ему и дался. Им кисло меня бить… Ну их… я их…
Голос Сеньки задрожал, осекся. Отец приблизился вплотную. Заметив, что сын ежится в женской холодай-ке, перекинул винтовку со спины на плечо, расстегнул шинель, худенькое тело прильнуло к нему.
– Кнутом и палкой? – спросил Егор. Он шел, стараясь попасть в такт мелким Сенькиным шагам. – А может, и… кулаком.
– Всяко попадало, батя, – признался Сенька, – только ты не серчай на них, плюнь. Мне еще не так. Дед Лука замахнется, а я угнусь. Право слово, не было больно, батя. Провалиться на этом месте!
Сенька, понимая состояние отца, пытался его успокоить. Егор оценил эту невинную уловку, ему хотелось как-то задушевней приголубить сына, но гордая казачья суровость сдерживала.
– Чего же ты Луку в свой черед не потянул кнутом, а?
– У него не вырвешь, цепкий дед! Зато я у Луки раз по осени курицу-несушку упер, – похвалился Сенька, вздрагивая от внутреннего смеха, – вот убей меня цыган молотком, не брешу.
– Как же ты? Ну, ну, расскажи.
Сенька подробно поведал случай с похищением курицы. Егор коротко посмеялся.
– А хату доглядал?
– Нельзя сказать, чтобы здорово, – вздохнул Сенька, – забегали раз с Мишкой Карагодиным, на завалинке посидели, да домой: страшно. В стрехе что-сь свистит. Дедушка Харистов рассказал нам, что когда-сь давно возле нашей хаты казаки черкесов побили, а он отца своего с бердана невзначай подвалил, – так и вовсе страхота. Еще мертвяки приснятся, ну их… Забор наш вчистую соседи растянули. Сарайчик и тот наполовину раскрыли.
Дальше двигались молча, каждый был занят своими мыслями. Мимо – просвечивающие сквозь щели ставень оконца хат.
Иногда доносились глухие звуки песни, переливы гармоники, пьяный шум – праздновали приход казаков с фронта. В большинстве домов было тихо, а во дворах безлюдно. Знал Мостовой – немало станичников сложило головы в далеких и скупых землях. Не всем был праздником приход жилейских полков, не каждой семье радость.
Вот и окраина. Здесь, ближе к обрыву, жили либо извечная казачья голытьба, либо недавно отделенные семьи, не успевшие еще поставить службы и заборы. Вместо огорожи тянулись канавы, обсаженные тоненькими деревцами.
Зашумели камыши, с гирла потянуло гнилым холодом. На путников надвинулся знакомый размашистый тополь, слабо покачивающий голыми ветками. Белым пятном обозначилась хата.
Забор и впрямь исчез. Повырывали даже столбы, оставив линию ямок, сейчас до краев заполненных водой. Вправо чернели амбары и длинный, в три звена, сарай соседа Игната Литвиненко. Мостовой на минуту задержался, будто оценивая повреждения, сжал ремень винтовки и направился во двор, подгибая сапогами стеблистую податливую лебеду.
У тополя Мостовой остановился, накинул на сучок повод и медленно подошел к хате. Какой маленькой и убогой показалась она ему! Стены отсырели, завалинку размыло; вся хатенка осунулась и скосилась. Ставни и двери были заколочены, возле трубы шевелилась сурепка, выросшая на крыше.
В этом неказистом жилище родился Егор Мостовой. Во дворе, полого уходящем в густой очерет, прошла его юность. Тут же отпевали родителей, и отсюда, незадолго перед войной, отнесли на погост его тихую, некрасивую жену. Егор провел шершавой кистью по лбу, отгоняя ненужные сейчас воспоминания, выругался сквозь зубы и начал зло отбивать прикладом Доски, накрест прибитые к двери. Отрухлявевшие за три года доски легко кололись, и он снял их по щепкам. Толкнул ногой дверь. Она открылась без скрипа, как будто провалилась внутрь.
В сенях Егор чиркнул спичкой, огляделся. Отовсюду несло затхлостью. Дощатые стенки зацвели и покрылись сырым грибком. Не гася спички, переступил порог хаты и, тяжело шагая, прошел к печи. Опустился на лавку, скрипнувшую под ним, и широко расставил ноги. Печь неприветливо зияла черным овалом, и на шестке, будто пемза, застыла комкастая кизячная зола. На столе, лавке и иконе толстый слой пепельной пыли. Сенька осторожно, боясь вздохнуть, подсел к отцу. Спичка догорела в корявых пальцах Мостового, затухла, красновато затлел уголек, почернел, скрутился. Егор притянул к себе сына.
– Ну, вот и война кончилась… отказаковались… Вот мы и опять вместе… дома…
Сеньке до слез стало жаль отца. Он шмыгнул носом и приник к щетинистой и какой-то плоской отцовой щеке…
– Ничего, папаня, – утешил он, – мы тут все мигом приберем, почистим. Мишку покличу Карагодина, Ивгу Шаховцову. Хочешь, я у деда Луки занавеску попру?
Егор медленно провел по голове мальчика широкой шероховатой ладонью и ощутил мокрые глаза и щеки.
– Семен, чего ты? Брось… А еще казак.
Мальчик рывком уткнулся в отцовы колени, пахнущие конским потом и кислым сукном. Плечи Сеньки подергивались.
– Зря, совсем зря, Сенька, – утешал его отец нарочито веселым голосом. – У нас еще будет жизня. Что же мы, так век и будем, как бурьян на межнике?
Сенька заглатывал слезы.
– Федька Велигура, атаманский, говорил… казаки с походу полные седловые подушки пятериков золотых привозют. А ты?.. Война насовсем кончилась, а пятериков нема.
Мостовой приник к уху Сеньки колючим ртом.
– Эх ты, Семен Егорович, какие там пятерики. Видал, бирюками казаки возвернулись?! У атамана коленки дрожали… Война только зачинается… Чего ж ты кручинишься, сынок?
Мостовой завел коня в сени, расседлал, растер ему спину и ноги попонкой и, вытряхнув из вьючной сетки мелкое сено, потрепал гриву.
– Ну, привыкай, Баварец, к кубанским харчам.
Взвалив тяжелый вьюк на плечо, внес в хату. В темноте полез в правую суму, нащупал мешочек с ружейной принадлежностью и, позвенев в нем, вынул огарок толстой восковой свечки.
– Все требуется хорошему казаку, – сказал Егор, засветив огонь, – а полковому командиру тем более. Карту ночью читать…
Откуда-то подуло, пламя заколебалось.
– Батя, а как же свечка на ветру? Не гаснет?
– Ишь догадливый, – удивился Егор, – верно сообразил. В походе свечка пожар. Это мы в дурака в теплушке играли, осталась.
Из той же сумки появилась саква с галетами, банка с тушеным мясом. Мостовой вскрыл консервы кинжалом. Отец и сын поужинали неприкосновенным запасом, звучно разгрызая окаменевшие галеты. Сеньке пришлись по вкусу и сухари, и консервированное мясо, приятно попахивающее лавровым листом.

– То-то вы по три года воюете, – заметил Сенька, уписывая за обе щеки: – Харч у вас – дай боже москалю под пасху…
– Москалю-то, может, и дай боже, а вот… – Егор наклонился, пощупал Сенькины ноги, – ты ж простынешь, ай-ай-ай… Скидай опорки, грейся. Что ж ты молчишь?
– Ничего, – солидно говорил Сенька, отставляя набитую липкой грязью обувь, – я привышный. Меня никакая хвороба не берет.
Он завернул в попону посиневшие ноги и сразу ощутил приятную теплоту и сухость. Егор, наполнив торбу зерном из саквы, вышел в сени. Оттуда послышалось храповитое ржание. Мостовой возвратился, отряхивая рукав.
– Жадный до зерна Баварец! Пока торбу навесил, всего обслюнявил. Умный конь: как пожрет зерно, сам торбу снимет, абы было за что зацепиться.
– А как же ты коня достал, батя? – спросил Сенька, прижимаясь к отцу плечом. – Ты же пеши ушел.
– Хозяина убили, конь жив остался, – нехотя проговорил отец, остилая вверху, на холодной печи, шинель.
– Кто ж убил, а? – «полюбопытствовал Сенька, подлезая под бурку. – Ты, батя, убил?
– Нет, ты! Скинь холодайку, накинься сверху, так завсегда теплее, на позиции проверено.
Сенька стянул кацавейку, и вскоре отец и сын заснули, крепко прижавшись друг к другу.
ГЛАВА III
Утром Мостовой уехал в Богатун, но немного погодя заявился Павло Батурин. Он привез груженую фуру.
– Отец дома? – спросил он Сеньку, слезая с воза.
– Нема бати, дядя Павло.
– А где ж его спозаранку унесло?
– В Богатун подался, крылыциков пошукать, хата-то совсем раскрытая.
Сенька соврал. Отец уехал, когда мальчишка еще сладко спал, и цель поездки ему не была известна, но так уж воспитал себя Сенька: обязательно все знать и ни перед каким вопросом не теряться.
– Принимай тогда сам заробленное, – сказал Павло, развязывая бечевку.
– Так бы и говорил сначала, дядька Павло. И зачем тебе батя! Не он же зароблял.
Павло внимательно присмотрелся к мальчишке и покачал головой.
– Востер, как у доброго чеботаря шило. Куда сваливать прикажете, Семен Егорович?
– Давай в хату, сараишко течет.
– В хату так в хату, – согласился Павло. Поплевав на ладони, огладил мешок, зацепил пальцами за гармошку завязки, поставил па попа и, играючи вскинув его себе на плечо, направился к хате. Сенька, обнаружив окорок, захватил его, добавил мешочек с фасолью и пошел вслед за Павлом. Вскоре все, что привез Павло, перекочевало в хату Мостовых.
Сенька сам развязал овцу-ярку, схватил вскочившую было овцу за шероховатые рога, другую руку запустил в густую курчавину шерсти. Ярка коротко заблеяла.
– Не мемекай, дурочка, – успокоил ее Сенька, – ты у нас для расплоду. Кабы валух, то, считай, враз под ножик. Ну, ну, не дрыгай ногами, все одно от меня не убежишь, я резвей тебя…
Павло снял мелкодонное мучное корытце. Стряхнул, похлопал по днищу.
– Отнеси в хату, – сказал он, – да гляди, дури не наберись коню полову в нем замесить. Понял? Любка подойдет, пироги поставит.
Павло взялся за вожжи.
– Прощевай, Семен Егорович, – сказал он, круто повернув повозку. – Скажи отцу, днями до его добегу.
День, было потемневший с утра, распогодился. Появилось скупое декабрьское солнце, подогревшее ночную изморозь и снова увлажнившее бурьяны и ставни.
Сенька, привязав овцу в сарае, решил сколотить ей загородку. Попросив у соседа Литвиненко молоток и плотничьи щипцы, пошел в огород и, оглядевшись, начал выдирать гвозди из ветхого литвиненковского забора. Тащил через один, чтобы не повредить огорожи. Когда в кулаке оказался толстый пучок ржавых гвоздей, он, невозмутимо посвистывая, покинул место преступления. Подобрав щепки и доски, снятые с заколоченных окон и двери, он перенес их под сарай – и деятельно принялся мастерить загородку. Торопясь, часто попадал молотком по пальцам и таил надежду, что вот-вот должен же, наконец, примчаться Мишка, более ловкий, чем он, в столярном искусстве. Друг не являлся, и Сенька, хоть с грехом пополам, закончил работу и даже остался ею доволен.
– Вот и готова закута, – торжественно сказал он, обращаясь к овце, – а Баварцу ясли смастерим чуток погодя, дай только потемнеет.
С трудом перевалив ярку в закуту, он кинул ей охапку объедьев, и овечка стала жевать стебельки, торопливо двигая узкими челюстями.
Сенька медленно обошел все подворье, уставившись на единственный столб, чудом уцелевший от забора, почесал затылок, как это делал Лука – его прежний хозяин.
– Собачий народ. Растянули все как есть. Не углядели мы с Мишкой, справедливо батя замечание сделал.
Любка появилась незаметно, так что Сенька даже вздрогнул от неожиданности. Она несла, прижав к груди, макитерку с заквашенным тестом и завернутый в вышитую старенькую скатерку узелок с выпирающим острым ребром чашки.
– Здоров, Егорович, – шутливо сказала она, осторожно ставя ступню, чтобы не оскользнуться и не побить посуду, – отчиняй-ка окна, двери, принимай незваных гостечков.
В комнате раскутала узелок, и Сенька увидел глиняную миску, наполненную кусками утятины и оладьями.
– Снедайте, Егорович, – пригласила Любка улыбаясь. На смуглых щеках появились ямочки. – Небось проголодался, кишка кишке марш играет?
– Тоже скажешь, – мальчишка поморщился, скосясь на чашку, – мы уже с батей поснедали, австрическими галетами, во!
У Сеньки с утра не было во рту и крохи. Занятый работой, он забыл про еду, и теперь от ароматных запахов снеди у него засосало под ложечкой. Он проглотил слюну.
– То были австрические галеты, а тут жилейская утка. Обед на обед никогда не повредит…
– Батю подожду.
– Чего его ждать. Хватит тут на обоих, да еще останется, – сказала Любка, подсучила рукава узкой ситцевой кофтенки и, захватив ведерко, пошла к двери. У порога обернулась. Заметив, что мальчик не решается приступить к завтраку, приказала: – Снедай да выматывайся из хаты, я посгоняю пылюку, да хоть трошки пол глиной подмажу. Срамота глядеть… бобыли несчастные. Булку бери в скатерке, там и соль…
Вильнув задом, Любка вышла, прихлопнув дверью. Сенька принялся за утятину, высасывая косточки и мелко размалывая их зубами.
– Жаль, что щербатина у меня во рту, а то бы я мозговую косточку на порошок перемолол, – рассуждал мальчик, хрустя и посапывая.
Мостовой удивился, обнаружив сияющие стекла, выскобленные подоконники, веселый огонек, – в печи жарко горели овечьи кизяки, выпрошенные Любкой у Литвиненко. У порога он развел руками, не решаясь ступить на вымазанный глиной пол, расписанный шахматным узором.
– Сенька, вот так преображение господнее. Как на пасху. Может, мне в сарае перегодить?
Любка улыбнулась, обнажая острые зубы. Она раскраснелась у печи. Поставив на стол оголенные локти, подперла подбородок руками.
– Скидай в сенях сапоги. Ишь захлюстался, как валух у неудахи хозяина.
– А, это вы, Любовь Мартыновна! Мигом сниму чеботы.
Мостовой был весел и радостен. Очевидно, поездка принесла удачу. Пройдя к столу по постеленной Сенькой дерюжке, он крепко пожал Любкину руку. Любка оглядывала его сухощавое лицо, чуть тронутую сединой голову, давно не бритые щеки, покрытые рыжеватой колючкой, и в глазах ее, так похожих на обмытую дождем черную смородину, появилась неясная тоска. Она тряхнула головой, привела в порядок выбившиеся из-под платка прямые гладкие волосы и покусала пухлые губы, придающие ее лицу детски наивное выражение.
– Вроде посправнее был, Егор, а? – сказала она. – А может, оттого, что небритый? Седой волос нажил.
– Седина – кручина невеликая, Любка, – поглядывая на утятину, заметил Мостовой каким-то булькающим от голодной слюны голосом, – абы кость не размякла. Для казака жидкая кость – гибель.
– Ты бери, бери утятину, – предложила Любка, – для вас принесенная. А насчет кости, я ж не знаю, Егор, я ж у тебя кости не щупала.
Мостовой засмеялся, почувствовав в словах Любки особенный смысл, и начал расправляться с уткой. Сенька так, чтобы не слышала Любка, шепнул:
– Ну как, батя, богатунцы? Хохлы как?
Отец ущипнул его за бок.
– Много будешь знать, скоро поседеешь. – Заметив обиду сына, успокоил – Хорошо, Сенька. У них уже вполне Советская власть, и знаешь… батарея полевая на площади… право слово. Вот тебе и хохлы, дружные. Завернем, Сенька, дела, не горюй.
– И ничуть я не горюю, батя! Я такой…
Мостовой давно заметил мешки в доме, но спрашивать не хотелось. Он догадывался, откуда зерно и мука, и сознание того, что вот он, взрослый казак, вынужден будет жить за счет своего сына-мальчишки, как-то беспокоило его и омрачало радость важных известий, узнанных в Богатуне и у Хомутова. Он воевал, а сын, лишенный школы, голодный и холодный, зарабатывал хлеб, которым он сейчас, по возвращении с фронта, должен будет пользоваться. Это наполняло его горячей любовью к своему вихрастому сынишке, всегда такому гордому, даже в нищете, серьезному не по годам, и одновременно поднимало в его душе чувство ненависти. Наступит ли когда-нибудь справедливость на земле? Найдет ли народ настоящую свободу?
В печке догорели кизяки, развалившись багровыми кусками жара. Любка ударила по ним рогачом и нача «ла разгребать по поду. На стеклах играли огоньки, и Сенькино загорелое лицо отливало кованой бронзой. Вот с такими лицами Егор видел статуи в разбитых снарядами дворцах польских магнатов.
Пользуясь тем, что Любка была занята возле печи, Мостовой спросил Сеньку:
– Откуда? – указал глазами.
– Заробленное, Павло привез. Тут, видать, и за пай.
– Лука знает?
– Я не спрашивал.
– А Павло чего говорил?
– Ничего особого. Свалил, да и айда до дому. Хотя нет, говорил. Днями забегит…
– Угу, – пробурчал Егор, подошел к окну, закрыв его собой.
– Что там, батя?
– Кажется, твой дружок, Мишка Карагодин. Видать, пожертвование приволок.
Миша слез с Купырика, снял с нее узкий чувал, разделенный для удобства на два оклунка; оставив кобылу непривязанной, направился к хате. В комнату вошел с пустыми руками. Поздоровался, подмигнув Сеньке: выйди, мол, на минутку. Егор подозвал Мишу.
– Видал все с окна, – раздельно отчеканил он, – скажи папаньке спасибо. Да только пускай не присылает больше ничего, понял?
Миша замигал.
– Почему?
– Что мы, побирушкп? Не сумеем выпросить – отнимем.
Заметив испуг Миши, похлопал его по спине.
– Чего прислал отец?
– Мука вальцовая, сало да моченые яблоки. Батя говорил, что вам должен.
– Было такое дело, – согласился Мостовой, – на богатунской ярмарке, на покров день… Ну ладно, подберем. Отец дома, в горы еще не мотался?
– Мотался, дядя Егор. Две ночи у нас переспали кум Мефодий Друшляк да Махмуд-черкес с Ульского аула.
– Мефодия знаю, а Махмуда нет. Молодой?
– Молодой. Хотя черт их разберет. Черный, худой, они все на один лад, азияты.
Мостовой поглядел на мальчишку и укоризненно покачал головой.
– Это уж зря, Мишка, – сказал он, – вот вроде китайцы для нас все одинаковые; если на кумыка глянешь, тоже вроде их всех на одну колодку делали. А они н-а нас глянут и смеются: русский Иван, все как один, яман. Яман – плохо, по-ихнему. А почему? Потому что научили нас так их считать. Как глаз чуть нашего косоватей или кожа чудок почугунистей, уже и не человек. А это зря… Приглядись к ним, и глаза у них разные, и щеки, и носы, и все, одним словом, снаружи. А разгляди их снутри, есть и добрый, как ангел, и злой, как черт. Один из них весь век хребтину гнет, а другой знай чихирь-вино попивает. Горя у них еще больше нашего. Нас хоть вот с одного боку жмут.
Вопьется клещук вроде Луки и сосет кровь, и черта два его отдерешь, даже когтями. А у них тоже свой Лука-клещ, да еще и мы его норовим по горбяке ляпнуть, злость срываем… Разобраться – одинаковые мы с ними. Бедняк и бедняк, богач и богач. Да и строение организму одинаковое: голова, два уха, в носу пара дырок, на ногах по пяти пальцев. Только у голытьбы нашли две жилы, чтоб на двадцать четыре часа хватало горбатиться, а у богатого – кишка тонка и жилы голубые какие-то, как потянешь, так порвешь.
Егор заходил ко комнате.
– Кругом голова идет, как будто четвертуху водки оглушил, и вот не просыпаясь весь век ходишь, шатаешься. Городовик не любит казака, казак – городовика, черкес норовит казаку кинжал в пузо, кто разберется, а? – Егор развел руками, а потом, подмигнув приятелям, добавил – Да вот нашлись люди, разрешили все, и стало все ясно. Угадайте, кто эти люди?
– Большаки, – разом выпалили ребята.
Мостовой чуть не присел.
– Это кто ж вас надоумил, а?
– Хомутов Трошка.
– Ага, – понимающе протянул Мостовой, – только на большаки, а большевики.
– А дедушка Харистов говорит «большаки».
– То, что деду простительно, то вам срам. Тот, как бы там ни крепился, а все же ив жизни уходит, а вы только в нее лезете… бычата…
Он разлохматил им волосы.
Вынув хлебы, Любка собралась уходить. На прощанье сказала Егору так, чтобы не слышали ребята:
– Без бабы небось тошно?
– А что?
– Да ничего. Холодно одному спать…
Любка по-бабьему жалела Егора, и в словах ее не было похотливого смысла. Мостовой понял ее и, проводив до улицы, серьезно попросил:
– Подыщи бобылку, Любка. Не для чего иного, не подумай, а нужна баба в хате, хозяйка. А то вечно я какой-ся, – Егор, подыскивая подходящее слово, наморщил лоб, – неуютный…
– Поскорейше найти? – встрепенулась Любка, – А?
Егор подумал, вздохнул.
– Пожалуй, нет… После заварушки…
– Пока солнце взойдет, роса очи выест, – печально сказала Любка и потемнела, – что-сь и у меня на сердце нету спокоя, Егор. Вроде кто-то царапается. Перестанет, а потом опять когтем, царап… царап…
Из-за поворота, зацепив акацию осью и ободрав кору, вынеслась линейка в парной упряжке. Егор и Любка сразу же узнали Луку Батурина, нещадно отваливающего коням кнута. Проскочив мимо них и забрызгав грязью, Лука круто повернул и, спрыгнув на ходу, подбежал к Мостовому. Вначале ничего разобрать было невозможно, в воздухе гремел голос Луки и висла, как нанизанная на нитку, матерщина. Егор отступил немного, кусал губы.
– Ты что шумишь, а? – сдерживаясь, спросил он, напружинив сухое, но сильное мускулистое тело.
– Грабители, соловьи-разбойники, – кричал Лука. – Ободрать хотите <с живого шкуру! Шкуру живьем ободрать…
– Какую шкуру? – Егор скрипнул зубами.
– Фуру зерна пригнали ему, овец, а он прикидывается Исусом Христом… Точно сто годов на кресте висел. – Лука, не обращая внимания на невестку, сопровождал каждое слово ругательствами.
– Батя, нельзя так, видишь – народ, – укорила Любка, выступая вперед.
К ним, привлеченные шумом, сбегались охочие на скандал люди.
– Ага, так и ты ему, сучка, хвост подносишь! – взревел Лука и с размаху стегнул Любку.
Мостовой кинулся к Батурину и так рванул кнут, что кнутовилка огненно пожгла старику ладонь.
– Я с тебя крендель сделаю, черт мордатый, – прошипел Егор, стискивая локоть. – Чего орешь? Да, Павло пригнал фуру. Сенькой заробленное привез.
– Сенькой, Сенькой, – засвистел старик, наступая на Егора, – кормил его, обувал, одевал, приютил у себя, а теперь грабить. Павло?! Павла обдурить – раз плюнуть… Павло у меня блаженным стал… Отдавай фуру назад… Полковник! Полковником стал. Чертова шерамыга. Двум свиньям есть не разделит, полковой командир… Лютого Степку кнутами выдрали, и тебе не миновать.
Об меня ремень опалится, – придвинувшись вплотную, процедил Егор, – кабы не твои годы, несдобровать бы сегодня на моей улице…
Лука близко ощутил жесткое тело Егора, и близость эта показалась ему страшной.
Он оттолкнулся от Егора, но снова как бы весь воздух и пространство заполнило это железное недружелюбное тело. Старик напрягся и обеими руками саданул Мостового в грудь. Егор отшатнулся, кровь сразу залила его сердце. Размахнулся. Ахнула толпа, пронзительно крикнул Сенька. Этот единовременный вздох толпы и тревожный крик сына отрезвили Мостового. Он не донес удара, опустил кулак, и обмякшая рука упала тяжело, как молот. Он вскинул взор на Луку, тот криво усмехнулся, и в глазах его Егору почудилось торжество победителя. Гнев снова наполнил сердце Мостового. Он, поиграв желваками, подошел. Лука испуганно попятился.
– Не трожь, не трожь, Егорка. Засудит общество… Сибирь…
Мостовой изловчился, схватил Батурина, смял его вдвое, швырнул спиной на линейку. Набрав туго вожжи, уперся ногами в землю и начал сечь коней так, что они, обезумевшие и страшные, взвились на дыбы, фонтанами поднимая грязь.
Егор кинул вожжи на шею Батурина и гаркнул. Кони понеслись по улице, швыряя задок из стороны в сторону и подкидывая хозяина, тщетно пытающегося приподняться.
Егор, ничего не видя, медленно направился к хате, тяжело ставя ступни на землю, которая, казалось, раскачивалась под ним, точно он мчался, стоя на балластной платформе. Заметив в руках кнут, бросил его под ноги и замял в грязь…