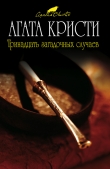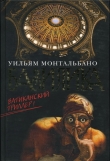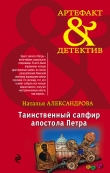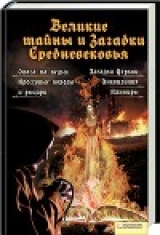
Текст книги "Великие тайны и загадки Средневековья"
Автор книги: Анна Вербицкая
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Итак, по порядку. История об умащении головы и ног Иисуса приводится во всех четырех Евангелиях, но имя женщины называет только Иоанн. Да, ее зовут Мария, но не Магдалина, а Мария из Вифании, сестра Лазаря, которого воскресил Иисус. И апостол четко отличает ее от Марии Магдалины, о которой упоминает только в конце своей истории. Марк и Матфей не называют имени женщины, умастившей Иисуса. Но поскольку речь идет тоже о Вифании, вполне можно предположить, что и они говорят о сестре Лазаря.
Сосем иначе описываются события в Евангелии от Луки. Безымянную женщину, пришедшую к Христу в Наине, Лука называет грешницей, что автоматически было перенесено средневековым сознанием на образ Марии из Вифании. Она упоминается в конце седьмой главы, а в начале восьмой Лука сообщает о женщинах, которые вместе с апостолами сопровождали Христа, и упоминает в этом же отрывке Марию Магдалину и изгнание семи бесов. Очевидно, Григорий Великий не разобрался, что речь идет о разных женщинах, и выстроил единую сюжетную цепочку. Еще одна странность Евангелий – Марию Магдалину считают гулящей женщиной, хотя об этом нигде не упоминается и намеком. В Средневековье самым страшным грехом для женщины было прелюбодейство, и этот грех автоматически приписали и Магдалине, представляя ее дамой легкого поведения. Только в 1969 г. Ватикан официально отказался от отождествления Марии Магдалины и Марии из Вифании.
Но что же мы знаем о женщине, названной в Новом Завете Марией Магдалиной? Очень мало. Ее имя упоминается в Евангелии 13 раз. Мы знаем, что Иисус излечил ее, изгнав бесов, что она везде следовала за ним и была женщиной состоятельной, так как есть описания того, как она материально помогала ученикам Христа. Она присутствовала при казни, когда все апостолы в страхе разбежались, готовила тело Спасителя к погребению и стала свидетельницей его воскрешения. Но нет ни одного упоминания о физической близости Христа и Магдалины, о которой теперь так модно говорить. Многие утверждают, что по древнеиудейской традиции мужчина в 30 лет непременно должен был быть женат, и женой, естественно, называют Марию Магдалину. Но на самом деле Иисуса воспринимали как пророка, а все иудейские пророки не имели семьи, поэтому ничего странного в его поведении для окружающих не было. Однако канонические Евангелия сообщают, что между Спасителем и Марией существовала некая духовная близость. Суть ее и раскрывает нам Евангелие от Марии, датированное первой половиной XI в. Текст его состоит из трех частей. Первая – беседа Христа с апостолами, после которой он покидает их. Ученики погружаются в печаль, и тогда утешить их решает Мария Магдалина. «Не плачьте, – говорит она, – не печальтесь и не сомневайтесь, ибо Его благодать будет со всеми вами и послужит защитой вам». Но ответ апостола Петра просто поражает. Он произносит: «Сестра, ты знаешь, что Спаситель любил тебя больше, чем прочих женщин. Скажи нам слова Спасителя, которые ты вспоминаешь, которые знаешь ты, а не мы и которые мы и не слышали».
И Мария рассказывает ученикам Христа о видении, в котором она говорила со Спасителем. Создается впечатление, что она была единственным учеником, до конца понявшим своего наставника. Но реакция апостолов на ее рассказ удивляет – они ей не верят. Петр, который просил ее рассказать обо всем, заявляет, что это плод женской фантазии. За Марию вступается лишь апостол Матфей: «Петр, – говорит он, – ты всегда, гневаешься. Теперь я вижу тебя состязающимся с женщиной как с противником. Но если Спаситель счел ее достойной, кто же ты, чтобы отвергнуть ее? Разумеется, Спаситель знал ее очень хорошо. Вот почему он любил ее больше, чем нас». После этих слов апостолы отправляются на проповедь, и Евангелие от Марии на этом заканчивается. Однако существует еще одна, хотя и весьма спорная, версия, которая утверждает, что Евангелие от Иоанна, которое некоторые исследователи называют безымянным или написанным любимым учеником Христа, принадлежит на самом деле не Иоанну и не неизвестному апостолу, а Марии Магдалине. Версия, бесспорно, интересная, но доказательств пока не так много, чтобы подтвердить ее истинность.
Самым поразительным открытием стало Евангелие от Иуды, которое шокировало ученых и вызвало бурю споров и дискуссий. Евангелие Иуды на коптском языке было найдено в 1978 г. в Египте и входило в Кодекс Чакос. Папирусный Кодекс Чакос был создан, как указывают данные радиоуглеродного анализа, в 220–340 гг. Некоторые исследователи полагают, что этот текст был переведен на коптский с греческого, датируемого второй половиной XI в. Главное отличие этого апокрифического Евангелия от всех других – то, что в нем Иуда Искариот показан самым успешным учеником и единственным, кто целиком и полностью понял замысел Христа. Именно поэтому, а не ради пресловутых тридцати серебреников он согласился сыграть роль предателя, пожертвовав ради исполнения долга всем – славой в веках, признанностью своего Евангелия и даже самой жизнью.
Как указывают источники, Иуда был сводным братом Иисуса по отцовской линии, хранителем сбережений Христа и его учеников, то есть в его ведении была весьма значительная сумма, которая позволяла ему жить, ни в чем себе не отказывая. Распоряжался деньгами Иуда по своему усмотрению, потому тридцать серебреников были для него ничтожной суммой. Иисус всегда доверял только ему и самую главную миссию мог доверить только родственнику, преданному до конца. Ведь народ требовал от Христа доказательств его божественности, и сделать это можно было лишь одним способом… Вера Иуды осталась незыблемой. Исполнив свою миссию, он ушел, организовал свою школу, и после смерти учителя один из учеников написал Евангелие от имени Иуды.
Из Евангелия выяснилось также, что Иуда поцеловал Христа в момент, когда привел к нему воинов, чтобы все-таки показать потомкам чистоту своих намерений и любовь к Иисусу. Но мы знаем, что этот поцелуй трактовался Церковью совершенно иначе. Церковные предания о Евангелии от Иуды известны давно, но до нашего времени его считали безвозвратно утерянным. Подлинность манускрипта не вызывает сомнений – ученые использовали наиболее достоверные методы и получили одинаковый результат. На этот раз средневековые легенда оказались правдой.
Немало апокрифических текстов повествует и о том, как Иисус жил в Персии и Индии, а также в Тибете. Апокрифы откроют любознательному исследователю удивительные тайны. Нужно лишь желание, и запретные Евангелия расскажут много интересного. А верить им или нет – это ваш выбор.
Забытая вера пророка бога Добра – манихеизм
Манихеев считали порождением дьявола и сатанинской сектой, давшей начало большинству еретических движений в Европе и Азии. Мани называли отступником, искусителем и дьяволом почти во всех храмах средневекового мира. Его обвиняли в стремлении остановить распространение христианства и способствовать усилению иудейского влияния на страны, еще не поклоняющиеся кресту.
Священники обвиняли манихеев и в язычестве, поскольку те признавали двух богов – бога Добра и бога Зла, и в ереси, ведь в их вере первобытный человек Христос и первобытный дьявол вступили в битву, в которой дьявол победил! Манихеев обвиняли в немыслимом разврате, выступлениях против брака и деторождения. Еретики хранили тайны своего общества, все до одного – от простых верующих до избранных и совершенных.
Блаженный Августин писал, что от манихеев требовали строжайшего соблюдения тайны общества, для чего разрешалось преступать клятву и обманывать: «Клянись, нарушай присягу, но не выдавай тайны». Святой с возмущением и презрением описывает жестокость манихеев: «Нищему, если он не манихей, не подавай хлеба и воды». А власть государственную и церковную манихеи считали учрежденными злым богом. Они говорили, что святость отрицает всякую собственность и совершенный не должен ничего иметь. Что, как пишет Августин, не мешало избранным и совершенным манихеям владеть богатыми землями и домами, собственностью и деньгами. Такое предвзятое и, мягко говоря, недоброжелательное отношение к манихеям блаженного Августина, сделавшего, как известно, «карьеру» в христианстве, вполне могло быть продиктовано не объективными данными, а обидой. Ведь сам Августин до принятия христианства и подвижничества во славу Иисуса девять лет состоял в секте манихеев, но не пошел дальше первой ступени посвящения.
И тем не менее большинство средневековых клириков разделяло его точку зрения, видя в манихействе зерно зла и ереси, которое проросло и расцвело в Европе, дав начало многочисленным еретическим течениям.
После падения Западной Римской империи манихейство распространилось в Аравии и Византии. В X–XI вв. на его основе по всей Европе появились различные секты, среди которых самыми значительными были катары, альбигойцы и брабансоны. Они решительно отвергали христианские представления о Боге и считали, что Земля и весь род человеческий созданы дьяволом. Катары верили в перевоплощение души – реинкарнацию: если человек потерпел неудачу в одной жизни, то он вполне может после перерождения преуспеть в другой. Катары не признавали крещения, крест в качестве символа, индивидуальную исповедь, религиозные картины и иконы. Секты катаров делились на две ступени посвящения – обычные верующие и совершенные, практически так же, как и манихеи.
Кроме вдохновленных манихейством катаров во Франции существовала секта орлеанских манихеев. В 1014 г. они отправили в Египет посольство, чтобы убедить калифа разрушить Гроб Господень и тем самым уничтожить само основание христианских «суеверий». Миссия прошла успешно, и святыня была разрушена. Однако в Европе послов уже поджидали, и вскоре после прибытия они были публично казнены. В 1022 г. в Орлеане появилась манихейская секта, в которую удалось завлечь многих католических священников и даже Стефана, духовника французской королевы Констанции. Тайная секта действовала в Орлеане почти год, но была разоблачена. Такие сведения о манихействе мы получаем из различных монастырских летописей и хроник. И, естественно, эти записи далеки от объективности.
Кем же на самом деле был пророк Мани? Что проповедовали манихеи? Почему они подвергались гонениям как в Европе, так и в Азии? На эти вопросы мы попробуем найти ответы.
Как зародилось манихейство? Иран и Междуречье с давних времен были местом зарождения самых разных религий. Здесь появились зороастризм, мандеизм, раннехристианские учения, древневавилонские культы. Большая часть их брала начало в язычестве, заимствуя элементы из более современных и развитых систем – как правило, это христианство, буддизм и т. д. Религии причудливо смешивались, порождая множество сект и течений. То, что среди них особо выделилось манихейство, – вполне закономерно. Ведь оно имело одно, но чрезвычайно важное отличие от всех других новых культов – не отрицало прежних пророков и мессий. Манихеизм, созданный одним-единственным человеком, объединял и гармонично сочетал компоненты очень многих современных ему учений. Видимо, именно поэтому он просуществовал более тысячи лет и может считаться настоящей устоявшейся религией.
Кем же был пророк новой веры?
Мани родился 14 апреля 215 или 216 г. н. э., по одним данным – в Ктесифоне, столице Сасанидской империи, по другим в селении Мардину. Его мать происходила из знатной парфянской семьи, состоявшей в родстве с Аршакидами. Ряд документов дает основания предполагать, что он был наследником одной из второстепенных ветвей парфянского княжеского дома, то есть по сути – наследником аршакидского царского рода. Отец будущего пророка Фатак был то ли персом, то ли арамеем.
Прозвище Мани, что по-арамейски значит «светлый», «сияющий», «несущий свет», он придумал себе сам. При рождении он получил имя Шуриаш или Суриак. Тягу к проповедованию Мани унаследовал от отца, который был язычником, но после «Божественного видения», посетившего его в храме, вдруг стал последователем иудео-христианского учения мугатасилахов. В этой общине больше внимания уделяли не столько спасению души через Иисуса, сколько точному следованию правилам и ограничениям. Фатак отказался от мяса, вина и женщин, хотя уже был женат и его супруга ждала ребенка. Благодаря воле и деятельному характеру Фатак быстро достиг высокого положения и часто навещал дом, оказывая финансовую помощь жене и сыну. Есть сведения, что Фатак написал несколько религиозных трактатов, которые позже вошли в манихейский канон.
Когда сыну исполнилось четыре года, отец забрал его в общину.
По преданию, Мани стали посещать видения, когда ему исполнилось 12 лет. С точки зрения современной психологии и физиологии – вполне закономерное явление. Ведь мальчик жил в окружении людей истово верящих, если не сказать – фанатичных, и вместе со взрослыми терпел все лишения и ограничения. Это не могло не сказаться на здоровье и психике подростка.
Но так или иначе, такие проявления отец мальчика считал нормой. В 24 года Мани посетило очередное видение, и дух сообщил, что ему пора приступить к проповедованию истины. В 26 лет Мани произнес свою первую проповедь в Гундешапуре, во время коронации Шапура I, где объявил себя мессией, подобно Будде, Зороастру, Иисусу. Кстати, к своей деятельности мессии Мани готовился очень ответственно. Он уже успел побывать в Индии, познакомился с буддизмом и использовал его элементы в своем учении. Поначалу проповеди юноши не имели успеха на родине, и он вновь отправился в Индию. Позже Мани вернулся и решил начать обращать в свою веру власть предержащих. Он занялся проповеднической деятельностью в Ктесифоне при помощи отца, который активно поддерживал его и даже, как утверждают некоторые летописи, ездил с миссией в Рим и Египет.
Краткое изложение основ новой веры пришлось по душе Перозу, брату шаханшаха, и вскоре Мани был представлен Шапуру I. Манихейство, очевидно, понравилось владыке, и потому он установил его постулаты как негласную государственную религию. Официальной же религией являлся зороастризм, и почти все придворные жрецы были ярыми противниками новой веры, которая, как они считали, искажает постулаты зороастризма и потому является опасной ересью. Это противостояние и послужило предпосылкой к мученической смерти Мани.
Сведения о дальнейшей судьбе Мани противоречивы. По одним данным, он пользовался благосклонностью Шапура и спокойно проповедовал до самой его смерти и даже некоторое время после нее. По другим свидетельствам, Мани был вынужден скитаться, так как его периодически изгоняли из Ктесифона и даже несколько раз сажали в тюрьму. В итоге, обвиненный жрецами в ереси, он был схвачен и вскоре погиб. Некоторые источники утверждают, что его забили камнями, другие – что он умер от болезней и лишений в тюрьме.
Чем же так не угодил жрецам Мани? Почему христиане считали его еретиком? Почему его вера, распространившаяся от Рима и Константинополя до Индии и Китая, подвергалась гонениям во всех этих странах?
В основе манихейства лежит необычайно глубокая по смыслу легенда. В ней говорится, что существуют бог добра и бог зла. Долгое время мир пребывал в равновесии. Но однажды духи тьмы задумали предпринять штурм царства света. И они достигли его границ, но овладеть им не смогли. Силы света решили наказать демонов. Но в царстве света не было зла! Потому демоны могли быть наказаны только чем-то добрым. Духи царства света взяли одну часть своего царства и примешали его к материальному царству тьмы, в результате чего в мире зла возник новый элемент – смерть. И с тех пор зло неизбежно пожирает само себя. Благодаря этому возник человек. Отныне он должен не отрицать зло, а превращать его в добро. Зло в понимании манихеев есть добро, поставленное не на свое место, не в соответствующее ему время.
Кстати, манихейство делило все время существования человечества на три эпохи. «Первое время» было, когда два изначальных принципа – добро и зло, свет и тьма – существовали отдельно друг от друга. Пространственно добро занимало север, восток и запад, зло – юг. «Второе время» – смешение двух принципов: зло вторгается в царство света. Владыка светлого царства порождает матерь жизни, а та – первочеловека Христа, который вступает в борьбу с сынами мрака, но терпит поражение и попадает в плен. Для Его спасения владыка порождает духа живого, который, победив воинство тьмы, создает космос для очищения света, поглощенного ими. Когда очищение света от материи завершится, наступит «третье время» – время торжества добра над злом; остатки материи, лишенные Божественного света, погибнут во вселенском пожаре, который будет пылать 1468 лет. Те, кто останется жив, образуют новый мир добра и света.
Манихейство истолковало библейскую идею таким образом, что получилось будто дьявол запрещает человеку вкушать от древа познания добра и зла, а бесстрастный Иисус учит человека сорвать запретный плод и раскрывает ему тайну духовного происхождения человека. Для противодействия Иисусу сатана создает из тьмы и незначительных остатков света женщину, чтобы она раздробила разумную душу человека. Но хоть в женщине и больше тьмы, чем в мужчине, их единство гармонично и неразрывно, подобно янь и инь.
Что касается получаемого человеком откровения о его собственной истинной природе, Мани признает здесь практически все существующие религии и их мессий – Зороастра, Будду, Иисуса, которые выступают вестниками света. Себя же Мани именует «апостолом Иисуса», «окончательным» мессией, объединившим труды предшественников в единственно правильную веру. Рассматривая особенности манихеизма, мы видим, что Мани вполне сознательно брал главные постулаты из канонов наиболее популярных в то время религий. Очевидно, он пытался своими силами сконструировать идеальную религию для всех стран и народов. И действительно, в первое время манихейство проникло практически всюду, от Европы до Китая! Но везде, где бы оно ни появилось, против него тут же настраивались адепты местных церквей, в итоге учение перса Мани получило название «мировая ересь». Ответ на вопрос, почему так случилось, довольно прост. Манихейство было религией просвещения и конкурентоспособной с логической точки зрения. Оно проявило удивительную гибкость – чтило местные традиции и не искало в человеке зло. Такого понятия, как абсолютное зло, в манихеизме просто нет – есть лишь недостаток добра, что опять же сильно роднит учение Мани с буддизмом. Даже самое злое создание может послужить добру. Мани не отрицает и не очерняет старые божества – нет, он лишь корректирует веру. Таким образом, во всех уголках земли люди находили в манихеизме что-то знакомое, даже их боги оставались с ними и только дополнялись Мани. Стоит ли удивляться, что манихейство достигло таких высот?
С IV в. манихейство широко распространилось на юг Римской империи – от Египта до Рима, Южной Галлии и Испании. И христианская Церковь, и римское государство подвергли манихеев жестоким гонениям. К концу V в. чистое манихейство полностью исчезло с территории Западной, а в VI в. – и Восточной Европы. Однако в Африке, несмотря на это, ко времени вторжения вандалов манихеи все еще оставались. Они попытались привлечь на свою сторону вандальскую верхушку, и им это даже отчасти удалось. Но король вандалов Гунерих счел манихейство опасным и в очередной раз расправился с его последователями. Однако до IX в. север Африки продолжал считаться рассадником манихейства. Долгие века эта вера сохраняла сильные позиции на Востоке, даже при мусульманских правителях, однако была окончательно искоренена в XIII в., в эпоху монгольских завоеваний.
Но еще долгие века то тут, то там вера Мани находила сторонников. Кто знает, появись Мани на свет двумя-тремя веками раньше, возможно, Европа была бы не христианской, а восток – не мусульманским, а все народы континента исповедовали одну веру, которая учила, что каждый человек в душе – Бог. И вся дальнейшая история человечества могла бы быть совсем иной.
Вампиры – неотразимые красавцы или кровожадные мертвецы?
Современный мир переживает настоящий вампирский бум, забывая, что еще 200–300 лет назад монстры, пьющие человеческую кровь, не казались такими привлекательными. Своим неотразимым шармом вампиры обязаны прежде всего лорду Байрону, в произведениях которого выступали персонажами поэтическими и таинственными. Еще более широкую популярность тема вампиров получила в 1897 г., после выхода в свет романа Брэма Стокера «Дракула». Всемирной популяризации вампирской темы помог кинематограф: в 1922 г. на экраны вышел фильм ужасов «Носферату: симфония ужаса», после которого вампиры на долгое время стади главными персонажами фильмов жанра хоррор.
Новая волна интереса к вампирам захлестнула мир в конце прошлого – начале нынешнего веков, когда произведения Стефани Майер и Энн Райе, а также множество зрелищных кинолент – «Интервью с вампиром», «Ван Хельсинг», «Сумерки» и др. – создали моду на вампиров.
Но мало кто задумывается над тем, что нынешние кумиры молодежи долгие века считались страшными чудовищами и никто не хотел быть похожим на героев «Сумерек».
Самое интересное, что под влиянием книг и фильмов публика все больше верит в вампиров – не как в фантастических монстров, а как в реальных существ. Поэтому время от времени мы узнаем, что люди проводят обряды, которые должны не позволить умершим родственникам превратиться в вампиров. А в периодических изданиях проводятся настоящие «научные» дискуссии о том, сколько останется человечеству, если каждый укушенный вампиром тоже будет становиться кровопийцей. Можно не сомневаться – легенды о вампирах, пришедшие к нам из глубокой древности, будут существовать еще многие века.
Так кто же они – вампиры? Действительно ли это мифологические герои или такие существа живут рядом с нами? В эпоху Средневековья вера в вампиров – порождение тьмы и дьявола – была сильна как никогда и масштабы охоты на вампиров были не меньшими, чем проводимая инквизицией охота на ведьм. На кого же охотились? Кто был первым немертвым?
Вампиры… Создания ночи… В XI–XV вв. они считались порождениями кошмара, несущими смерть чудовищами, ожившими мертвецами. Принято считать, что родоначальником вампиров стал Каин, а научила его создавать новых вампиров сама Лилит. Причем сначала Каин отказывался превращать людей в кровожадных монстров, но тоска и одиночество вынудили его сделать это. Так появились трое старейших. В Средневековье даже дети знали, что вампиры – это ожившие мертвецы, в которых вселился злой дух, заставляющий их пить кровь; они боятся креста, света, чеснока и не отражаются в зеркалах. Поэтому люди регулярно проверяли свежие могилы, вбивая в «подозрительные» тела осиновые колья. А подозрительными были те захоронения, где тело было неразложившимся, с отросшими ногтями и волосами и относительно «свежим» цветом лица. При этом большинство искренне верили, что стать вампиром можно от укуса или пристального взгляда упыря. Существовал миф, что, если через могилу перепрыгнул ребенок, лошадь или какое-либо животное, похороненный там автоматически становится вампиром. Остается только удивляться, что не все люди в Средневековье стали вампирами!
Во все времена у всех народов существовали мифы о порождениях тьмы, которые выпивают кровь и жизненную силу людей. Такое единодушие наводит на мысль, что все легенды имели под собой какую-то реальную основу и мифы – это не просто сказки. В Средние века этих сказок было превеликое множество, и в обобщенном виде складывалась такая картина.
Вампиры были нежитью, мертвецами, которые по воле зла поднялись из могил, хотя ничего общего с зомби, привидениями и духами не имели. Люди могли превращаться в вампиров как после смерти, так и при жизни. Вампиры не отражаются в зеркалах, ненавидят солнечный свет и серебро, хотя некоторые легенды говорят, что серебро их не путает. Еще вампиры якобы должны бояться креста, молитв, святой воды. Эти мифы, очевидно, сочиняли служители Церкви. Ведь кто, как не слуги Бога, могут оградить людей от порождений дьявола?! От вампиров можно было защититься и чесноком. Коварные монстры могли проникать в закрытые помещения в виде тумана, превращаться в стаю крыс, летучих мышей, волков, кошек. А главное – они испытывали постоянную жажду крови и готовы были пить ее без остановки, прокалывая кожу жертвы длинными и очень острыми клыками. Это были ужасные порождения мрака, и только в XVIII в. жуткие кровопийцы превратились в безупречных джентльменов и соблазнительных красоток.
Таким образом, классический вампир – это существо человеческого происхождения, которое обладает сверхъестественными способностями благодаря употреблению человеческой же крови. Зачастую под вампиром подразумевается умерший или убитый, превратившийся в кровожадное чудовище, однако подобные детали могут отличаться в различных мифах.
В науке вампирами принято называть особую разновидность летучих мышей из семейства Десмодонтиды, которые водятся только в тропиках Южной Америки. В ночной тьме мягко и неслышно они подлетают к спящему человеку или животному, острыми, как бритва, зубами легонько срезают очень тонкий слой кожи и абсолютно безболезненно слизывают кровь, которая не сворачивается благодаря антикоагулянтам, присутствующим в слюне животного. Лишь под утро по кровавым потекам на шеях лошадей или на собственном теле путешественники обнаруживают присутствие вампиров. Однако об этой породе летучих мышей в Европе узнали гораздо позже, когда люди уже много веков боролись с вампирами-людьми.
Происхождение слова «вампир» не менее таинственно, чем сами легенды о них. Большинство ученых считают, что родственные слова «вампир» и «упырь» имеют общий индоевропейский корень, наиболее полно сохранившийся в славянских языках и первоначально означавший «мертвец».
Что касается истоков традиционного образа вампиров, то они, предположительно, находятся в Восточной Европе, на территории Киевской Руси. Славянские легенды о «воскресших мертвецах», пьющих кровь, появились на много веков раньше, чем легендарный вампир Влад Депеш, знаменитый румынский государственный деятель и полдоводец из Трансильвании, прототип графа Дракулы.
Вера в то, что обиженный покойник может вернуться и наказать, очень стара – большинство похоронных обрядов практически всех народов мира нацелены на то, чтобы умерший не смог вернуться в мир живых. Вспомним, что еще неандертальцы калечили ноги покойника, чтобы он не мог подняться. Даже традиция размещения краеугольного камня имеет свое значение – это не только памятник, это гарант того, что умерший не сможет прокопаться наружу. Для этого же в других религиях покойных сжигали или хоронили на перекрестке дорог – чтобы мертвец не знал, в какую сторону ему идти.
Первыми, самыми древними вампирами, известными нам по мифологии, считают ассирийских экимму, хотя кровь жертв они и не пьют, а только заставляют живых испытывать те же мучения, которые испытал рассерженный или обиженный дух. В Древней Греции также существовали вампиры – ламии, или эмпузы. Впервые философ Филострат упоминает такое существо, напавшее на одного из его учеников, в «Житии Аполлония Тианского». В греческой мифологии Ламия была прекрасной женщиной, королевой Ливии, которая родила детей от самого Зевса. Гера, супруга Зевса, узнала об измене и превратила Ламию в монстра, а ее детей убила. Кроме того, Гера наложила на несчастную мать проклятие: бедняга не могла сомкнуть глаз, в которых всегда стояли погибшие дети. Зевс, узнав о такой ужасной мести супруги, смог лишь одним помочь бывшей возлюбленной – наделил ее способностью вынимать глаза и отдыхать, ничего не видя. Но зависть к счастливым матерям превратила Ламию в чудовище, похищающее детей. Она воровала малышей, разрывала их на куски когтями и выпивала кровь. Со временем ламиями стали называть колдуний, кравших детей, а также демонов, которые, обернувшись красавицами, соблазняли случайных мужчин. И только после того, как те выплескивали страсть, ламии высасывали из них кровь и жизнь. Позднее народное воображение превратило ламию в змею с человеческой головой и грудями.
В Римской империи были свои способы борьбы с ожившими мертвецами. Наиболее близкими к вампирам были стриксы – смертные ведьмы, пьющие кровь для приобретения магической силы. Именно от слова «стриксы» произошли позднейшие термины «стригои» и «стирги», которыми называли различных вампироподобных существ в различных регионах.
В Средние века христианская Церковь исключала возможность оживления человека после смерти и превращение в вампира, поскольку душа умершего сразу отправлялась на суд Божий. Ожить тело могло только при возвращении в него души. Но в народных поверьях вампиры продолжали бродить в ночи, особенно часто – по территории Восточной Европы и на Балканах, где Церковь более терпимо относилась к местным традициям. Но в 1213 г. Паца Иннокентий III официально признал существование живых мертвецов наряду с суккубами, падшими ангелами и другими приспешниками дьявола. Тема крови всегда занимала в христианстве особое место – во время причастия вкушались тело и кровь Христова. Отсюда пошло интересное поверье: православный, отрекшийся от своей веры, даже если он принял католичество, становится вампиром. Ведь обычные верующие-католики имели право на причащение только Телом Христовым. Причастие Кровью было привилегией клира. А в других верах этого обряда и вовсе не существовало. Таким образом, считалось, что вероотступник должен стремиться восполнить ущерб, а поскольку измена веры может быть только по наущению дьявола, то и способ «компенсации» выбирается достойный князя тьмы – вместо крови Спасителя предатель пьет кровь людей. Вампира официальная Церковь считала не разносчиком вампирической «эпидемии», а злым колдуном, продавшим душу дьяволу ради приобретения богатства и власти. Для магических обрядов вампиры-колдуны использовали кровь. Как видим, официальная версия служителей Церкви отличалась от существующих в народе поверьев о вампирах.
Как ни странно, представление католической Церкви о вампирах почти полностью совпадало с мифами славян о пьющих кровь упырях – это не оживший мертвец, а злой колдун, который превращается в кровопийцу постепенно. В центральных регионах России упыря чаще всего называли «еретиком», объясняя его трансформацию отказом от правильной веры. «Посмертные хождения» в народе объясняли по-разному: этих людей «не принимает земля» или, заключив договор с нечистой силой и померев раньше срока, человек встает из могилы и доживает положенные годы в виде живого мертвеца. Даем упырь, как правило, спит в своей могиле и просыпается только в полночь. Он отыскивает жертву, выпивает ее кровь и исчезает с криком петуха. Свет не может повредить ему, но заставляет прятаться. В славянской мифологии у упырей нет никаких особенных сверхчеловеческих способностей. Кроме длинных острых зубов, способных перекусить даже сталь, никаких анатомических излишеств. Упырь также способен заразить укушенного и выпить дождь из облаков. Засухи, как правило, приписывались козням упырей и заставляли общину искать могилу «еретика». Легенды западных славян свидетельствуют, что вампир – скорее оживший мертвец, чем колдун, хотя портрет его у разных народов отличается. Согласно украинским преданиям, упырь лежит в гробу лицом вниз, лицо у него красное. Ночью он является в дом своего прежнего врага, реже – друга или родственника, ложится на его грудь и пьет горячую кровь. Язык у него острый, как змеиное жало. У человека, ставшего жертвой упыря, появляется лишь маленькая, едва заметная ранка, однако его силы тают, он чахнет и погибает. Упокоить упыря в могиле помогает осиновый кол. В некоторых регионах Украины считалось, что мертвого вампира носит на себе живой. В Польше средневековые легенды гласили, что вампир не кусает жертву, а протыкает кожу тонким раздвоенным языком. Болгарские вампиры имели одну ноздрю, заостренный язык и окончательно гибли, если могилу окружали розами. В Сербии вампиры умели превращаться в туман.