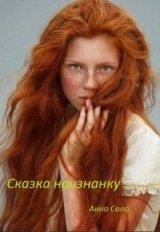
Текст книги "Сказка наизнанку (СИ)"
Автор книги: Анна Соло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
О чём болтают у фонтана
Я говорила, что трудно дитя родить? Ах, глупа была… Проще четверых родить, чем одного из пелёнок поднять.
На дворе уж ночь, глаза слипаются, сил нет, а в постель не ляжешь: малыш плачет, у него животик болит. А мужчинам завтра ни свет ни заря на службу. Вот я возьму Лучика в платок, привяжу к себе, вниз спущусь и брожу впотьмах по конюшне туда-сюда. Платок покачивается, малыш дремлет. Только он крепко заснёт, глядь – уже пора Свита с Корвином кормить да в крепостицу провожать. Они уедут, я чуть урву сна, а там снова Лучик к себе зовёт: уже и голодный, и обмарался. А потом ему и погулять охота. Улыбается, сладкий мой, ручки тянет, и невдомёк ему, маленькому, почему мать то и дело носом клюёт. Он снова заснёт – я бегом плошки мыть, пелёнки полоскать, похлёбку готовить… И ведь как на грех, чуть руки по локоть в тесте или в грязной воде – непременно малыш проснётся, заплачет. Так и бегаю туда-сюда. А там уже и вечер, мои со службы вернутся, есть хотят. Свит ещё и ругается: "Почему на конюшне грязно? Целый день дома торчишь, могла бы хоть навоз по стойлам собрать!" Ему не понять, куда у меня весь день подевался, и почему ничего не сделано, а я с ног валюсь. Мужчины, видно, думают, с женщин еда, чистота и уют льются сами собой, как с Ока свет. Им-то что, переделают дела и спать пойдут до утра. А я – снова Лучика на руки и на конюшню, в "ночной дозор".
За всеми этими заботами я долго не замечала, что Корвин вдруг совсем позабыл дорогу в кабак. Домой каждый день стал приходить трезвый, рубаху новую прикупил… Когда же я как-то утром застала его на дворе над ведром воды да ещё и с гребнем в руках, тут мне сразу стало ясно: всё это не с проста. Завелась у нашего Корвина зазноба, не иначе. А Свит, дундук толстошкурый, словно и не заметил ничего, всё над ним шутил: "Что, допрыгался, даже в кабак уже не пускают? Придётся тебе с нами, стариками, по вечерам сидеть." Корвин только смеялся в ответ, а мне было страсть как любопытно, кто ж она такая, что для неё он и самобульку, и гулящих девок забросил?
Хоть Корвин помалкивал, словно в рот воды набрал, а только посад у нас маленький, тесный, все у всех на виду. Очень скоро мне у фонтана тётки рассказали, куда его почти каждый день носит – в Подколпачный проулок, в кузню к старому Соху. А у Соха как раз две дочки на выданье. Не от того ли у Змейки вдруг подковы держаться перестали?
Я тогда подумала: дай-ка своими глазами взгляну, что там за кузнецовы дочки. Понесла ближе к вечеру старые ножницы в кузню точить, да зашла в Подколпачный не со стороны крепостицы, а от фонтана. До самой кузни двух ворот не дошла, присела вроде как мальца покормить, а сама смотрю, что будет. Долго ждать не пришлось. Застучали копыта по мостовой, глядь – от крепостицы едет Корвин: сам хорош, как картинка, плащ нараспашку, шапка набекрень, в руке кулёк с леденцами, и даже Змейке в гриву ленточку вплёл. Девки, сколько их жило в проулке, стали выглядывать над воротами, с ним здороваться да перекликаться. А он каждой и улыбнётся, и весёлое словечко скажет, и леденцом угостит. Над кузнецовыми воротами тоже перегнулись две девицы. Вот у них-то Корвин Змейку придержал. Смотрю – одна из кузнецовых дочек собой ничего, да только и сказать про неё нечего, таких в каждой дюжине двенадцать. Зато вторая… Вроде, и тот же волос, и тот же голос, но её в любой толпе было б сразу видать. У нас в Торме про таких говорят: этлом целована. А Корвин как поймал на себе её взгляд, сразу вспыхнул, словно его очим светом озарило. И хоть он всех девок на улице гостинчиками и добрыми словами тешил, мне враз стало ясно, для которой из них он старался.
На рынке да у фонтана чего только не услышишь, обо всём на свете тётки меж собой говорят. Там я живо разведала, как эту славницу зовут. Узнала, что старый Сох давно вдов, и только и есть у него семьи, что две дочки: Желана и Звана. Старшая, Желана, уж засидка, двадцать третий круг девке побежал, а женихов всё не видно. А она сама их и не ищет, дом ведёт, помогает отцу в кузне. Зато у младшей, Званы, от ухажёров отбою нет. И то сказать, первая красавица в посаде! Заглядывались на неё и стрелки, и купцы, и лесные молодцы, но она прежде никого особо не привечала. А теперь вот только и разговоров пошло, что о ней с Корвином. Нет, дурного о них не говорили, больше вздыхали, что эти двое словно сделаны друг для друга, как окажутся рядом, так смотреть на них – радость глазам. А ещё тётки говорили, что Званин отец, старый Сох, уж больно строг: не спешит сбыть дочь со двора, но и наиграться ей вволю не даёт, на гулянья да вечёрки пускает только с сестрой. Там и отцу, и сестре крепко понравиться придётся, прежде чем в женихи попадёшь. А про Корвина ведь известно какая слава: гуляка, драчун, за душой ни гроша, да ещё и живёт в Ящеровой Затычке вместе с проклятущим поморийцем и его рыжей ведьмой… Я к тому времени уж давно на людях носила повойник и рогатую кику, волосы мои только Свит и видал, но всё же кое-кто меня знал в лицо. Ту тётку, что такое при мне сказала, мигом начали со всех сторон локтями подталкивать да тишком на меня ей кивать. А я не обиделась вовсе, только подумала: сколько, оказывается, всякого-разного про любого из нас за спиной болтают, а в глаза повторить побоятся. Эх, люди…
Тут бы надо мне ещё рассказать, почему наш дом звался Ящеровой Затычкой и отчего о нём шла нехорошая слава. Прежде, когда этого дома ещё не было и в помине, под стеной крепостицы шёл проулок. Люди его так и звали, Подстенным. А потом какой-то хитрец взял да и построил домишко прямо посреди проулка, разделив тем его на два тупика: Кривой и Затычкин. Саму постройку люди прозвали Затычкой, и никто в ней селиться не хотел. Говорили, мол, стоит на дороге, поселишься там – добрая доля прочь уйдёт. Один Свит не побоялся, снял её за сущие гроши и стал себе жить. Люди уже тогда шептались на его счёт, а как увидели, что он прижился в Затычке и горя не знает, стали болтать: гарнизонный лекарь, мол, с Ящером зарок заключил, и что обычному честному человеку беда, то ему – Маэлева роса. Так тупик, куда выходили Свитовы ворота, понемногу оброс дурной славой, а дом стали кликать Ящеровой Затычкой и обходить стороной. Впрочем, оно и к лучшему. Ночью к нам даже стража не ездит: пьяных гуляк, ворья и всяких бесчинных бродяг в Затычкином тупике не видали с тех пор, как там поселился Свит.
А всё же посадские хоть и болтали про Свита разное, нередко заглядывали к нам. Всем бывает надо тараканов из дома выгнать, сено от порчи заговорить, полечить лошадку или козу… Но иногда Свит составлял для кого-то особенные снадобья, каких я не знаю, и тогда сильно не любил, чтоб я ему через плечо смотрела. А я без нужды не любопытствовала. Вот отдать заказ – это он меня порой просил. С того люди, верно, и стали болтать, что я ведьма.
В хлябь службы не много: ученья, ночной патруль да стража у ворот. Ну там, Свит ещё таскался с проверками по крепостицам и иной раз уезжал из посада на несколько дней.
Как-то, собираясь в ночной патруль, Корвин меня попросил:
– Слушай, Рыжик, сгоняй отнеси своему Селёдке переодёву? Он, вообще-то, меня просил, но я уже не успеваю.
– А что случилось?
– Да ничо особого. Просто его срочно вызвали на пару дней в Городец. А это, сама понимаешь, не нужники объезжать. К князю надо в приличном.
– Как же я ему отнесу? Меня в крепостицу и не пустят…
– Дежурному на воротах скажешь – он тебе Свита живо позовёт. Вали, Рыжик, не тушуйся.
Ну, я и согласилась. Взяла всё, что нужно, привязала Лучика за спину и пошла.
Страж у ворот и впрямь сразу послал младшего за Свитом. Тот пришёл, забрал у меня свёрток с одёжей, и, даже не поблагодарив, хмуро буркнул: "Иди домой." Я б так и сделала, но тут Лучик заворочался, запросил грудь. Я присела с ним у стены и вдруг услышала, что происходит за ней. Стена крепостицы толстая, простым ухом ничего не слыхать, но я подумала о Свите – и сразу ясно услышала его шаги. Это ко мне понемногу возвращалась сила. Свит прошёл через внутренний двор, а чей-то громкий и резкий голос его окликнул: "Эй, Селёдка! Не вздумай позориться на своей кляче, возьми нормальную лошадь, Флага или Резвого." Потом дверь конюшни захлопнулась, и стало тихо. Позже раздались ещё шаги и голоса. Это двое стрелков из ночной стражи улучили тихий миг, чтобы покурить. Они негромко переговаривались о ценах на шорку и подковы, о том, что жалование нынче что-то маловато, вяло поругивали между собою взводного… Я бы, верно, и слушать не стала, но один из них, тот, что постарше, говорил неспешно, окая и плавно растягивая слова. Этот с детства знакомый тормальский говор радовал ухо, словно весточка из родного дома.
Между тем по двору процокали конские копыта, открылись ворота, и из крепостицы выехал всадник в чёрном плаще. Едва затих конский топ по мостовой, один из курцов, тот, что помоложе, зло буркнул:
– Ишь, покатил, падла белобрысая… Чтоб он где-нибудь по дороге башку себе свернул.
Второй ответил с тихим смешком:
– Кому падла, а тебе теперь – господин старший гарнизонный целитель. Оно и справедливо: сколько можно в младших ходить? Всё равно уже вся гарнизонная лечебница, хоть человечья, хоть конская, давно на нём. Целитель Чанар за последние круги уж очень обветшал, почти силы лишился.
– Вот ты, Мром, как хочешь, а я думаю, Селёдку следовало бы гнать из гарнизона поганой метлой. Не должен он был убивать хранителя. Ходят слухи, без этлова присмотра из Мёртвого дола полезло такое, что люди целыми хуторами снимаются с насиженных мест и идут искать защиты под Ограду. Недавно чуть не снесли Срединные ворота, ломились внутрь. Их, ясен пень, не пустили, потому как хлябь, но где же это видано – грозить оружием не ракшасам или там поганым поморийцам, а своим!
– Селёдка-то тут причём? Он такая же подневольная голова, как ты да я. Ему приказали – он и пристрелил.
– Ага, такому попробуй прикажи, если он сам не желает. Ты-то видал хоть раз, где его носит ненастными ночами? Нелюдь он, Селёдка этот. Ракшас.
Они помолчали, потоптались ещё чуть и ушли. А я, сильно призадумавшись, тоже побрела домой.
Свит вернулся только на другой день к вечеру, смурной и недовольный. Уселся на лавку, поставил перед собой бутыль с вином и молча уставился в стол.
– Ну, – сказал ему Корвин, – С повышением, Селёдочка? Чо сидишь, как на поминках?
Свит ответил вовсе не радостно:
– Старик Чанар помер. Раньше он хоть бумаги вёл, а теперь и это тоже на мне…
Между тем хлябь подошла к середине, настал Щедрец. У нас, в Торме, его тоже праздновали, да не так, как здесь. Собирались к вечеру по домам, ставили на стол богатое угощение, а дети и парни с девками, вырядившись в козьи морды, конячьи хвосты из мочала и всякое лохмотьё, ходили по хуторам, распевая щедровки:
Щедро-добро!
Сеем-засеваем,
Землю покрываем
Овсом, рожью,
Милостью божью!
Что ты, тетка, наварила,
Что ты, тетка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай!
И хозяйки без отказа подавали в окошко снедь для общей трапезы, а обратно, в дом, летели через подоконник полные горсти зёрен. Их следовало собрать все до единого и при посеве первыми отправить в землю. Если же угощение казалось ряженым недостаточно щедрым, могли вместо зерна и грязью в окно залепить, грозя скупым хозяевам неурожаем.
В Приоградье щедровали иначе, устраивали праздник, словно на Маэлев день. Накануне на площади перед крепостицей обновили мостовую, поставили навесы и шатры, а на сам Щедрец, как стемнело, развели костры и угощались кто горячим сбитнем, кто вином, кто сладкими заедками. Тут же затевались забавы: парни наперебой пытались влезть за подарком на гладко обструганный, да ещё и скользкий от дождя столб, состязались в меткости, кидая в дно корзинки короткие стрелы… Для молодёжи поставили качели, а в середине площади, у большого костра, устроили музыку и танцы. Я сперва думала: что за дикий люд эти приоградцы? Древний праздник в гульбище превратили! Потом поглядела, и мне подумалось: а ведь правильно делают. В самую тёмную и промозглую пору не дают душе забыть, что хлябь когда-нибудь да закончится, придёт на землю тепло и свет. А заодно и богам показывают: вот, мол, мы, живы ещё.
На Щедрец устраивались так же последние сговоры и смотрины невест, а молодые, поженившиеся до начала хляби, выходили на люди покрасоваться. Я, хоть уже и не молодица, а тётка, тоже хотела пойти на людей посмотреть и себя показать, а Свит вдруг упёрся, как баран: не пойду. Ну а мне без него как? Так и осталась смотреть на праздник из окошка.
Глядя на танцующих, я только вздыхала. Фигуры, вроде, простые, а уж как отплясывают задорно… И я бы могла не хуже, да только мне уже не по чину мешаться в компанию девок и парней. А Свита танцевать тащить – себе дороже, и без того он уже весь изворчался. Зато Корвин со Званой были лучшей парой из всех, хоть в танцах, хоть так. Я, любуясь на них, утешалась, а изнутри всё же точила душу чёрная мысль: почему в моей собственной жизни ничего подобного и близко не случилось? Живу, словно росток, пробившийся в подполе, не знающий ни очего света, ни живого дождя. Родилась – никому не надобна, этлу на порог подброшена. Выросла – стала и этлу не надобна. Кинулась на шею первому, кто поманил, а теперь день за днём заботы, хлопоты, да от мужа грубость, терпи и молчи. И хоть бы кто ласково посмотрел, доброе слово сказал… Изголодалась моя душа по радости и воле.
Когда Свит убрёл наверх спать, я уложила Лучика в люльку и пошла на конюшню, полоскать пелёнки. Набрала в корыто воды, наклонилась над ним, а оттуда на меня такое глядит… Едва саму себя в отражении признала: под глазами синева, на лбу морщинки, коса облезла, шея тощая из ворота торчит, как у щипаной курицы… Эх, облетела по ветру моя девичья краса! Одни только конопухи никуда не делись, их даже как будто вчетверо больше стало.
Не удержалась я, уронила в корыто слезу. А тут, как нарочно, заходит Корвин: весел, как птица, сияет, будто клад нашёл.
– Ну чо, – говорит, – Рыжик, ради Щедреца можно и хлябь потерпеть?
Я отвечать не стала, думала, он потопчется чуток и уйдёт. А он, видно, заметил неладное. Встал передо мной и давай заглядывать в лицо:
– Э, да ты, никак, плачешь? Тебя Селёдка обидел?
– Нет…
– А чо тогда? Хорош пелёнки солить, говори, чо стряслось.
– Да правда, ничего. У меня это… зуб болит, – на ходу соврала я.
Он вздохнул:
– Луковицу приложи. Говорят, помогает. Ну а кроме зуба? Давай, Ёла, колись. Плохой из тебя врун.
Я подумала: а вдруг Корвин и впрямь что дельное подскажет? Он мне вроде брата, его спросить не срамно.
– Слушай, Корвин… Я вот смотрю кругом – сколько девок, и ни одной конопатой…
Он хлопнул себя ладонями по коленям и рассмеялся:
– Во даёшь! Это ты из-за такой пустяковины тут рыдаешь?
– Кому пустяковина, а у меня вся рожа в ней.
– Да и пусть! А не нравится – так ты пахтой намажься, или чем там ещё девки белятся. Я в ваших хитростях не дока. А хочешь, завтра слетаю в лавку, куплю тебе специальную притирку? И сурьмы для ресничек, девки, вроде, все так делают. Будешь у нас как Дева Луна. Селёдка обалдеет!
И я сдуру согласилась.
***
Спустя пару дней Свит и Корвин вернулись домой со службы чуть позже обычного. Ёлка уже ждала их, сидя перед накрытым столом. Лицо её было покрыто толстым слоем белил, надёжно сровнявшим мелкие морщинки и скрывшим все конопушки. Зато глаза, окружённые высоким частоколом из слипшихся в иголочки угольно-чёрных ресниц, жутковато выделялись на фоне мертвенной бледности щёк. Корвин споткнулся в дверях и, жалобно всхрюкнув, замер в нелепой позе. Свит отпихнул его с дороги, но тут же сам остановился, прижав руку к сердцу и на миг позабыв, как дышать. Однако гарнизонный целитель успел многое повидать на своём веку и потому сумел довольно быстро справиться с потрясением. Сдержав рвущийся наружу хохот, он воскликнул: "Это что за ракшец? Марш умываться, живо!" Ёлка вскочила с лавки, одарила каждого из вошедших испепеляющим взглядом и, громко шарахнув дверью, вылетела на конюшню.
Некоторое время было слышно, как она там всхлипывает и яростно плещет в ведре водой, а потом наступила тишина. Свит приоткрыл дверь, осторожно заглянул внутрь. Ёлка стояла в дальнем углу, прижавшись к стене, умытая, первозданно конопатая и очень злая. Её мелко подрагивающие губы прямо-таки излучали обиду и возмущение. "Корвин, – тихонько сказал Свит, – Ужин отменяется. Иди-ка ты где-нибудь погуляй." А потом шагнул на конюшню и плотно прикрыл за собой дверь.
Стоило ему подойти к жене, та отвернулась и уткнулась носом в стену.
– Ёлочка, дурища, – почти ласково сказал Свит, хватая её за талию и притягивая к себе, – Ты что, в самом деле обиделась?
– Вот именно, дурища! У тебя, по-моему, для меня вообще других слов нет, – ядовито прошипела она, отчаянно пытаясь вырваться из его рук. Свит поднапрягся – и удержал, снова развернул лицом к себе.
– А что, скажешь, умная? Зачем измазала мордаху этой гадостью?
И тут Ёлка сникла. Сдерживаемые слёзы хлынули сплошным потоком, словно река, размывшая обветшалую плотину. Среди яростных рыданий с трудом прорывались слова и обрывки фраз:
– Я для тебя… чтоб красиво… конопаааатая…
– Ооо… Как всё плохо… И кто тебе присоветовал сделать с собой такую чушь?
– Корвин сказал, ты обалдеешь…
– Ну что ж… Полный успех, я обалдел. Прямо-таки сражён наповал.
Хоть эти слова и были произнесены со всей возможной серьёзностью, они вызвали только новую волну плача.
– Ты меня вообще ни капельки не любишь, – причитала Ёлка, давясь слезами, – У тебя одна служба на уме, а домой приходишь только спать! Я тебе совсем не нужна!
– Что ты несёшь? Была бы не нужна, меня бы тут сейчас не было! Перестань реветь!
– Да ты вообще никого на свете не лююююбишь…
– Заткнись, дура! – рявкнул Свит, резко встряхнув Ёлку за плечи. На пару мгновений воцарилась тишина. Ёлка испуганно уставилась на него широко распахнутыми глазами.
– Так, слушай меня и молчи, – проговорил ей Свит в самое ухо, – Я тебя люблю. Очень. Такую, какая есть. Рыжую, конопатую, и со всеми твоими закидонами. Хотел бы другую – нашёл бы себе другую. Поняла?
Ёлка ошарашенно кивнула.
– Не вздумай ничего делать с конопушками, – добавил он, стаскивая с её головы повойник и зарываясь носом в тёмно-рыжие волосы, – И эти уродские тряпки никогда больше не носи.
– А что скажут люди? – робко прошептала Ёлка, – Все же будут смотреть…
– Плевать. Пусть смотрят. Пусть обзавидуются. А если кто станет к тебе цепляться, скажешь мне, и я ему отгрызу башку, – и Свит вдруг слегка прихватил её зубами под ухом.
– Свит! – пискнула Ёлка, пытаясь оттолкнуть его от себя, но он только прижался ещё теснее и принялся щекотать её шею поцелуями.
– Свит, ну ты что, совсем глупый? – прошептала Ёлка уже вовсе не строго, лёгкой рукой гладя его по волосам.
– Да. Я же не виноват, что ты пахнешь лесом и сдобным пирогом. От этой смеси я сразу резко глупею, и портки становятся тесны. Вот видишь, что ты натворила? Идём на сено, или задеру тебе подол прямо здесь…
В кухне было сыро и темновато, где-то в углу заунывно стрекотал сверчок. Лучик, негромко подхныкивая, заворочался в люльке. Корвин покосился на дверь конюшни, прислушался к происходящему за ней и со вздохом покачал головой. Малыш не унимался, редкие всхлипы понемногу превратились в настойчивый, недовольный плач. Только тогда Корвин поднялся с лавки.
– Эх, Лучок… Бросили нас твои родители на произвол судьбы, и кормить, по ходу, не собираются. Ну да мы же с тобой парни годные, справимся сами. Иди ко мне на ручки. Э, да ты там обмарался? Это ничо. Ща я тебя выручу, с дядей Корвином не пропадёшь. Вот тут как раз ведёрко с водой… Холодная, конечно, но это не страшно, это мелочи, не ори… А родители-то твои всё верно сообразили, проще сделать нового ребёнка, чем отмыть этого… Не, не отмывается. Вытрем – и порядок. А вот и рушничок какой-то, нам он как раз подойдёт… Ну и славно. А теперь давай посмотрим, чо там твоя мамка на ужин наварила. Гляди-ка, щи. Это правильно, это хорошо. Ты как, Лучок, щи хлебать умеешь?…
***
После Щедреца хлябь переломилась, дожди пошли на убыль, подошёл травостав, а с ним начались и лесные патрули. Но сперва каждый взвод должен был расчистить свою часть Торговой тропы. Живучи в Торме я об этом не задумывалась, а ведь чистить тропу – это и зверей, и нелюдь тревожить. Свит, что ни день, пропадал в лазарете, и почти из каждого патруля ему приносили работу.
Но лес лесом, а оказалось, что патрули ходят и по Приоградью тоже, вдоль берега Изени и по границе с княжеством Кравотынь. В Торме народ в простоте живёт, думает: вот – Торм, а вот – Пустоземье. А мне как-то Свит показал особый лист, где были нарисованы разные земли, и я диву далась: Торм-то, оказывается, совсем не велик, а Пустоземье огромно, и похоже на лоскутное одеяло, сшитое из множества княжеств, и в каждом правит свой князь, и не все они между собой живут в ладу…
Я прежде того не знала, а в крепостице, оказывается, есть свои приметы. Те, чьи мужья и братья служат князю, никогда не провожают патрульных: дурной знак. Расспрашивать, куда да зачем пошли, тоже нельзя. Так и сидят по домам, ждут родных молчком, боятся вспугнуть их добрую долю. Вот встречать – идут. Корвин каждый день ходил в патрули, а я после шла встречать его на площадь, и всякий раз вместе со мной туда приходили обе Соховны. Звана всегда замечала Корвина первая, издалека махала ему рукой, а как патрульные въедут в ворота, спешила подойти. Корвин тогда поднимал её к себе на седло и вёз через всю площадь до самых ворот крепостицы. Не много у них теперь было времени на свиданки, ну а нам с Желаной было их по-доброму жаль. Потому-то мы сильно в их разговоры не мешались, с нас было довольно узнать, что Корвин вернулся и жив-здоров.
Но патрули – это всё так, служба, дело обыденное. А ведь иногда случались и выезды по тревоге. Я из разговоров слыхала, что такое бывает, но на моей памяти это случилось только раз.
Как-то под утро к нам постучали в окно. Свит вскочил, отворил ставни. На улице стоял всадник из ночной стражи.
– Подъём, ребята, тревога, – сказал он.
– Откуда хоть? – раздался заспанный голос Корвина.
– Изень, – коротко отозвался страж и поехал прочь.
Значит, поморийцы. Свит захлопнул окно и начал торопливо одеваться.
Недобрый это знак – провожать разъезд, а я всё же смотрела через окно, как десяток стрелков уходил посадскими воротами в поля, туда, где вдалеке над водой Изень-реки поднимался туман.
Тот день тянулся медленно, как докучный сон. Рассвело, Око выползло в зенит… С Изени – никаких вестей. Ближе к вечеру я пришла на площадь при посадских воротах. Гляжу – а там уже и тётка Тальма, жена десятника, и ещё тётки стоят. И Звана с Желаной. И все молчат, ждут. Скрылось Око за виднокрай, сгустились сумерки, и только тогда кто-то из стражей у ворот сказал: "Едут." Я не удержалась, подошла к Соховнам и сказала: "Ну, слава Маэлю! А то уже боязно стало." Желя мне только кивнула, а Звана вдруг отодвинулась и сказала эдак недобро: "Тебе-то чего страшиться? Твоего Свита под сабли не шлют." Ах, зря она так сказала, не к добру! А я не к добру пустила её слова близко к сердцу.
Плюнув с досады, я отбежала к воротам и стала высматривать возвращающийся разъезд. Смотрю – и правда, едут, и даже какой-то обоз за собой ведут. Пять пар, все наши десять лошадок в строю. Вот только Змейка идёт с пустым седлом.
Уже впотьмах наши втянулись в ворота и шагом поехали к крепостице. Я кинулась было туда, где на подводе, завёрнутый в плащ и замотаный окровавленными тряпками, лежал Корвин, хотела хоть взглянуть, что с ним стало. Но тут со стороны крепостицы пришел Свит. Он оттеснил меня в сторону и хмуро сказал: "Иди домой." А Корвин вообще ничего не сказал. Я даже не уверена, понимал ли он, куда его везут.
Свит пришёл домой только на третью ночь, усталый, осунувшийся и до зелени бледный. От него несло голодом. Едва сполоснув руки, он схватил со стола кусок ржаного хлеба и принялся торопливо жевать. А я стояла, смотрела и не знала, как его спросить о Корвине. Наконец, Свит заговорил сам. Черпанув кружкой квас, он вздохнул и мрачно сообщил:
– Всё, отвоевался наш Корвин. В чистую.
У меня нехорошо сжалось сердце.
– Неужто умер?
Свит поморщился и кинул на меня недобрый взгляд:
– Типун тебе на язык, дура. Жив он. Вот только отхватил саблей по руке. Запястье вдребезги. Я там всё собрал, как мог, но я ведь лекарь, а не чудотворец. Если пойдёт чёрный огонь, придётся резать. А даже если и срастётся, вряд ли с такой рукой можно будет поднять что-нибудь тяжелее ложки.
– А с головой-то что?
– Змейка копытом приложила.
– Как?
– Ну, как-как… Случайно. Упал ей под ноги – и готово. Вколоченный перелом верхней челюсти, пять зубов долой, перелом скуловой кости, глаз… Ящер знает, что у него там с глазом, – Свит досадливо мотнул головой, запуская руку в бадейку с квашеной капустой, – Не видит он им пока ни шиша. Но это всё как-нибудь утрясётся. Голова – не самая хрупкая часть Корвина, да и не самая важная, если на то пошло.
– Ох… А сам-то он как?
– Нормально. Бодряком. Говорит, что теперь уж точно откроет кабак.
Свит проглотил капусту, поморщился и осторожно потёр рукой живот. Потом снова потянулся было к бадейке, но я быстро прикрыла её и задвинула под стол.
– Слушай, Свит, давай ты съешь что-нибудь нормальное? Например, овсяной каши, – я быстро пододвинула полную миску.
Едва попробовав, Свит прикрикнул на меня:
– Эй, Ёлка! Бережешь соль?
А потом схватил солонку и стал щедро посыпать из неё свою кашу.
– Куда столько? – возмутилась я.
– Цыц, еловая роща, – и он снова уткнулся в миску. Однако, проглотив пару ложек, Свит вдруг охнул, вскочил из-за стола и опрометью кинулся к помойному ведру.
Позже, слушая, как он бродит наверху, ругается, стонет тихонечко и возится, устраиваясь в постели, я всё думала: ну вот что за человек? Знает же, что ему солёного нельзя, и капусты тоже. И всё равно жрёт, да ещё и квасом запивает. Тоже мне, лекарь. Самого бы кто полечил.
На другое утро Свит ушёл в крепостицу и снова запропал на три дня. А когда вернулся, выглядел так, словно его на жальнике откопали. И сразу, с порога, принялся орать:
– Вас, баб, не то что в крепостицу – вообще никуда пускать нельзя! Один вред и пакости на уме!
– Тише ты, Лучика разбудишь. Лучше расскажи, как дела у Корвина.
– Как? Скверно! Ничего не жрёт, руку разрабатывать не хочет, и вообще, лёг, как тряпка, и лежит носом в стену. А всё эта кузнечиха! Принесла нелёгкая…
– Звана?
– Да нет, другая, старшая. Она мне обычно правит хирургический инструмент. Отвернулся на миг, а она зашла в лазарет и рассказала Корвину про эту его козу.
– Какую?
– Да ту, которая Званка! А ты что, тоже ничего не знаешь? Её ещё в Щедрец сговорили за купца из Нерского посада. Свадьба через две седьмицы.
Вывалив на меня всё это, Свит отодвинулся на дальний конец лавки, сгорбился и прикрыл глаза. Я негромко окликнула его:
– Свит… Тебе же совсем плохо. Хочешь, я тебя полечу? Я уже могу, правда.
Я потянулась было к нему, но Свит оттолкнул мою руку, вскочил и, жутко оскалившись, заорал:
– Уйди, дура! Не прикасайся ко мне!
И тут же согнулся, тяжело навалившись локтями на стол.
– Свит?
– Отстань!
Ещё несколько мгновений он простоял так, а потом застонал и опустился на корточки.
– Тебе помочь?
Вместо ответа он завалился на бок и свернулся калачиком на грязном полу. Я снова тихонько окликнула его:
– Не надо так лежать. Пойдём наверх.
Он что-то зашептал. Я чуть придвинулась и с трудом разобрала:
– …в сундуке у окна. Чёрная, большая. Дай.
Я скорее догадалась, чем расслышала, что он просит: свою флягу со смолкой. Что делать? Пришлось нести.
От смолки тянуло прелью и незнакомыми травами. Морщась и дрожа, Свит кое-как сел, выхватил у меня из рук открытую флягу и начал жадно пить. Я стояла рядом, смотрела, и почему-то изнутри меня грызло чувство, что это очень нехорошо. А он понемногу распрямился, задышал ровнее. Глаза его засветились в потёмках звериной зеленью, черты заострились. Это был уже не мой Свит, а дикий ракшас. Оторвавшись от фляги, он ожёг меня голодным взглядом, потом резко отвернулся и рыкнул:
– Брысь!
Лошади в стойлах шарахнулись к стенам. Лучик завопил. Я выхватила его из люльки и со всех ног кинулась к лестнице, а вслед мне летели такие слова:
– Дверь затвори! Как следует! И чтоб до утра из каморки ни ногой! Поняла?
А потом резко хлопнула входная дверь. Чего уж тут не понять… У меня душа сжалась от страха в комок. Неужто когда мы жили в лесу, Свит всегда был таким?
Утром, ещё до рассвета, накормив и уложив Лучика, я осторожно заглянула вниз. В кухне было темно. На столе оплывал огарок свечи, лежала пустая фляга. Свит не спал. Он сидел на лавке, завернувшись в попону, и смотрел на огонь. Лицо его было спокойно и грустно – нормальное, человеческое лицо.
Заметив меня, Свит чуть улыбнулся и жестом позвал спуститься. Мне всё ещё было малость жутко. Я встала поодаль, но Свит приглашающе похлопал ладонью по лавке, а когда я села, обнял и нежно притянул к себе.
– Ёлка, – сказал он серьёзно и ласково, – Когда я вот такой, как вчера, не пытайся меня лечить. Никогда, слышишь? Даже близко не подходи. Это очень опасно.
– Думаешь, мне легко смотреть, как тебя корёжит? – спросила я, прижимаясь к нему.
– Голод силы – страшная штука, – вздохнул Свит.
Я вдруг вспомнила, как этлы делились силой с Занором, и сказала:
– А ведь я могу тебе помочь.
– Ни в коем случае. Я в таком состоянии очень плохо себя контролирую. Мне и в Торме-то нелегко было сдерживаться, а здесь… Твоя сила слишком хороша, такое – большая редкость по эту сторону Ограды. Если ты мне приоткроешься, я могу просто не суметь остановиться.
Свит заглянул в пустую флягу и снова вздохнул:
– Эх, засада… Надо срочно пополнять запас.
– А спать когда будешь? Ты что, решил жить на одной смолке? – возмутилась я, – Хоть сегодня никуда не ходи!
Свит отодвинулся от меня и упрямо уставился в стол.
– Не могу. Корвина надо срочно приводить в порядок, да и службу пока никто не отменял.
– Какая служба! Ты вчера с пола встать не мог! А ну как совсем ноги протянешь? Мне за тебя страшно!
– А за Корвина? – спросил Свит, прямо и жёстко глянув мне в глаза. У меня полыхнули щёки, и сердце тяжко ткнулось в груди. А Свит снова уставился в стол и спокойно сказал:
– Вот поэтому я сейчас валю в крепостицу работать, а вечером отправляюсь за смолкой в Торм. Собери мне с собой что-нибудь поесть.








