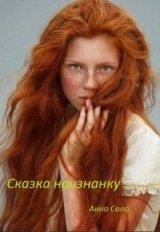
Текст книги "Сказка наизнанку (СИ)"
Автор книги: Анна Соло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Что ты, Рыжик, это совсем не те девки, которых замуж берут.
– А какие же? – удивилась я.
– Это нехорошие девки, тебе о них знать не надо.
– Так зачем же ты до них таскаешься?
– Да вот такая уж моя дурацкая доля, – легкомысленно отшутился он, а объяснять ничего не стал. Тогда я спросила:
– А Свит тоже к ним ходит?
– Свит? К девкам? Не смеши, Ёла! Он знаешь какой брезгливый? И раньше никогда не ходил. Мы с ребятами даже одно время думали, что он не по этой части.
– Это как?
Корвин посмотрел на меня, словно на маленькую, и ответил:
– А, забудь. Тебе такое знать ни к чему.
Незаметно прошла сушь. И вот ведь что странно: за эти четыре луны я узнала Свита, пожалуй, лучше, чем за весь круг, что мы прожили на заимке. В лесу я сравнивала его с этлами, и всё, что мне было в нём странно и неприятно, сваливала на человечью природу. В городе же, среди людей, я на многое стала смотреть иначе. Оказалось, на прочих людей Свит совсем не похож. Вот Корвин – тот человек.
И как только эти двое уживались вместе, такие разные? Корвин вечно был громкий и весёлый, как птица, а Свит больше помалкивал и смотрел на мир откуда-нибудь из тёмного уголка. Корвин бесхитростный и открытый, у него что в голову ни придёт – враз написано и на лице, а у Свита поди ещё догадайся, что на уме. Корвин – неряха знатный, а Свит аккуратен до смешного. Вечно Свит собирал везде Корвиново шмотьё и с руганью закидывал в его каморку, но стоило Корвину появиться на пороге, его вещи чудесным образом расползались по всему дому.
Много они цапались из-за курева, и тут уж Свит настоял на своём: курить Корвин вылезал во двор. Садился на верхний брус забора, дымил трубкой, а заодно смотрел на улицу и болтал с редкими прохожими: задирал мужиков, с бабами и девками балагурил. И всем-то вокруг он нравился. И тютюн, и дурацкие шуточки-пересмешки, и крепкая вонь немытого тела – всё, что прежде так раздражало меня в хуторских парнях у него совсем не казалось противным.
Вот я всё думала: а сама б я пошла за Корвина замуж? Наверное, пошла б. Он хороший, хоть и беспутный. Добрый, спокойный, и поговорить с ним всегда легко… И собой пригож. Высокий, сразу ясно, что сильный, волосы красивые. А ещё было видно, что я ему нравлюсь. Он того особо ничем не показывал, но мне-то и так понятно… Только однажды было: он сильно спьяну полез ко мне с поцелуями, но Свит его живо урезонил. Дал разок по зубам и унёс спать наверх. А чтоб не бродил, завязал в одеяло, как младенца в свивальник, да так крепко, что мы потом с утра его едва развязали вдвоём. Я думала, Корвин рассердится, но ничего подобного, посмеялся да и забыл.
А вот Свит был совсем не таковский. С соседями он не знался, а те его сторонились, шушукались за спиной. Только ему люди были без надобности. Он, если вдруг выдавался свободный денёк, залезал себе на сено с книжкой или просто так, и валялся там тихонечко, думал о своём. Я быстро усекла, что его тогда беспокоить не надо, ему самому с собой хорошо и не скучно. Сунешься же не ко времени – ничего приятного не услышишь. Ещё он любил смотреть, как я стряпаю. Только мне, чтобы доставить ему удовольствие, приходилось прикидываться, будто я того не замечаю. Конечно, упрям он бывал по мелочам, но мне-то уступить ему было не сложно. Поспорим, бывало, я скажу, как думаю сама, а настаивать на своём не стану. Он пошумит, поругается, а там глядишь – сделает-то по-моему. А ещё было кое-что, чего я, живучи среди этлов, совсем не ценила. Свит не вонял. Притаскивал из колодца воду и мылся на дворе каждый день, хоть Корвин и смеялся над ним. И за бельём следил. У Свита нижние порты и рубахи все были дорогие, хорошие, он мне их в речке мыть не позволял, отдавал раз в седьмицу специальной тётке в портомойню. А на ночь у него вообще велось отдельное барахло. Он и мне строго-настрого наказал в одёжке в постель не лезть. Купил рубаху, да такую красивую… Я б на выход носила, а Свит сказал – будешь в ней спать. Ну, я подумала: мне-то не жаль, если ему приятно. И я, пожалуй, поняла, почему Свит обратил на меня внимание, и зачем то и дело нюхал мои волосы. Когда я жила в лесу, от меня и пахло лесом. В городе-то по-другому запахло, пришлось начать мыться и мне.
Я спросила у Свита: если они с Корвином такие разные, то почему и зачем живут вдвоём? Он только вздохнул и ответил:
– Должен же кто-то приглядывать за этим разгильдяем. Сама видишь, он, если не на службе, нагрузится самобулькой и давай кулаками махать, а дальше как повезёт: либо в лазарет, либо под стражу. Я хоть его, если что, придержу, не дам наломать дров.
Раз, когда Свит задержался в крепостице, спросила то же самое у Корвина. Он мне ответил так:
– Ну, должен же кто-то следить, чтоб этого малахольного на конюшне не пришибли. Он ведь если у кого лошадь плохо чищена или, не дай Маэль, со стёртой спиной – плешь проест.
– А что, прежде колачивали?
– Бывало. Ребята сперва пытались его припугнуть, чтобы не так цеплялся. Но он же упёртый, а когда насчет коней – вообще хуже занозы в заднице… Так и ходил весь в синяках, но от своего не отступился, и что важно – к командирам жаловаться не бегал. Ну, народ со временем его зауважал, стал прислушиваться. А теперь уже и побаиваются лишний раз задевать. Знают: я, если что, вмиг физиономию подправлю.
Тут мне стало любопытно, каким Свит был раньше, когда ещё только пришёл в гарнизон. Спросила. Корвин задумался, взъерошил волосы.
– Каким был? Да ничего особенного из себя не представлял. Ну, конечно, видно было, что он не из простых: тихий, чистенький, грамоте учён… Одно слово – барышня. Во взводе над ним посмеивались, но так, слегка, потому что он был парень годный: дневальных зря не шпынял, к нужникам при проверках сильно не придирался. И если вдруг кого в драке покоцают, все знали – к нему можно, подштопает и взводному не настучит. Но это всё было до того, как Свит прогулялся в Торм.
– А это что ещё за история?
– Да так… Я думал, ты знаешь. Это было кругов пять назад. Раз в жизни парни из Рискайского взвода позвали его с собой на пьянку в Торм, а он там возьми и потеряйся. Рискайцы его искали, пол Занорья прочесали частым гребнем. Ротный со старшим целителем на пару им чуть башки не пооткручивали. Думали, всё, сгинул паренёк. А он почти через две седьмицы нашёлся сам. Представляешь? Две седьмицы в Торме без оружия и снаряги… Вот тебе и барышня. Только крыша у него с тех пор поехала знатно. И похоже, что он, пока там шлялся, чем-то заболел.
– Почему ты так думаешь? – насторожилась я.
– Видела у него такую большую плоскую флягу? Там не самобулька, нет. Это какая-то другая дрянь. И Свит к ней прикладывается только когда ему основательно сплохеет. Ну, ты, наверное замечала: сразу вредный становится, как три зубатки, и ничего не жрёт. Но это только если у него пойло кончается. Тогда он выберет ночку потемнее и идёт в лес. Иногда возвращается быстро, и уже сразу на человека похож, но чаще несколько ночей по Торму лазит. Лучше в эти дни к нему особо близко не подходить.
– И часто он так?
– Не знаю. По разному. В последнее время уж точно чаще, чем в начале. Но это ещё зависит и от него самого. Подлечится вовремя – так и ничего не заметно. А вот если вдруг начнёт чудить… Знаешь, Свит когда с тобой познакомился, вообще распустил хвост. Говорил, брошу пить смолку, заживу, как нормальный человек… И ведь действительно, бросил. Только к Ящеру в задницу его такого нормального! Уже через две луны от него стонал весь гарнизон. Веришь, даже командиры шарахались, как от чумы, так всех достал. Нехорошо, конечно, но многие вздохнули с облегчением, когда Свит сорвался и опять начал смолку хлебать. Он думал, ты погибла во время того безобразия в Раздолье.
– А сейчас? Ты не знаешь, он по-прежнему пьёт эту свою смолку?
– Вроде, да. И знаешь, Рыжик, пожалуй, так гораздо лучше, – и Корвин, задумавшись, замолчал. Я тогда его спросила:
– Ты сам-то давно служишь?
– Ага. Девятый круг. Я счастливчик: столько раз бывал и в лесных стычках, и с поморийцами – и ни царапины. А если бы не Свит, меня бы уже давно закопали. Он мне такую дырищу в спине залатал… И никому ничего не сказал. Держал в лазарете сколько надо, а в журнале писал – понос.
– Это тебя в бою так?
– Да не, какое там. В кабаке, по пьяни. Так что Свит и не обязан был со мной нянькаться. Но вот поди ж ты, вылечил, и с тех пор я как заговорённый, – и Корвин мечтательно улыбнулся, – Надо б выйти в отставку, пока цел, жениться и открыть кабачок. Где б ещё девку подходящую найти… Вот за что, спрашивается, этому белозорому бродяге такое везение? Где он тебя раздобыл?
– В Торме, – тихонько ответила я, – В Торме. Как в сказке, на охоте поймал.
Новая жизнь
Хлябь приходит после суши каждый круг, но всякий раз она наступает, когда не ждали. Небо уж давно нависало тучами, а Корвин, выезжая по утрам за ворота, по-прежнему с уверенной улыбкой говорил: «Не, до вечера не польёт,» и Свит, серьёзно кивнув, добавлял: «Рано ещё. Не сегодня.» И я тоже думала: «Ещё не сегодня». Но о своём. Совсем скоро был должен родиться сынок.
Лазить по лестнице становилось всё тяжелей. Таскать воду в дом и навоз на поганый двор Свит мне строго-настрого запретил, так что целые дни напролёт я теперь просиживала в нашей каморке, глазея в окно да готовя приданое малышу, и только к вечеру спускалась вниз, к очажку. Устав от тяжести, бессонницы, вечной изжоги и болей в спине, я всё ждала: уж скорей бы родить. Потом и ждать перестала. Сделалась вялая, как хлябья туча, погрузилась в какую-то сонную одурь. Только, бывало, сползу с чердака, присяду под навесом, глядь – а уж темно на дворе. И мыслей в голове никаких. Под конец малыш тоже притих, ворочался мало, словно силы копил. И вот, однажды поутру я выглянула за ворота проводить своих в крепостицу и вдруг поняла: пора. И сказала:
– Сегодня.
Свит поглядел в небо, вздохнул, и стал крепить к седлу свёрток с плащом.
А Корвин только улыбнулся:
– Вот чо вы, маги, за противный народ? Пускай бы ещё хоть пару дней сушь постояла. Жуть до чего неохота мокнуть.
И они уехали. А в уличную пыль упали первые капли дождя. А мой малыш стал проситься на Маэлев свет.
Страшно мне не было. Я тогда уж не раз видала, как рожают кошки, собаки и козы, и думала, что хитрого в том ничего нет. И что дома совсем никого – так оно мне показалось даже лучше. На глазах у Корвина или Свита мне было б не по себе. Хотелось быть совсем одной, словно в глухом лесу. Всю вялость и сон сразу как ветром сдуло, и, чувствуя, как с каждой схваткой дитя продвигается к выходу, я думала: хорошо, уже скоро. Эх, и глупа ж я была! Не знала ещё, что родить – непростая работа. Что любая помеха на пути ребёнку будет наказана болью. Что скоро буду не знать, куда себя деть, лишь бы хоть чуть, хоть на миг отпустило. Что придёт пора, когда буду думать только одно: когда ж это кончится. Что буду от бессилия слёзы лить и думать: хоть бы Свит пришёл и помог… А потом вдруг всё получилось. Ребёночку-то тоже тяжело на свет рождаться. Пока каждый из нас только о себе думал, дело на лад не шло. А вместе – повело, как волной, сразу стало понятно, что делать. Я перекинула через дверную ручку крепкий рушник, ухватила его за концы, сама села на корточки, поднажала раз, другой, и сынок выскользнул из меня прямо на пол. Вот только невдомёк мне было: почему столько крови? Я хотела было встать, но лишь поднялась, в глазах потемнело, и меня словно смыло в холодную, тёмную реку с головой.
Потом вдруг слышу, будто меня из-под воды кто зовёт. Стала вслушиваться, а это – Свит. Его голос. Ругается, как всегда, кричит:
– Ёлка, дура! Помереть решила? А ну открывай глаза! Смотри на меня!
Я послушалась. Смотрю – а там, по ту сторону тёмной воды, действительно, Свит. Сам бледный, глаза как плошки, хлопает меня по щекам и зовёт:
– Ёлка! Ёлка! Смотри на меня!
И лежу я, вроде, уже вовсе не на полу, а на постели, укутанная во все одеяла. И воды никакой нет. Только всё равно холодно, словно в реке. Свит увидал, что я очнулась, прошептал: "Слава Маэлю, жива," а потом как крикнет:
– Корвин, гони за повитухой! Кривой тупик, дом с птичками на воротах! Живо! Мухой, стрелой, кабанчиком! Одна нога тут – другая там!
Потом он взял кружку с какой-то горячей настойкой, горько пахнущей травами, приподнял меня и начал поить. Я помаленечку отогрелась, и только тут меня словно ударило: дитя-то где? Враз поняла: если с ним что случилось, то я вот прямо сейчас же, на месте умру. А сынок, видно, тоже по мне заскучал и заплакал. Смотрю – лежит, бедный мой, рядом со мной, завёрнут в Свитову рубаху, личико красненькое, сморщенное, глазёнки голубые… Я потянулась было к нему, но Свит догадался, сам мне его в руки положил. Я малыша к груди прижала, смотрю и не верю глазам: он головой мотает, водит ротиком туда-сюда, а грудь не берёт. Что за незадача такая? Потом маленький мой нахмурился, бровки сморщил да снова как заревёт! Я смотрю и думаю: "Маэлевы оченьки, это ж вылитый Свит, он точно так бровями делает, прежде чем начать на меня орать. И меньшой туда же, не успел родиться – уже ругается." А самой и смешно, и жалко его, бедненького, до слёз.
Тут на лестнице послышались шаги, дверь распахнулась, и на пороге нашей каморки показался Корвин, а с ним женщина, пожилая, но как будто не старая. Лицо у ней было доброе, светлое, стан прямой, на голове по-вдовьи повязан старушечий плат. Она шагнула внутрь, а Корвину ласково сказала:
– Ты ступай, касатик, дальше я сама.
И закрыла дверь у него перед носом.
И сразу в нашу каморку будто Очий луч заглянул. Лёгким шагом повитуха подошла ко мне, сынишку моими же руками верно к груди приложила. Стало так тихо, только слышно, как малыш чуть сопит.
А она улыбнулась и ласково сказала:
– Ну, здравствуй, голубка. Тебя как звать-величать?
– Ёлкой, – едва ответила я.
– Ёлочка, значит? А я повитуха здешняя, Василина. Но ты зови бабой Васей, и дело с концом.
Потом баба Вася уверенно и просто, будто так и надо, взяла за руку Свита, оттянула его от постели, чуть отряхнула, убрала волосы с глаз.
– Ты, соколик, так сильно не волнуйся. Даст Маэль – всё будет хорошо, – спокойно и серьёзно сказала она ему, – Лучше поди распорядись, чтоб нам сюда водички горячей, чистой ветоши побольше, корыто какое… А сам иди, вниз ступай. Нам с твоей Ёлочкой кой о чём своём пошушукаться надо. Хотя постой. Постелька-то детская где? Поглядеть бы, всё ль вышло.
Свит удивлённо захлопал глазами. Чуть обождав, баба Вася терпеливо пояснила:
– Ну, когда дитя родилось, следом ещё что вышло? Или нет?
– Ах, это, – сообразил, наконец, Свит, – Вон там, в ведре.
Баба Вася тут же развернула его за плечи к двери и потолкала на выход:
– Иди, иди. Воду давай неси.
И Свит пошёл. Вернулся он что-то уж больно скоро, сразу видно, воду силой грел, а не на огне. Сунулся было снова присесть рядом со мной, но баба Вася и тут его перехватила и мигом выставила вон:
– Давай, давай, голубчик, ступай вниз. Если вдруг что потребуется – я позову. Займись делом: в сухое переоденься, горяченького поешь. А то вон уже весь дрожишь. И рюмашечку пропусти для согреву. Тебе теперь захворать никак нельзя, жену с сыном кормить надо.
И Свит снова безропотно подчинился. Чудеса да и только!
Баба Вася водворилась у нас на целых три дня. И все эти дни она нянчилась и со мной, и с Лучиком, точно мы оба только что народились на свет. Учила меня, как малыша помыть, как удобно к груди приложить, как на руки взять, чтоб не потревожить… И так-то у неё всё ловко и спокойно получалось, что мне думалось: вот поправлюсь чуток – и тоже смогу.
Саму меня и на третий день ещё сквозняком шатало. И со мной баба Вася тоже возилась, как с малым дитём: поила травами, мыла, меняла измаранные пелёнки да рубашки, кормила с ложки, водила под руки к ведру…
Мне всё казалось, что Лучик слишком маленький и слабый, а баба Вася всегда его хвалила, говорила, что и крепок, и здоров, и ест хорошо. А раз, его умывая, сказала:
– Экой он у тебя глазастенький! Весь в папашу, точёненький: и носик, и бровки… Такой же красавчик вырастет девкам на печаль.
Я тогда сильно удивилась. Лучик-то ладно, но кто б назвал красавчиком белозорого Свита? А потом подумала и решила, что это баба Вася для того моего мужа хвалит, чтобы мне приятное сделать.
Свита она пускала в каморку на нас с Лучиком посмотреть, но всякий раз не надолго и в добрый час. А мне объясняла так:
– Мужчины народ нервный, им всю эту нашу изнанку видеть ни к чему. Лиха им и на службе хватает, а дома должно быть хорошо и спокойно. Твой-то ещё молодец: не растерялся, увидав, как ты на пороге без памяти в луже крови лежишь. И после не охладел, видно, что любит. Другой кто после эдакого зрелища мог бы нос начать воротить.
На те две ночи, что баба Вася спала подле меня, Свит перебрался к Корвину. И всё бы ничего, вот только в первую ночь Свит учинил нам нежданную побудку. Я уже давно приметила, что Свит часто вскакивает до рассвета воды попить, и начала ставить ему кружку с водой у постели, чтоб не шастал раздетый по сквозняку. Он на Корвинову половину перебрался, а кружку-то свою у нас позабыл. Как пропели третьи петухи, слышу: дверь каморки отворилась, половицы заскрипели. А у меня как раз у постели ночное ведро стояло, чтоб далеко не ходить. И, как на грех, в тот раз не пустое. Ну, Свит спросонья на него и наскочил. Вот уж шуму было да ругани, а потом ещё и уборки…
В тот же утро я глядела из окна, как Свит уезжает на службу. Он, как всегда, когда в дурном настроении, не стал открывать ворота, а потащил Кренделька через калитку в поводу. Только калитка сделана на человечью мерку, и потому узка и низка, а Кренделёк куда как толст. Он сперва в створе Свита больно прижал, провёз рёбрами о косяк, а потом ещё и зацепился за щеколду путлищем. Но конь-то старый и умный, как почуял, что ремень натянулся и не пускает, встал в проходе, и ни туда, ни сюда. Свит его тянет, а конь ни с места. Свит тогда сгоряча отвесил ему пинка. Кренделёк прянул назад в калитку, треснулся затылком о низкую притолоку, и с испугу как прыгнет вперёд! Путлище оборвал, а Свита так толкнул грудью, что тот сразу с ног долой да в уличную канаву. Мальчишки соседские со смеху чуть с забора не попадали. Свит зыркнул на них так, что они своими смешками вмиг подавились, а потом как был, мокрый и грязный с головы до ног, вскочил в седло без стремени и укатил.
Баба Вася, посмеиваясь, покачала тогда головой и сказала:
– Ишь, норовистый какой…
Я в ответ:
– Что ты, баба Вася, Кренделёк – конь смирнёшенький, добронравный.
А она мне:
– Да я не про коня. Муженёк-то твой всегда убегает на службу вот так, не емши?
– Он обычно говорит, что ему с утра ничего не хочется…
– А ты, душа моя, всё равно на стол ставь, пусть хоть пару ложек каши положит в рот. И с собой ему заворачивай пожевать. Не будет бегать голодным – глядишь, и ершиться станет поменьше. Они ж там, в крепостице этой, за весь день разве что ломоть серого хлебца с солониной съедят да дрянным пивом запьют. С такого сыт не будешь, вред один.
– Откуда ты, баба Вася, знаешь, что мой служит в крепостице? – удивилась я.
А она улыбнулась и ответила:
– Так ведь мой тоже был княжий стрелок. И сынок старшенький князю служил. Я эту куртку и пальчики, загрубевшие от тетивы, ни с чем не перепутаю.
– Что ж сын теперь? Уже не служит?
Лицо бабы Васи вдруг затуманилось и она со вздохом сказала:
– Не служит, да. Вместе с отцом в землю лёг. Ты, поди, не знаешь, а тут четыре круга назад заваруха была: поморийцы привалили. Отбиться-то наши тогда отбились, но много народу полегло, и из гарнизона, и просто ополченцев. Средненький мой был человек смиренный, пекарь, но тоже стоял на стене, пока его не скосило стрелой. Чего только этим проклятущим поморийцам не сидится дома, на их островах?
И тут меня словно осенило. Всё одно к одному: и то, как она ко всем прикасалась легонько, незаметно ощупывая одежду, лица и руки, и то, что прежде, чем подойти к кому, всегда заговаривала и ждала ответа…
– А что, баба Вася, – осторожно спросила я, – ты правда совсем ничего не видишь?
– Правда, милая, совсем.
– И у тебя всегда так было?
– Нет, отчего ж. Прежде видела, хоть и не слишком хорошо. А как старшенького родила, так вконец и ослепла.
– О… Это от чего же?
– Ах, голубка, на всё Маэлева воля. Первый мой сынок уж такой крупный уродился, да так тяжело на свет шёл… У меня от того что-то в глазах полопалось, а после всё застлало, как чёрным дождём. Я сперва, конечно, с перепугу плакала, потом роптать перестала, так жить научилась. Теперь не тужу, у меня руки да уши зрячие.
– А хотела б ты опять видеть белый свет, как все люди?
– К чему, моя хорошая, несбыточного хотеть? Я каждый день благодарю Маэля хоть за то, что у меня есть здесь и сейчас.
Я обняла её и подумала, что вот человек, который даже без дара силы делает людям добро. Пусть тогда мой дар послужит на то, чтобы сделать добро ей.
В тот же вечер я попыталась поймать поток и с тоской поняла, что сила больше не слышит меня. Сколько бы не пыталась я зачерпнуть, все потоки текли лишь к Лучику. Как я расстроилась тогда! Плакала и ругала себя ругательски, что такой негодящей на свет родилась: ни силы мне, ни удачи ни в чём. Даже родить как следует, и то не смогла. Хуторские тётки вон родят, а на другой день работать идут, и ничего им не деется. Я же до сих пор чуть жива и ничегошеньки сама не могу. Баба Вася как услышала меня – всполошилась, стала расспрашивать, что стряслось. Я кое-как между слезами да соплями рассказала ей про мою печаль. Она, выслушав, только руками всплеснула:
– Ну ты, матушка, даёшь! Напугала-то… Ты это брось, а то ещё молоко пропадёт. Чем тогда мальца кормить станешь? Хуторские тётки знаешь скольких детишек ещё до первого круга в землю кладут? А сколько их самих родами в землю ложится? А ты и сама жива, и сынок жив-здоров. Чего тебе ещё надо? Негодящая она, видите ли. Я тебе на это вот как скажу. У охотников, кто в Торме промышляет, тоже удача бывает разная: когда вернутся с добычей, когда и без. Ну а если вдруг молодой, неопытный охотник принёс хорошую добычу, но вернулся раненым, что тогда? Поправится и снова промышлять пойдёт, и никто на него косо не посмотрит. В другой раз опытнее будет – и всё. Вот и ты сейчас как такой охотник. Поняла?
Понять-то я поняла, но до чего же трудно примириться с тем, что вот у тебя что-то было, а теперь навек ушло, и вернуть ничего нельзя…
На третий день бабушка Василина ушла. Мы впервые остались дома одни. Корвина куда-то сдуло на весь вечер, Лучик спал, а Свит уселся у окна ко мне спиной и сидел так тихо, что казалось, его дома нет. А я, глядя в его расслабленную спину, вдруг почувствовала, что он счастлив впервые за все эти дни. Это мне было с бабой Васей хорошо и надёжно, как за стеной, а Свиту – не по себе и неловко. И всё-таки я решилась кое о чём у него спросить.
– Слушай, Свит, а ты знал, что баба Вася слепая?
– Угу.
– Так ты потому её и позвал?
Свит чуть обернулся и недовольно посмотрел на меня через плечо:
– А ты думаешь, иначе она бы к нам пришла? Разуй глаза, Ёлка: во всём посаде нет никого, кто стал бы мне помогать. Я белозорый, а значит, помориец и враг, и попробуй кому докажи обратное. Да мне грязью в спину не швыряют только потому, что боятся силы.
Я подошла тихонько и обняла его.
– Свит, ну почему ты так плохо думаешь о людях?
– Потому, что они пока ничем не доказали мне, что о них стоит думать лучше.
– Милый, сколько ты уже здесь живёшь?
– Восьмой круг.
– Может, самое время уже попытаться жить с людьми, а не прятаться от них? Они не все плохи, дай им шанс. Вот хоть та же бабушка Василина. Это хорошая женщина, добрая и мудрая. Сделай шаг ей навстречу, и у тебя появится друг. Ведь ты можешь её вылечить?
– Могу. Только зачем? Стоит ей увидеть, с кем она имела дело – и я наживу врага. Смотри, Ёлка, в другой раз будешь рожать сама, с помощью Маэлева благословения и Ящеровой матери, потому что единственная повитуха этого сраного посада к тебе не пойдёт.
– Уверена, ты неправ. Она ведь раньше ничего о нас с тобой не знала. Но теперь-то, прожив под твоей крышей три дня, разве она станет судить о тебе только по масти? Знаешь, как она тебя называла? Красавчик. Советовала мне лучше заботиться о тебе. Да в конце концов, знаешь что? Я никогда у тебя ничего не просила, а вот теперь прошу. Вылечи её, сделай это для меня, хорошо?
Свит подумал немного, потом чуть заметно мне улыбнулся и сказал:
– Хорошо. Но смотри, это только ради тебя.
***
Прошло почти две седьмицы. Как это иногда случается, среди хляби вдруг выдался погожий день. Дождь прекратился, облака посветлели, и пару раз между ними даже мелькнул узкий лоскуточек синего неба.
Свит бродил с корзинкой по базару, выбирая по Ёлкиному наказу зелень и овощи к столу. Вдруг у одного из лотков он увидел знакомый светлый платок. Бабушка Василина, закрыв глаза, чуткими пальцами перебирала пёрышки лука. Свит удивлённо присвистнул и живо подошёл к ней.
– Здравствуй, баба Вася. Чего это ты лучок выбираешь вслепую, на старый манер? Или мазь не помогла?
– Здравствуй, соколик, здравствуй, – повитуха ласково улыбнулась в ответ, не открывая глаз – Мазь-то помогла, как не помочь. Я теперь твоими стараниями всё вижу, ровно молоденькая. А что зеленушку руками мну, так это просто по старой привычке.
Тут она открыла глаза и, наконец, встретилась взглядом с собеседником. Её живое и доброе лицо мгновенно словно окаменело, а потом вспыхнуло гневом.
– Как? – еле проговорила она внезапно осипшим голосом, – Ты? Да ты… Ах ты… Штоб тебя, поморийская рожа…
– Так, всё, – сразу помрачнев, оборвал её Свит, – Бывай, Василина Прокловна.
Резко щёлкнув пальцами у возмущённой женщины перед самым носом, он отвернулся, запахнулся в плащ, надвинул на лицо капюшон и быстрым шагом пошёл прочь. А она так и осталась стоять у лотка, беспомощно и слепо вытянув перед собой свои чуткие руки.








