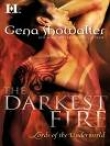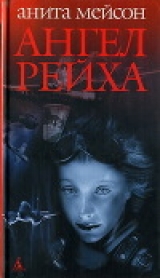
Текст книги "Ангел Рейха"
Автор книги: Анита Мейсон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
В то время я познакомилась с девушкой по имени Лиза.
Я еще изредка предпринимала отчаянные попытки учиться в надежде за несколько дней напряженных усилий наверстать упущенное за многие недели. Однажды утром я отправилась на лекцию по анатомии позвоночника. Через несколько минут я сдалась. Я перестала записывать лекцию, поскольку не понимала, о чем идет речь, и принялась рисовать на память схему полета (я тогда училась летать над аэродромом по кругу).
– А это что такое? – прошептала моя соседка, высокая девушка с продолговатым высоколобым лицом, которому очки придавали суровое выражение.
– Схема кругового полета, – шепотом ответила я.
– Схема чего?
Очевидно, она решила, что я рисую схему электрической цепи. Я хихикнула. Она тоже.
– Тс-с! – укоризненно прошипел кто-то позади нас.
Моя соседка покраснела. Она была серьезной девушкой: несколько раз я видела ее погруженной в чтение учебников.
Когда по завершении лекции мы укладывали книги в свои сумки, она сказала:
– Пойдем перекусим. Я знаю здесь славное кафе, возле художественной галереи.
Такие траты были мне не по карману, но я впервые получила подобное приглашение. Она отвела меня в полуподвальное кафе, где на столах горели красные свечи, облепленные змеистыми струйками расплавленного воска, а на стенах висели французские и испанские плакаты. Мы съели фасолевый суп с ржаным хлебом и запили пивом. С непривычки пиво ударило мне в голову, и я пришла в бесшабашное настроение.
Мы отправились в шарлоттенбургский парк, где купили пакетики сухарей и стали кормить белок.
– Почему ты так редко посещаешь лекции? – спросила Лиза.
– Я хожу на летные курсы.
– Летные?
– Да.
– Но они же стоят больших денег, наверное?
– Просто огромных.
– И ты можешь себе позволить такие расходы?
– Нет.
Она рассмеялась:
– Но твой отец может.
– Он ничего не знает.
Она с любопытством взглянула на меня:
– Ты не боишься крупных неприятностей?
– Боюсь. – Я довольно ухмыльнулась, поскольку косые лучи солнца пробивались сквозь листву деревьев и я шла по лесу с человеком, очень мне симпатичным.
– Ты сильно рискуешь, верно? – сказал она.
– Да. – Я почувствовала себя польщенной.
– Хм-м… – Похоже, мой ответ не произвел на нее впечатления. – Вероятно, компенсация каких-то комплексов.
– Что? – Очарование дня разом померкло.
– О боже, опять я за свое, – сказала Лиза. – Мой отец – психоаналитик.
Теперь я почувствовала себя оскорбленной, и меня нисколько не интересовало, кто ее отец.
– Поневоле начинаешь все усложнять, – сказала она. – Анализируешь все подряд. Дома мы постоянно этим занимаемся. Если нацисты придут к власти, у отца будут неприятности. Возможно, нам придется покинуть страну.
Я понятия не имела, о чем она говорит. Но некие серьезные и зловещие вопросы смутно замаячили в моем сознании. Мне хотелось, чтобы Лиза продолжала говорить о себе, о своей семье и о туманной угрозе, нависшей над ними, но она опять переключила внимание на меня.
– Наверное, для тебя полеты – насущная потребность.
– Да.
– Расскажи мне.
– Обещай, что не будешь ничего анализировать.
– Обещаю, что буду анализировать все только мысленно.
В тот день я не поехала в летный клуб. Мне не хотелось. Я гуляла по лесу со своей новой подругой и говорила, говорила без устали, восхищаясь игрой солнечных бликов на ее светлых волосах, казавшихся почти серебряными в ярких лучах. Вокруг нас прыгали белки, словно не замечая нашего присутствия. Как прекрасен Берлин весной, думала я.
Я видела Лизу еще на нескольких лекциях, которые посетила, но она всякий раз общалась с другими студентами. Позже я написала на адрес, который она мне дала, но ее семья уже переехала оттуда.
Через несколько месяцев начальник ремонтной мастерской поручил мне самостоятельно разобрать и собрать двигатель за выходные.
К тому времени я уже полюбила двигатели. Я поняла двойственность их природы. Есть железная логика, свод непреложных правил; и есть момент непредсказуемости, некий дьяволенок, прячущийся в клапанах и шайбах. Поэтому каждый двигатель обладает индивидуальностью и требует индивидуального к себе подхода.
Аккуратно раскладывая детали на расстеленных на полу газетах в гулком помещении мастерской, я трудилась до позднего вечера субботы и весь следующий день. На вторую ночь, где-то после двенадцати, произошла странная вещь. Двигатель стал собираться словно сам собой. Обильно смазанные маслом детали буквально выпрыгивали из моих рук и сами становились в гнезда или на петли с влажным щелчком.
Я закончила работу к шести тридцати утра и сидела на деревянном ящике, жуя бутерброд, когда появился начальник мастерской. Он молча обследовал двигатель. Потом одобрительно кивнул.
– Ты хорошо потрудилась, – сказал он и приступил к своим делам.
Я ликовала. С кружащейся от недосыпа и гордости головой я доехала на автобусе до своего дома и рухнула в постель.
Я проснулась к вечеру и обдумала сложившуюся ситуацию. На меня разом нахлынули все чувства, которые я подавляла на протяжении многих месяцев: чувства вины, сомнения, страха. Родители тратили свои заработанные тяжелым трудом деньги на мое образование. А я торчала в ремонтной мастерской, ковыряясь в промасленных железках.
Я взглянула на свои черные обломанные ногти и со стыдом вспомнила ухоженные руки своих сокурсников. Все они собирались стать врачами. А кем собиралась стать я?
Сидя на кровати в своей убого обставленной мансардной комнате, я услышала маршевое пение коричневорубашечников. Жизнерадостный рев воодушевленных голосов. Мне словно нож вонзили в сердце.
Я подошла к окну и выглянула на улицу. В соседних домах загорались окна. Последние шеренги штурмовиков, во всю глотку орущих свою песню, скрылись за углом. Я страстно позавидовала их уверенности в правильности избранного пути. Они оставались самими собой и делали то, что хотели, – свободные от всяких сомнений и угрызений совести, как животные. Мне безумно хотелось походить на них. Больше всего на свете мне хотелось походить на них.
Но что же со мной не так?
Я не интересовалась ничем из того, чем мне следовало интересоваться. Я не желала ничего из того, что мне следовало желать. Я хотела только одного – и именно этого, постоянно повторяли мне, я не могла получить.
Проблема заключалась в том, что в глубине души, где каждый знает всю правду о самом себе, я не чувствовала себя виноватой. О да, я лгала родителям, терзалась мыслями о запущенной учебе и была одинока, поскольку сама сложившаяся ситуация по природе своей исключала возможность доверительного общения. Все это лежало на поверхности. Глядя на огни, которые зажигались в окнах напротив, освещая жизни, протекавшие, вероятно, в согласии с неким предначертанным планом, я поняла, что должна прожить собственную жизнь. Здесь я действительно ничего не могла поделать.
А что касается мнения окружающих, то мне придется игнорировать его.
Я рассмеялась. Я не понимала, откуда взялся этот смех, но он раз и навсегда освободил меня от всех сомнений. Я отмыла испачканные маслом руки и лицо – и отправилась исследовать город.
Глава пятая
Человек всегда получает именно то, чего хочет; не пытайтесь переубедить меня. Но подумайте хорошенько, прежде чем хотеть чего-нибудь.
Вероятно, я хотела этого.
Ночного полета сквозь хаос войны и человека с гниющей ногой позади. Где еще мне быть?
Я должна летать.
Эрнст стал сниматься в кино.
Это было неизбежно. Все были помешаны на самолетах, все были помешаны на кино: сложите одно с другим – и вы получите постоянный повышенный спрос на пилотов-каскадеров.
А кто лучше Эрнста для этого подходит? Ему это нравилось. Блистательное общество, экзотические места съемок. Если полеты оказывались менее рискованными, чем ему хотелось, он всегда находил способ разнообразить свои впечатления. Он затеял перелет через Сахару, совершил аварийную посадку с забарахлившим двигателем и ждал спасательную команду возле своего аэроплана. В Серенгети на самолет Эрнста набросилась львица и отодрала кусок обшивки от крыла.
Он попытался увезти с собой частицу Африки. Шкуры, маски, копья, щиты, барабаны. Они создавали в квартире Эрнста атмосферу опасности: вы никогда не знали, с чем столкнетесь в ванной комнате.
В период экономического кризиса он неоднократно оказывался на грани полного краха, но всегда избегал катастрофы, как неизменно избегал любых серьезных неприятностей. Когда ситуация стабилизировалась, он подал заявление на должность инструктора на секретной авиабазе в Рехлине, где проводились испытания самолетов и научные исследования, но получил отказ. Ответ был составлен в выражениях, дышавших нескрываемым чиновничьим презрением. Они не забыли «летающего профессора». Они считали Эрнста клоуном.
Он и был клоуном.
Толстяк был спикером в Рейхстаге.
Я тоже подалась в кино. Внезапно я стала нуждаться в деньгах.
Я знала, что умею летать, и действительно умела. После успешного окончания своих первых курсов планеризма я обратила на себя внимание начальника планерной школы. Он мной заинтересовался, поддержал меня и, довольный моими успехами, стал давать мне индивидуальные уроки. Довольно скоро я стала проводить на летном поле планерного клуба все дни, когда приезжала к родителям. Я начала совершать полеты на дальнее расстояние, полеты на большой высоте и поставила несколько скромных рекордов (в то время это не составляло труда).
Степень моего безрассудства превосходила уровень моих знаний. Я получила хороший урок в тот день, когда влетела в грозовую тучу, засосавшую меня и поднявшую на высоту трех тысяч метров, и оказалась по другую сторону чешской границы, в зоне запрета полетов. Последовали бурные разборки на дипломатическом уровне, моя фотография появилась в газетах, я схватила жестокую простуду (в грозовой туче на высоте трех тысяч метров буквально покрываешься инеем) и чуть не угробила новый тренировочный планер. С начальником клуба я помирилась раньше, чем с отцом, который пребывал в ярости и говорил, что я постыднейшим образом выставила себя на посмешище. Он не мог простить мне моей фотографии в газетах. Тот факт, что я установила рекорд высоты полета, не производил на него ни малейшего впечатления.
Я не особо огорчалась, что отец сердится на меня, поскольку в своем гневе он не желал со мной разговаривать. Я безумно боялась оставаться с ним наедине. Я с ужасом ждала, что он начнет расспрашивать меня об университете, о предметах, которые мы проходим, и о моем отношении к учебе. Я проводила дни напролет в планерном клубе отчасти из желания держаться подальше от отца. Я страстно благодарила небо за то, что он постоянно занят своей работой, поглощающей все его внимание.
Когда я решила, что набралась достаточно опыта по части пилотирования планеров, я отправилась на Ронский чемпионат. Он проводился каждое лето; я была единственной женщиной, принимавшей участие в соревнованиях. Тем труднее мне было справиться с ситуацией, сложившейся у меня там. Мой планер не хотел летать. Не знаю почему. Иногда у вас просто начинается полоса невезения. Каждый день мой планер отрывался от земли и слетал в долину, где резко терял высоту и приземлялся. У зрителей не возникало никаких сомнений по поводу причины происходящего. Мое появление на летном поле на третий день соревнований было встречено дружными издевательскими возгласами, и многие громко советовали мне валить отсюда восвояси. Но я отказалась. Я стискивала зубы до боли в челюстях. Я твердо решила продержаться до конца соревнований.
И я продержалась.
Неделей позже мне пришло письмо. Я прочитала его дважды, а потом попросила маму прочитать вслух, поскольку не верила своим глазам.
Письмо было от директора Исследовательского института планеризма в Дармштадте. Институт пользовался хорошей славой; он занимался исследованиями в области аэродинамики и метеорологии и являлся одним из крупнейших в мире научно-исследовательских центров такого рода.
Директор писал, что он присутствовал на Ронском чемпионате и был восхищен моей «стойкостью в тяжелых обстоятельствах». Он писал, что для летчика нет ничего важнее упорства и решимости, и приглашал меня присоединиться к экспедиции, которую институт устраивал с целью исследования термических условий полета в Южной Америке. Средства на дорогу мне надлежало изыскать самой.
– А как же твоя учеба? – спросил отец. Казалось, он никак не мог понять, почему я хочу ехать.
– Это всего лишь небольшой перерыв. Люди берут полгода, год на академический отпуск. Даже больше.
Я говорила правду. Система образования позволяла такое.
– Да, – сказал он. – Но не по такой же пустяковой причине.
– Для меня это не пустяк, отец.
– Разумеется.
Он прошелся взад-вперед вдоль своего письменного стола. С выражением крайнего неодобрения на лице. Я наблюдала за ним с ощущением удушья.
– Южная Америка – опасное место, – сказал он. – Откуда нам знать, будешь ли ты там жива и здорова?
– Институт примет все меры для нашей безопасности, отец. Это же не какая-нибудь любительская организация.
– Несомненно, они имеют опыт в делах такого рода. Но ты – молодая женщина. Откуда нам знать, позаботятся ли они о тебе должным образом?
– Я не ребенок.
– Ты по-прежнему остаешься на моем попечении и, покуда так продолжается, ты не будешь болтаться по миру, участвуя в каких-то дурацких проектах, связанных с планеризмом.
– Отец, пожалуйста! Пожалуйста!
Если бы это помогло, я бы бросилась к его ногам, словно женщина на гравюре с изображением Кориолана, висевшей в нашей столовой; но я знала, что это не поможет. Только вызовет у него отвращение.
Он искоса взглянул на меня. Он не ожидал от меня такой страсти.
– А как насчет расходов? – спросил он. – Ты хоть представляешь, сколько стоит трансатлантический переезд?
– Я заработаю, – сказала я. – Одна кинокомпания ищет пилота-каскадера, женщину.
– Тогда вопрос решен, – сказал отец. – Ты никогда не пойдешь на такое. Просто уму непостижимо. Чтобы моя дочь снималась в кино!
– Ты даже не увидишь, что это я, – сказала я. – В этом весь смысл работы каскадера. Зрители примут меня за киноактрису.
– Я отлично все понимаю!
Он почти потерял самообладание. Он несколько раз откашлялся.
Я почувствовала, что наступил благоприятный момент, и сказала:
– Это такая же работа, как и любая другая, но за нее хорошо платят. Скорее всего мое имя даже не будет значиться в титрах.
– Где снимается фильм?
– Под Гамбургом.
– Далеко отсюда.
– Меня поселят в хорошем отеле. Но если ты возражаешь против отеля, я могу остановиться у тети Этти.
– Ты уже все продумала, верно?
– Да.
Отец пригладил свои маленькие, аккуратные усики. Я уже ожидала услышать от него «нет». Не знаю, что бы я сделала в таком случае.
Он сказал:
– Мне нужно узнать побольше о предстоящей экспедиции. Я напишу директору Исследовательского института планеризма…
Я судорожно вздохнула. Он поставит меня в страшно неловкое положение, если сделает такое.
– Да, – сказал он. – Я должен. Это самое малое, что я могу сделать. И если я получу удовлетворительный ответ – если я получу оный, – и если я сочту, что ты можешь участвовать в экспедиции, и если ты будешь заниматься в период своего академического отпуска и восстановишься в университете сразу по возвращении… ну, тогда, возможно…
В тот год я познакомилась с Дитером.
Бедный Дитер. Я уже почти перестала на него сердиться. Теперь, когда я победила. Жестокая мысль, но она приходит мне в голову. Потому что вот она я: сижу за штурвалом «бюкера», продолжаю пилотировать самолеты несмотря на все случившееся. А он сейчас лежит на больничной койке. Ну, возможно, уже сидит. Ожидая прибытия американцев, с которыми, несомненно, будет страшно груб.
Я не из тех, кто легко прощает обиды. Я должна сделать признание. Когда я услышала, что он разбился при неудачной посадке, уронил самолет на бетон, я улыбнулась.
Следует добавить, это произошло уже после того, как я узнала, что он остался жив.
Я пошла навестить Дитера, мы страшно поругались, и медсестры попросили меня уйти. Думаю, это здорово его встряхнуло. Мы не ругались уже почти год.
Ему повезло, что он остался жив. Сухая фраза, дающая лишь самое слабое представление о пропасти, лежащей между реальным событием и возможным. Дитеру повезло по причине полного отсутствия горючего в топливных баках. Когда бы не счастливый случай, он бы разбился в лепешку и не лежал бы сейчас на больничной койке. По крайней мере, живой и относительно здоровый.
Думая о Южной Америке, я вспоминаю широкие, залитые солнечным светом пространства и грифов.
Однажды я отправилась на взморье и там увидела их. Урубу, так они назывались по-индейски. Черные, размером с индюка, лысые, красноглазые, мерзкого вида. Четыре птицы, сдвинув головы, терзали клювами тушу какого-то животного. Сквозь шум прибоя я слышала тихий треск разрываемого мяса.
На берегу не было никого, кроме меня и четырех грифов.
Я стояла и смотрела. Я еще никогда не видела грифов так близко. Когда я устремлялась за ними в восходящих потоках теплого воздуха, они стряхивали с себя оцепенение и резко уходили в сторону при приближении планера. Они могли висеть в воздухе почти неподвижно. При виде них у меня перехватывало дыхание: такое безупречное мастерство полета.
Я задумчиво огляделась по сторонам. Вдоль берега тянулась пыльная грунтовая дорога, за которой находилась крохотная деревушка. С полдюжины хижин, с виду как будто недостроенных, с черными проемами открытых дверей. Несмотря на жаркий день, из труб шел дым; там готовят пищу, подумала я, на открытых очагах.
Передо мной простиралась до самого горизонта, едва различимого вдали, блестящая гладь океана, мо-лочно-голубая на отмелях и темно-зеленая поодаль от берега. По обеим сторонам от меня лежал ковер из светлого песка персикового цвета.
Я снова перевела взгляд на грифов. Один из них теперь сидел на грудной клетке животного и жадно пожирал внутренности.
Я резко повернулась и пошла прочь; нисколько не встревоженные, птицы лишь на миг вскинули головы по-змеиному стремительным движением.
На пути к автобусной остановке ко мне присоединились маленькая девочка в розовом платьице и черный поросенок.
В холле отеля болтался Дитер.
– Где ты была? – спросил он, когда я вошла, оставляя за собой дорожку песка, сыпавшегося из сандалий.
– На взморье.
У него вытянулось лицо.
– Но мы же собирались пойти на взморье завтра.
– Я была не там. Не знаю, где я была. Я просто поехала на автобусе.
– Ты просто поехала на автобусе? – Он уставился на меня с ошеломленным видом.
– А что такого?
– Но это же Южная Америка!
– Не болтай ерунду, Дитер, – сказала я. – Здесь не опаснее, чем в центре Франкфурта.
Я сказала «увидимся позже» и прошла через холл к скрипучему лифту с дверями под бронзу, который стремительно поднял меня к моему номеру.
Дитер заботился обо мне. Он боялся, что я сгорю на солнце, что меня покусают москиты, что я заблужусь. На самом деле моя кожа отлично переносила палящее бразильское солнце, а москиты меня нисколько не беспокоили; наоборот, именно у Дитера руки покраснели и шелушились, а ноги были покрыты зудящими укусами. Его попытки защитить меня от неведомых опасностей казались совершенно неуместными, но я полагала, что он не может иначе. Он искал моего общества гораздо настойчивее, чем мне хотелось бы, но сказать ему об этом я не могла. Он болезненно переносил отказы. И одно из многочисленных различий между нами состояло в том, что я, довольно общительная по природе своей, спокойно могла обходиться без общения (я научилась этому, когда Петер уехал в интернат), а Дитер, похоже, постоянно нуждался в компании. Казалось, наедине с самим собой он чувствовал некую свою неполноценность.
Я поняла это еще на пароходе, вышедшем из Бремена. Дитер часто подсаживался ко мне за завтраком, когда я с наслаждением потягивала кофе и предавалась размышлениям, поскольку полагал, что завтракать в одиночестве мне так же неприятно, как ему. Или я стояла у поручня на закате, задумчиво глядя на медленно темнеющую воду и огненную дорожку солнечного света на волнах, – и вдруг рядом появлялся Дитер с какими-то высказываниями насчет открывающейся взору картины. Очередной раз.
Впрочем, он был довольно приятным человеком. И одним своим качеством заинтересовал меня. Своей чрезвычайной серьезностью. Он был бесконечно предан национал-социалистической партии. Теперь она стала правящей партией, но Дитер вступил в нее несколько лет назад, когда она еще отчаянно старалась укрепиться в Берлине. Когда он говорил о ней, я чувствовала за его словами с трудом сдерживаемую страсть.
Я поняла, что завидую такой страстной убежденности. Речи Дитера часто утомляли меня или казались мне туманными, поскольку носили характер экстатический и мистический. Иногда они вызывали у меня отвращение, поскольку в них сквозила намеренная жестокость, хотя в самом Дитере я не замечала никакой жестокости. Но я завидовала уверенности, с какой он отвечал на многие вопросы, на которые я никогда не могла найти ответа; и я также завидовала его бескорыстной преданности партии. Я сознавала, что неспособна служить какой-либо организации так, как он; и порой мне безумно хотелось обменять свою свободу на ее противоположность. Когда я пребывала в таком настроении, мне казалось, что духовная близость с единомышленниками гораздо предпочтительнее независимости и что принятие некой партийной линии или некоего учения замечательным образом упрощает жизнь. В подобном настроении я бы сама могла примкнуть к национал-социалистам. Но такие настроения скоро проходили.
И я ненавидела политику.
Дитер, которому я не рассказывала о своих двойственных чувствах, но который все же о них догадывался, сказал, что национал-социализм – не политика. Я посмеялась над ним, но в известном смысле он был прав. Движение уже вышло за рамки политики. И в нем чудилась некая всепожирающая сила.
Дитер, думала я, хочет положить жизнь на алтарь движения. Я не хотела. Вдобавок, мне совершенно не нравились взгляды партии на женщину. Они сводились к тому, что роль женщины состоит в служении мужу и в воспитании детей. Это ее «предназначение».
Так что же я делаю здесь, в Бразилии, летая на планерах в экспедиции, финансируемой правительством? Они запросто могли остановить меня. То, что они этого не сделали, давало мне надежду, что жить при новом режиме будет не так ужасно, как казалось, исходя из их риторики; что они говорили не то, что думали.
Ничего удивительного. Политики, безусловно, никогда не говорят того, что думают.
Я лежала на широкой постели в своем номере и смотрела на шторы, легко колебавшиеся в потоках воздуха от вентилятора. Такая загадочная штука – воздух, исследовать который мы приехали сюда из далекого далека. Действительно, думала я, мы проделали страшно длинный путь, чтобы исследовать теплые восходящие потоки. И тем самым обогатить знания человечества.
Вольфганг скептически относился к официально заявленным целям нашей экспедиции; Вольфганг – третий член нашей команды из четырех человек – относился скептически ко всему. Он служил в министерстве иностранных дел. Он был примерно одного возраста с Дитером и любил его поддразнивать. Дитер щетинился, словно дикобраз. Я наблюдала за ними и не вмешивалась.
Я замечательно проводила время. Я летала каждый день, и у меня оставалось достаточно свободного времени, чтобы внимательно осматриваться по сторонам. Бразилия приводила меня в восхищение: полная противоположность стране, из которой я приехала.
Через час я встала, набрала воды в покрытый сетью тонких трещин голубой эмалированный умывальник, помылась, переоделась и спустилась вниз. В тот вечер нас пригласили на концерт, организованный германо-бразильским обществом культуры. Налаживание международных культурных связей – здесь мы здорово постарались.
Мы в десяти минутах полета от Рехлина. Пять дней назад я прилетела сюда, чтобы пересесть на вертолет; такое ощущение, что с тех пор прошла целая жизнь.
Я (как и все) надеюсь, что рехлинский аэродром все еще действует. Что там есть рация, по которой генерал передаст нужное сообщение куда следует; что там есть электричество и доступная посадочная площадка. Почему бы там не быть всему этому?
До нашего вылета мы не имели возможности все выяснить. Телефонная связь со штабом теперь прервана. Последний звонок оттуда поступил вчера в три часа пополудни; для них это оказалось последней возможностью осведомиться о происходящих событиях и получить ответ. Теперь они могли сообщаться с миром только дробью телеграфного ключа, похожей на постукивание трости слепца по дороге.
Я словно наяву услышала постукивание ключа под рукой слепца, сидящего в заброшенном контрольно-диспетчерском пункте рехлинского аэродрома.
Потом я вдруг засомневалась: вчера или позавчера поступил оттуда звонок в три часа пополудни? Сколько времени мы провели в той кроличьей норе? Пять дней? Что значит «день»? В царившей там темноте, не отступавшей даже при свете зажженных ламп. Ритмичный глухой стук, словно ты пребываешь в чужом теле. Голоса.
Уже несколько месяцев назад штаб перестал руководить какими-либо действиями, но сила привычки по-прежнему властвует над умами. Возьмем, к примеру, генерала, сидящего позади меня. Он казался вполне здравомыслящим человеком, покуда не спустился в кроличью нору. А теперь посмотрите на него. Оцените дурацкую миссию, взятую из какой-то сказки, из какой-то юмористической книжки.
И посмотрите на меня, которая летит вместе с ним, дабы выполнить эту миссию.
Однажды я застала Дитера в баре отеля с американской газетой в руках.
Он завороженно смотрел на фотографию огромного костра. На заднем плане смутно виднелось здание, показавшееся мне знакомым. Вокруг костра стояли люди с исступленным выражением лиц. Люди в форме, бросавшие что-то в костер. В форме штурмовиков.
Приглушенным, дрожащим от возбуждения голосом Дитер сказал:
– Они сожгли книги!
– Кто? – тупо спросила я. – Какие книги?
– Весь хлам, который уже давно следовало сжечь.
Я посмотрела на него. Потом внимательно рассмотрела фотографию. Она мне не понравилась. В частности, мне не понравилось выражение лиц людей, собравшихся вокруг костра.
Я задумалась, что же такое сжигают в этом костре. Разумеется, данное действо носило чисто символический характер: нельзя уничтожить книгу, сжигая ее экземпляры. Я думала, зачем это кому-то понадобилось. Я не особо увлекалась чтением, но отдельные книги многое для меня значили. Еще в детстве я перечитала все собрание сочинений Дюма, хранившееся в отцовском кабинете. Я любила исторические романы и книги об экзотических странах. В четырнадцать лет я прочитала о раскопках Трои Шлиманом и никогда не забуду дрожи восторга и удивления, которая пробрала меня насквозь, когда я поняла, что Троя действительно существовала. Кроме того, я любила отдельные стихи, которые помнила наизусть и ни при каких обстоятельствах не смогла бы вычеркнуть из памяти.
Неужели какие-то книги, имеющие для меня значение, тоже горят в этом костре? Вполне возможно.
Но дело было не в этом. Вероятно, каждый мог бы найти здесь свою книгу, подумала я, а теперь никогда не найдет. Именно поэтому книги нельзя сжигать.
Лицо Дитера светилось мальчишеским восторгом.
– Теперь мы действительно сможем возродить Германию, – сказал он.
С течением времени зародилась идея отловить нескольких грифов и увезти с собой. Мы подарим птиц Исследовательскому институту планеризма.
Они являлись самыми чуткими детекторами воздушных потоков. Я много раз мысленно благодарила парящего в поднебесье урубу, который указывал мне на восходящий поток теплого воздуха, иначе никак не различимый. «Какую пользу принесли бы они у нас дома!» – хором говорили мы. Они бы наполовину уменьшили расходы на метеорологические исследования и оказали неоценимую помощь пилотам планеров, летающим на большие расстояния.
В конечном счете шутка переросла в серьезный проект. Ганс-Эрик, начальник экспедиции, заметил однажды вечером, что, если мы просто сообщим директору института о своем желании привезти грифов для научных исследований, тот, вероятно, получит необходимое разрешение.
– На нашу экспедицию все равно тратятся огромные деньги, – сказал Ганс-Эрик. – Что им пара грифов?
Лицо Вольфганга медленно расплылось в улыбке. У него было странное лицо: длинное и мертвенно-бледное, с несколько порочным выражением, которое он, можно подумать, специально тренировал.
– Верно, – сказал Вольфганг.
Мы с Вольфгангом пошли договариваться с хозяином отеля. Хозяин никак не мог понять, зачем нам понадобилось держать грифов в клетке на заднем дворе, но в конце концов уступил нашей просьбе при условии, что мы ничего не скажем хозяевам соседних отелей.
Мальчик-лифтер сказал, что у него есть брат, который сделает нам клетку и отвезет на своем грузовике грифа и нас, куда мы скажем.
Через две недели Дитер, Вольфганг и я вместе с братом лифтера отправились на берег, где я видела четырех урубу. В кузове грузовика у нас лежала приманка: часть воловьей туши, слегка подтухшая.
Берег не был безлюден. Несколько малолетних мальчишек в изодранных рубашонках бегали по отмелям, толкая самодельный плот. Поодаль, где очертания предметов начинали расплываться в легкой дымке, мы увидели одинокого урубу. Он сосредоточенно клевал почти невидимую груду падали.
Дети с интересом смотрели, как мы вытащили из грузовика деревянную клетку и поволокли ее в сторону грифа. Над кузовом грузовика висел рой мух, похожий на перевернутую черную грушу.
Мы приблизились к грифу. Он поднял голову, коротко взглянул на нас, а потом вновь принялся долбить клювом.
– Нужно было взять сеть, – пробормотал Вольфганг.
Брат лифтера энергично помотал головой:
– Нет сеть. Он улетать. Урубу быстрый. Смотри.
Внезапно он резко шагнул вперед и попытался схватить птицу, которая мгновенно взмахнула крыльями и взмыла ввысь одним мощным уверенным движением.
– Он скоро возвращаться.
Действительно, гриф кружил над нами в ожидании, когда мы закончим дурацкую игру, которую затеяли, и дадим ему спокойно поесть.
Толстой корягой брат лифтера подцепил падаль, которую клевал гриф (похоже на собаку: я мельком увидела покрытую темной шерстью лапу), и бросил ее в клетку. Потом он подпер широко открытую дверцу клетки палкой, взятой специально для этой цели, и привязал к ней конец длинной веревки, чтобы в нужный момент выдернуть подпорку. Незатейливая ловушка, но глупый гриф должен в нее попасться.
Наш гриф оказался не таким уж глупым. Он отлетел к грузовику и заинтересовался содержимым кузова.
– Черт побери, – рассмеялся Вольфганг. Его черные волосы прилипли к потному лбу. – Нам следовало оставить клетку и приманку в кузове.