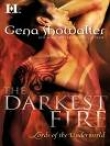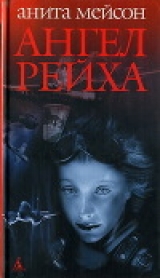
Текст книги "Ангел Рейха"
Автор книги: Анита Мейсон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Я пролетаю прямо над ними: у меня нет выбора. Мое появление оказывается для них такой же неожиданностью, и они реагируют с запозданием. Когда колонна остается у меня позади, начинают трещать пулеметы, и «бюкер» вздрагивает и резко теряет высоту. Я в развороте ухожу вверх как можно круче, с облегчением убедившись, что машина по-прежнему слушается руля. Выровнявшись на высоте триста метров, я оборачиваюсь, чтобы проверить, не поврежден ли хвостовой отсек, и мое внимание привлекает диковинное зрелище внизу.
За грозной передовой колонной движется средневековое войско, рассыпавшееся по полю и словно выросшее из-под земли. Пехотинцы в шинелях с хлопающими полами толкают перед собой тачки, с верхом нагруженные разным барахлом. Другие едут на лошадях или шагают рядом с телегами, влекомыми волами и тоже нагруженными всякой всячиной: матрасами, кухонными плитками, велосипедами, кастрюлями и стульями. Посреди огромной толпы советских солдат трясутся по ухабам несколько машин: трофейные гражданские автомобили и мотоцикл с коляской.
За рулем автомобилей и мотоцикла никто не сидит. Их, как и телеги, тащат волы.
Приливная волна людского моря гонит перед собой смешанное стадо коров, овец, свиней, коз и кур; связки битых цыплят свисают с подпруг у лошадей и с деревянных бортов телег.
Над диковинным войском дрожит желтоватый ореол, яркие солнечные лучи, преломленные свинцовой тучей, пронизывают завесу пыли, поднятой колонной бронетехники.
Промозглым ноябрьским вечером я отправилась навестить Эрнста. Когда я открыла калитку, меня окатило дождем капель, сорвавшихся с кованой арки. Я осторожно прошла по скользкой мощеной дорожке, отблескивающей зеленым в свете моего фонарика, к погруженному во мрак тихому дому. Стоя на крыльце, я слышала лишь стук капель, падающих с карниза, да собственное дыхание.
Я позвонила. Дребезжащий звонок резанул по нервам. Через несколько минут, после долгой возни с замками, дверь открылась, и Альберт, слуга Эрнста, долго всматривался в мое лицо из темной прихожей. Похоже, он узнал меня не сразу, хотя я уже несколько раз наведывалась в неуютный особняк Эрнста.
– Входите, капитан. Извините, не сразу узнал вас в темноте. Генерал в гостиной. – Альберт понизил голос. – Он сильно изменился.
Когда я вошла, Эрнст поднял голову, и я мгновенно отказалась от всякого намерения вовлечь его в наш с Дитером спор. Он действительно очень изменился. Его глаза потемнели, потухли, словно расстрелянные прожекторы.
Он сидел на ковре у камина. Перед ним были разложены игральные карты рубашкой вверх. Под рукой у него стояли бутылка бренди и стакан. Кот дремал у каминной решетки, постукивая кончиком хвоста по картам.
– Ну, привет! – воскликнул Эрнст с жутковатой веселостью. – Выпьешь чего-нибудь?
– Нет, спасибо. Мне нужно только согреться. – Я села в ближайшее к камину кресло и протянула руки к огню.
– Решил вот погадать себе на картах, – сказал он. – Знаешь, моя мать была цыганкой.
Его мать вовсе не была цыганкой. Странно, что он сказал такое. Это было не так опасно, как заявить, что твоя мать еврейка, но все равно довольно рискованно.
– И что говорят карты?
– Я буду богатым, но раздам все свои деньги. Я буду знаменитым, но слава меня погубит. Я буду любим, но всегда недолго и людьми весьма невзыскательными.
– Эрнст… – У меня болезненно сжалось сердце. – У тебя много друзей, и все они очень взыскательные люди.
– Так где же они? Они меня не навещают. Когда ты навещала меня в последний раз?
– Извини. Я же работаю в Регенсбурге. Оттуда трудно добираться.
– Ко мне наведывался Плох, – сказал Эрнст, пальцем передвигая карты на ковре. – Но лучше бы он вообще не приходил.
– Почему?
Эрнст не ответил. Он пристально смотрел в огонь. Я перевела взгляд туда же и замерла от восхищения. Под пляшущими языками пламени сияла чистым, почти белым светом сама душа огня. Ее красота казалась такой неземной и такой опасной, что мне мучительно захотелось дотронуться до нее рукой. Поодаль от нестерпимо яркого и жаркого огненного ядра мерцали осыпающиеся алые пещеры и крохотные холмистые поля пепла. Живет ли в огне кто-нибудь? Саламандра, феникс. Мне бы хотелось, жить в огне.
– В огне можно увидеть все что угодно, – сказал Эрнст. – Все, что пожелаешь.
– Да.
– Что ты видишь?
– Саламандр.
Он улыбнулся:
– Они симпатичные?
– Просто прелестные.
– Вот что значит находиться в ладу с самим собой. Смотришь в огонь и видишь саламандр.
– А что видишь ты?
– Ад.
Увидев, как я напряглась, он рассмеялся и налил себе бренди.
– Извини, – сказал он. – Я не предложил тебе выпить. Нет мне прощения.
– Ты предлагал.
Эрнст поднялся на ноги. Он выглядел изнуренным.
– Чем тебя угостить? Предлагать тебе бренди бесполезно. Кофе? Какао? Кто-то подарил мне банку какао, датского. Я понятия не имею, что с ним делать, но мне сказали, что оно здорово согревает холодными вечерами.
– Спасибо, я выпью какао.
Он вызвал звонком Альберта и распорядился принести какао.
– Никак не могу привыкнуть к слугам в доме, – сказал он. – Они меня в дрожь вгоняют. Всегда тут как тут.
– По-моему, как раз для этого слуг и заводят.
– В каком ужасном мире мы живем. – Он перевернул одну карту, потом другую, а потом собрал все карты в колоду, перетасовал и вновь принялся раскладывать на ковре рубашкой вверх.
– В чем дело, Эрнст?
– Я не могу сказать тебе.
Когда Альберт принес какао, Эрнст зажег сигару и улыбнулся мне странной кривой улыбкой, словно хотел одновременно улыбнуться и заплакать.
– Ты видишь перед собой последнего летающего клоуна, – сказал он. – На «профессора» я не тянул. Я всегда был просто болваном. Но летать я умел, правда ведь?
– Ты и сейчас умеешь, Эрнст.
– Мой самолет сбит. Я конченый человек.
Я не знала, что сказать.
– Тебе нужно отдохнуть, вот и все.
Он яростно помотал головой. Я не понимала, что его мучит. Не понимала причин столь глубокого отчаяния.
– Пути назад нет, – сказал он. – Пути назад нет. Отсюда нет и не может быть пути назад.
Я решила, что он говорит о себе, о своих неприятностях в министерстве, и тупо сказала:
– Это не так. Через несколько месяцев у тебя опять все наладится. – Я не то чтобы верила в это, но нельзя же согласно молчать, когда кто-то в твоем присутствии называет себя конченым человеком.
– О боже, – с горечью сказал он, – ты просто лжешь, как все они.
Я пристыженно умолкла. Прошло несколько минут, прежде чем Эрнст заговорил снова. Огонь в камине вздыхал и постепенно угасал. Кот мурлыкал во сне и легко постукивал хвостом по картам.
Собравшись с силами, Эрнст заговорил.
– Я думал, это такая игра. Я думал, ну и что, если я надену форму, я ведь в любой момент смогу ее снять. Но это невозможно, она прирастает к коже. Она становится твоей кожей. Ты в курсе? – Он посмотрел на меня страшным немигающим взглядом. – У некоторых людей форма намертво срослась с кожей. Я думал, я создам самолет, такой самолет, который просто необходимо построить, и неважно, если он окажется бомбардировщиком. Я никогда не задумывался о том, что такое бомбардировщик. Я думал, все это игра, и в свое время она закончится, и мы все мирно разойдемся по домам. Но нам никогда не вернуться домой. И это не игра, это кошмар.
Он одним глотком допил бренди, налил еще и принялся медленно вертеть стакан в руках.
– Ко мне наведывался Плох. Он приезжал на побывку с фронта и зашел справиться о моих делах. Он и сам выглядел неважнецки. Мы выпили. Я раскис и завел разговор о прошлой войне, о том, насколько было проще и честнее сидеть в кабине истребителя и точно знать, что ты должен делать и почему. Я сказал, что мои дела сейчас обстоят так плохо, что мне приходит в голову лишь один выход: отправиться в боевой вылет над вражеской территорией и найти там… ну, достойное решение всех проблем. А Плох сказал… Плох сказал… – Эрнст нахмурился, глядя в пол, сильно нахмурился. – Он сказал: «Война в вашем понимании этого слова отошла в прошлое».
– Что он имел в виду? – спросила я.
И Эрнст рассказал мне. Он рассказал мне все, что узнал от Плоха. Я неподвижно сидела в кресле, а Эрнст тихим ровным голосом рассказывал об ужасах, недоступных человеческому пониманию. О людях, которых убивают как скот – систематически и хладнокровно – только потому, что они не той национальности. Об оврагах, которые используют в качестве могил; о целых местностях, превратившихся в огромные кладбища; о массовых убийствах, когда смерть отдельного человека теряет значение. О бульдозерах, которые снова и снова разравнивают землю, уминая груды разлагающихся тел. Он сказал, что эту работу выполняют не только люди Гиммлера, но также военнослужащие строевых частей. Плох ясно дал понять, сказал он, что это не какое-то чудовищное отклонение от плана. Это и есть план.
Я выслушала его, отключив сознание.
Последовала долгая пауза.
Эрнст поднялся на ноги.
– Прости, если сможешь, что я рассказал тебе все это.
Я обнаружила, что не в силах вымолвить ни слова.
– Тебе пора идти, – сказал Эрнст и поцеловал меня в лоб.
Глава восемнадцатая
Что вы делаете с информацией, которую не в состоянии осмыслить; с информацией, которая парализует ваше сознание? То же самое, что ваш организм делает с ядом. Вы ее отторгаете.
Я выкинула из головы все, что рассказал мне Эрнст в последнюю нашу встречу. Это было нетрудно: требовалось совершить единственный акт очищения. Все, что рассказал мне Эрнст, неправда, потому что не может быть правдой. По сравнению с этим доводом все остальные доводы (Эрнст не мог придумать такого, Плох не мог придумать такого, мне не могло присниться такое) ничего не стоили.
Я вернулась в Регенсбург.
Чувствовала себя я довольно паршиво. Вероятно, дело было в стрессе: я постоянно ощущала тянущую боль под ложечкой. Отдохнуть нужно не только Эрнсту, думала я.
Я ничего не сделала, чтобы помочь ему. Но, с другой стороны, что я могла сделать?
Я продолжала заниматься своей работой.
Я бы с удовольствием нарушила приказ Дитера, запрещающий мне летать на заправленном «комете», но, к сожалению, об этом и думать не приходилось. Это не только стоило бы мне моего места в команде, но и было попросту неосуществимо, поскольку я не могла взлететь без помощи наземного обслуживающего экипажа. Я смирилась с ролью пилота-планериста. У меня был напряженный график полетов. «Комет» еще предстояло испытывать и испытывать безотносительно к реактивному двигателю. Многочисленные проблемы, порой практически неустранимые, создавала высокая скорость машины при планировании. Например, после быстрого разворота стрелки компасов крутились так сильно, что приборы на несколько минут выходили из строя.
– Скажем прямо, – однажды сказал Хайнц, когда мы сидели в столовой, – эта машина чертовски опасна.
– Трусишь? – фыркнул Макс. Он недавно пришел в команду на место Душена. Нервный и агрессивный, он всячески старался проявить себя.
– Конечно, – рассмеялся Хайнц. – Каждый раз, когда я забираюсь в свой самолет, у меня поджилки трясутся.
Макс презрительно усмехнулся. Но Хайнц спокойно ел свой обед, а Макс нет.
– Вчера у меня кабина наполнилась дымом, – задумчиво проговорил Хайнц. – На высоте полторы тысячи метров. Я ни черта не видел. Глаза ело просто жуть.
– Дьяволов чайник, – сказала я, и мы с Хайнцем рассмеялись, к великому недовольству Макса.
– Я бы отдал все на свете, только бы полететь на «комете» в бой, – сказал Макс, когда мы с Хайнцем отсмеялись.
– Полетишь еще, – примирительно сказал Хайнц.
– Представляете, какую пользу он принесет на Восточном фронте!
– Главная проблема на Восточном фронте – снег, – заметил Хайнц.
– Это все слухи!
– Это правда. – Хайнц отложил нож и вилку. Он никогда не упускал случая поспорить. – У меня там брат. Боевые действия не ведутся. Орудийные башни заедает, моторы грузовиков замерзают.
Макс покраснел до корней волос.
– Мне удивительно слышать на нашей базе такие непатриотические речи.
– Будь у тебя между ушами что-нибудь кроме аэродинамической трубы…
Я не стала им мешать и пошла в казарму. Я лежала на кровати и читала «Двадцать тысяч лье под водой». Библиотека на базе была небогатой: Жюль Берн, приключенческие романы Карла Мая (по слухам, любимого писателя Гитлера) да сборники песен штурмовиков. Через полчаса я надела ботинки, вышла на летное поле и забралась в своей «комет».
«Ме-110» разогнал меня на буксире. Большие колеса «комета» легко оторвались от бетонной полосы. На высоте трех метров я открыла запорное устройство, державшее шасси, и «комет» радостно подпрыгнул и взмыл в свою стихию.
Через десять минут я отбросила буксировочный трос и опустила нос, чтобы начать планировать. Машина сразу же плавно вошла в длинный вираж, словно сокол. Казалось, бесхвостое тело «комета» на широких, отведенных назад крыльях создано для вечного полета. Я описывала в воздухе круги, закладывала виражи, переворачивалась, крутила петли и не удивилась бы, если бы обнаружила, что могу делать совершенно немыслимые вещи – например, летать задним ходом, – поскольку это своенравное красное существо, летавшее, как сокол, и набиравшее высоту со скоростью пушечного ядра, обладало также всеми способностями колибри. Мы вместе – я и мой «комет» – парили в высоте, испытывая природу человеческой плоти, металла и воздуха; и, когда мы спустились ниже, я увидела нашу странную тень, скользящую по залитым солнцем полям.
Сделав последний разворот, я краем глаза заметила внизу что-то необычное. Я не стала присматриваться, поскольку посадка «комета» требовала предельной сосредоточенности. Едва остановив машину на бетонной полосе, где Руди встречал меня с обычной своей щербатой улыбкой, и открыв фонарь кабины, я повернулась. Да, мне не почудилось. Флаг у ворот был приспущен.
Как только я вошла в канцелярию, Дитер вызвал меня в свой офис. У него был серьезный вид.
– У меня для тебя плохие новости, – сказал он. – Учитывая обстоятельства, я сожалею о том, что сказал на днях. Наверное, тебе лучше присесть.
Эрнст.
Он вынимает револьвер из ящика стола. Заряжает его, патрон за патроном. Сколько уже раз он делал это, а потом снова разряжал? И почему именно этот револьвер? У него есть много современных и более удобных пистолетов: автоматических пистолетов с обоймой. Но этот револьвер неотлучно находился при нем всю прошлую войну, в кобуре на бедре.
Война в вашем понимании этого слова…
Эрнст сидит на кровати, на своей широкой дубовой кровати, – первой покупке, сделанной им по окончании прошлой войны, поскольку он считал хорошую кровать, хороший костюм и хорошее вино совершенно необходимыми вещами в жизни любого мужчины. Она пережила много приключений вместе с ним, эта кровать; она была верным другом. В последнее время он спал один. Инга не в силах рассеять его дурное настроение. Его душевное состояние пугает Ингу. Он не желает говорить о своих мыслях и чувствах.
Эрнсту не с кем поговорить. Когда-то его окружали друзья. По крайней мере, ему так казалось. Теперь они держатся в стороне. У него чума.
Он вращает барабан револьвера пальцем. Шесть патронов. Зачем шесть? Хватит и одного. Он редко промахивается, не промахнется и сейчас. Он мог вложить в барабан один патрон и подогнать его к стволу. Зачем он вложил все шесть?
Чтобы было над чем поломать голову.
Правой рукой Эрнст легко сжимает рукоятку револьвера и кладет ствол на ладонь левой. Металл холодный.
Когда он выстрелит, ствол нагреется и по комнате распространится едкий запах. Но он уже его не почувствует.
Эрнст осторожно кладет револьвер на незаправленную кровать и выходит из спальни на лестничную площадку. Он прислушивается. Мертвая тишина. Сейчас начало пятого утра. Альберт спит в другом конце дома. Он сильно храпит. Эрнст это знает: однажды он на цыпочках прошел по коридору и подслушал. Но это большой дом, и сейчас Эрнста и Альберта разделяют несколько толстых дверей.
Альберт позаботится о коте.
Внизу спит кот в кресле, тикают часы и дотлевают угольки в камине. Внезапно Эрнста охватывает желание спуститься вниз и еще раз взглянуть на кота в кресле, на часы на каминной полке, на теплую золу в камине. Он подавляет желание. Это сентиментальность. Все это не поможет ему, а станет лишь преградой у него на пути, поколеблет его решимость.
Сколько уже раз он стоял у этой черты, глядя в бездну? Но на сей раз все иначе. На сей раз он не по собственной воле пришел сюда, чтобы разведать местность и посмотреть, не явится ли ему, хоть на миг, знакомый образ в кромешной тьме. На сей раз некая сила привела его сюда. Больше идти некуда.
Эрнст составил завещание. Наспех написанное на бланке министерства авиации, оно лежит на столе в гостиной, прижатое медным подсвечником, найденным в кладовой. В завещании говорится, что любой, кто придет в дом, волен взять здесь все, что захочет. Интересно, думает он, кто возьмет кровать?
Им придется похоронить его со всеми почестями. Они придумают какую-нибудь ложь.
Холодно. Эрнст обхватывает себя руками: необходимость умереть на время отступает перед необходимостью согреться. Он в рубашке, брюках и жилете. Он снял пиджак три часа назад, собираясь лечь спать, но потом понял, что время для сна вышло.
Он возвращается в спальню и надевает пиджак, а потом застывает на месте.
Что дальше?
Да ничего.
Как странно сознавать, что дальше ничего не будет. Что ты стоишь у последней черты. В ослепительном свете или непроглядной тьме, которые открываются взору за той чертой, все кажется мелким и ничтожным.
У него кружится голова. Он отступает от края бездны, идет и садится на кровать.
При виде измятой постели (разве он ложился? прямо в одежде? – он не помнит) Эрнст вновь с мучительной ясностью сознает, какое сокрушительное поражение потерпел в жизни. Глядя на примятые подушки и сбитые простыни, он вдруг чувствует такую острую жалость к себе, что слезы катятся из глаз; потом он вновь проникается отвращением к себе, встает и принимается ходить взад-вперед по комнате. Что-то хрустит у него под ногой: уголек, которым он однажды рисовал. Наверное, выпал из кармана; Эрнст уже много месяцев ничего не рисовал. Он поднимает его и бросает на кровать.
В открытом платяном шкафу висит его форма, похожая на привидение. Он снова словно воочию видит, как Плох, в такой же форме, с подавленным видом натягивает перчатки у двери в молчании, которое ни один из них не в силах нарушить.
Впереди нет ничего, и пути назад тоже нет. Здесь конец пути. И теперь Эрнсту становится страшно.
Вероятно, кто-нибудь может спасти его. Вероятно даже, он должен дать кому-то возможность его спасти.
Он поднимает трубку и набирает номер Инги.
Он слушает, как звонит телефон у нее в квартире за пять километров отсюда. Долго звонит. Эрнст ждет. Надо полагать, она спит.
Телефон все звонит и звонит, но никто не отвечает.
Он вспоминает, что Инга уехала в гости к родственникам, и кладет трубку.
Бесконечное одиночество.
Его просто использовали. В какой тщательно продуманной шахматной партии Толстяк передвигал его с места на место! И другие тоже использовали. Друзья растратили его деньги и повернулись к нему спиной. Когда-то женщины любили его за шик. Теперь от прежнего шика ничего не осталось.
Эрнст берет уголек и на стене над кроватью пишет свое прощальное послание миру.
Он пишет два имени: Толстяка и Мильха. И проводит под ними черту. А под чертой выводит огромными печатными буквами: МЕНЯ ПРЕДАЛИ.
Он отступает назад. Тяжело дышит. Он смотрит на слова, написанные на стене, и чувствует себя опустошенным, полностью опустошенным.
Эрнсту вспоминается один случай, произошедший с ним на фронте. Это был его первый боевой вылет, и он увидел поблизости самолет противника. Французский «спад». Он положил большой палец на гашетку пулемета, но не смог выстрелить. Испугался. «Спад» скрылся. Эрнст никому ничего не рассказал и три дня молча страдал. Потом его снова послали в бой. Выйдя из облака, без всякого прикрытия, он увидел внизу летящие строем двадцать четыре французских бомбардировщика. Он выбрал один и спикировал на него, безостановочно стреляя. Самолет рухнул на землю.
Эрнст не был героем. Он просто знал, что застрелится, если не сделает этого.
Та непроглядная тьма.
Пора.
Эрнст ложится на кровать. Берет револьвер, приставляет дуло к виску и спускает курок.
Руди устроил меня в кабине и проверил привязные ремни шишковатыми пальцами. Он закрыл фонарь и постучал по нему на счастье. Я заперла фонарь и знаком показала, что готова к полету.
Мы двинулись вперед по залатанному бетону. Колеса «Me-110» оторвались от земли, и густая желтоватая трава по обе стороны от меня резко ушла вниз.
Через несколько мгновений рация затрещала и отключилась.
Я выругалась. Такое случалось не в первый раз. Рации ничем не отличались от всего остального в этих самолетах, отданных летчикам для доведения до ума.
На высоте восемь – десять метров я потянула на себя рычаг, чтобы сбросить колеса.
С ним что-то было не в порядке. Он шел туго и не до упора. Я потянула рычаг еще раз, изо всей силы. Он по-прежнему не работал должным образом.
Через несколько секунд самолет стало трясти. Сначала он содрогнулся от носа до хвоста, а потом начались частые вертикальные толчки, эпицентр которых, казалось, находился прямо под моим креслом.
Шасси не отделилось и теперь сопротивлялось встречному воздушному потоку.
Второй пилот буксировочного самолета делал мне какие-то лихорадочные знаки из кабины. Вероятно, они уже предприняли безуспешную попытку связаться со мной по рации.
Трясясь и содрогаясь, «комет» кое-как поднялся на буксире на высоту трехсот метров. Казалось, он хотел рассыпаться на части. Как я проклинала это шасси, громоздкую штуковину с дурацкими большими колесами. В моем воображении оно разрослось до чудовищных размеров, стало величиной с сам «комет».
Буксировочный самолет плавно накренился на правое крыло и вошел в широкий вираж. Плоскости управления «комета» отреагировали на изменение воздушного потока самым неприятным образом. Рычаг управления поддавался с трудом. Педали руля сердито прыгали под моими ногами. «Комет» больше не был соколом. Он превратился в подобие матраса, несомого ураганом.
Внизу на летном поле переезжали с места на место пожарные и санитарные машины. В небо взлетали сигнальные ракеты. Бедный Душен не удостоился такого внимания, подумала я.
Мы описали над аэродромом круг, потом еще один. Второй пилот «Me-110» умоляюще смотрел на меня, надеясь увидеть, как я отцепляю буксировочный трос. Я помотала головой: я не могла сделать ровным счетом ничего, поскольку не смела отнять руки от рычага управления. Я хотела подняться выше, как можно выше, чтобы получить время избавиться от шасси.
Наконец они поняли, чего я хочу. «Ме-110» взревел и начал набирать высоту. Крупно дрожа, как корова на бойне, «комет» с трудом поднимался за ним. Неполадки в начале полета неприятны тем, что весь остальной полет вам приходится думать о том, чем все может закончиться.
На высоте трех тысяч метров я отцепила буксировочный трос и начала медленное снижение. Я понимала, что другого шанса мне не представится. Нельзя было терять ни секунды, поскольку с каждой секундой я приближалась к земле.
И я использовала каждую секунду. Я раскачивала и яростно дергала рычаг сброса, покуда у меня не онемела рука. Я пыталась выжать рычаг, закладывая резкие виражи в надежде расшатать заклинившее шасси. Это было очень рискованно, а шасси по-прежнему сидело как влитое.
Машина неумолимо снижалась.
На высоте полторы тысячи метров я обдумала свой выбор. Оставался еще один вариант. На сиденье подо мной лежал сложенный парашют, и я запросто могла выпрыгнуть. Вероятно, от меня ожидали именно этого. Согласно инструкции, летчики-испытатели все же значили больше, чем самолеты.
С другой стороны, если остается шанс благополучно посадить машину, любой уважающий себя пилот попытается это сделать.
Но насколько велики должны быть шансы?
Скорее всего при заходе на посадку над элевонами возникнут турбулентные воздушные потоки такой силы, что я безвозвратно потеряю управление машиной. А если нет, если мне чудом удастся спуститься к земле в горизонтальном положении, я по-прежнему буду идти на слишком большой скорости (из-за дополнительного веса) и буду вынуждена совершить посадку на шасси, которое не рассчитано на удар такой силы и наверняка отсоединится именно в этот момент. Другими словами, авария того или иного рода представляется неизбежной.
Но, возможно, все обойдется. Во всяком случае топливные баки пусты, и самолет не взорвется.
Тысяча метров. Люди на летном поле смотрели вверх, задрав головы.
В течение следующей минуты я методично дергала рычаг. В какой-то момент он же должен поддаться. Мне нужна лишь неуловимая доля секунды, когда металлический стержень сдвинется на миллиметр.
Рычаг не шевелился, даже чуть-чуть.
Семьсот метров. Как долго все это тянется. Я еще раз дернула рычаг, а потом решила отказаться от дальнейших попыток, поскольку мне предстояло заняться более важными вещами.
Я огляделась по сторонам и убедилась, что поблизости нет никаких самолетов. Описала большой круг над аэродромом, чтобы потом описать круг поменьше – последний перед заходом на посадку. «Комет» по-прежнему подпрыгивал и содрогался, словно вытащенная на сушу рыба, но я уже привыкла к взбрыкиваниям машины и теперь сосредоточила все внимание на одном: надо снижаться с такой скоростью, чтобы на подлете к южной границе летного поля оказаться на высоте двести метров.
При движении по ветру машина довольно устойчива. Я мельком вижу внизу поднятые к небу лица. Разворот на девяносто градусов при заходе на последний круг; плоскостям управления это не нравится: самолет подпрыгивает, скользит на крыло и пытается выйти из повиновения, но я справляюсь с рычагами, обливаясь от натуги холодным потом, и теперь все происходит очень быстро. Времени у меня больше нет; мне нужно сделать последний разворот; ограда летного поля несется мне навстречу, а я нахожусь еще слишком высоко, поскольку скорость слишком высокая, и единственный способ сбросить высоту достаточно быстро – это опустить крыло и скользить на него; поэтому я отвожу влево рычаг управления, который упирается как упрямый мул, и резко ударяю ногой по педали руля; машина идет вниз, но идет с ужасным креном, который становится неуправляемым, когда я пытаюсь из него выйти, и теперь под крыльями нет воздуха – во всяком случае, воздуха, способного удержать машину, – поскольку плоскости управления взбесились, а рычаг болтается в моих руках без всякой пользы.
Вот она.
Коричневая земля, до жути близкая.
Я не умру.