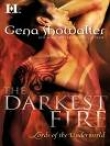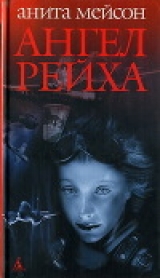
Текст книги "Ангел Рейха"
Автор книги: Анита Мейсон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Я находилась в конце улицы, когда перекрытие второго этажа вместе с зелеными платьями обрушилось. Я услышала тяжелый грохот и пронзительный крик. Я бросилась обратно и вместе с остальными принялась разгребать кучи кирпича, штукатурки, расщепленных досок и раздавленных портновских манекенов.
Немного погодя к нам присоединились несколько санитаров. Мы достали из-под завала ребенка – того самого, который распевал детские стишки в подвале. Три деревянные балки упали одна на другую таким образом, что образовали подобие шатра над его головой, и он вопил всего лишь от боли в порезанном пальце.
Его мать погибла.
Мы также извлекли из-под завала старика, ругавшегося последними словами, поскольку кусок штукатурки разбил его ножной протез, ремни которого пришлось перепилить моим перочинным ножом. У санитаров не было ножа, только лопата и шприц – и ни единой ампулы в аптечке. Мы с санитарами перенесли в машину мертвую женщину, ребенка и старика, получившего серьезную травму головы, которой он, похоже, не замечал, и отвезли двух последних в пункт первой помощи, размещенный в церковном склепе, а женщину – в отдельное место, куда свозили тела погибших во время бомбардировок. Это было высокое одноэтажное здание, похожее на железнодорожное депо.
– Мы бы сработались с человеком вроде вас, – проворчал водитель, когда мы возвращались к санитарной машине.
– Разве мне не нужно закончить медицинские курсы? – спросила я.
– Вы умеете оказывать первую помощь?
– Да. – (Этому учили всех летчиков.)
– Больше ничего и не требуется. Мы не имеем дела с медикаментами: все медикаменты забирает армия. Умение оказывать первую помощь и сильная спина… – Он внимательно посмотрел на меня. – Где-то я вас видел. Ваших фотографий случайно в газетах не было?
– Нет, – сказала я.
Вот так я стала санитаркой.
Любая непривычная работа поначалу сопряжена с физическими муками. У меня ломило поясницу от постоянного перетаскивания тяжестей, у меня болели руки от каждодневного разгребания завалов, из-под которых мы извлекали человеческие тела. Мои ладони, покуда они не загрубели, были сухими и растрескавшимися, а ногти – обломаны до мяса.
Однажды вечером я вернулась домой еле живая от усталости. Хватаясь за перила, я с трудом поднялась на свою лестничную площадку, нашарила ключ в кармане почерневшего от грязи комбинезона и вставила его в замочную скважину. Ключ не проворачивался.
Вещи всегда ведут себя так, когда вы слишком измучены, чтобы совладать с ними.
Дверь открылась изнутри.
– О, неужели опять! – рассмеялась женщина: жившая этажом ниже.
После минутного замешательства я поняла, что совершила все ту же дурацкую ошибку и что на сек раз мне нет прощения.
Бормоча извинения, я попятилась.
– Почему бы вам не войти? – предложила она. – Вы определенно хотите осмотреть мою квартиру. Заходите, выпейте чашечку кофе. – Она смерила меня оценивающим взглядом. – Судя по вашему виду, чашечка кофе вам не помешает.
– Да нет. Я не хочу беспокоить вас… извините, ради всего святого… возможно, как-нибудь в другой раз…
– Входите, – сказала она. Не знаю, почему я это сделала, но я вошла.
Квартиры так много говорят о своих обитателях что порой я задаюсь вопросом, почему люди вообще впускают друг друга в свой дом. Я вошла в теплую светлую гостиную, полную беспечно выставленные напоказ фактов жизни. Семейные фотографии, некоторые пожелтевшие и в трещинах; забавные безделушки, выстроенные в ряд на каминной полке, в том числе цветная стеклянная вазочка, открытка с видом Константинополя и резная статуэтка, похожая на африканскую; страусовое перо и двенадцатилетней давности афиша какого-то артистического кабачка с левым уклоном. (А вот это опасно: неужели она не боится выставлять напоказ такую афишу?)
– Садитесь, – сказала хозяйка квартиры, и я без малейших колебаний рухнула в кресло. Кресло было шатким, но удобным. Я закрыла глаза, наслаждаясь теплом камина.
Она протягивала мне чашку кофе и широко улыбалась. Усилием воли я очнулась от дремоты.
– Вы устали, – сказала она. – Не хотите прилечь?
– Я живу всего этажом выше!
– Да, но когда вы в первый раз попытались войти в мою дверь, у вас был совершенно безумный вид. А сегодня вы настолько слабы, что едва ли доберетесь до своей квартиры.
В ней чувствовались искренность и живость, которые мне понравились. Не без удивления я обнаружила, что отзываюсь на них. Я уже очень давно не находила удовольствия в общении с другими людьми.
– Меня зовут Паула, – сказала она.
– А меня Фредди.
– Это уменьшительное имя?
– Нет, – сказала я. – Именно так меня зовут.
– Ясно. – Она посмотрела на меня с выжидательной улыбкой, и в конце концов я тоже улыбнулась.
– При крещении меня нарекли Фредерикой.
– Милое имя.
– Оно никогда мне не нравилось.
Я вытянула ноги к камину, словно разнеженная кошка. Здесь было уютно.
Паула улыбнулась, будто забавляясь. Я мгновенно смутилась, истолковав улыбку на свой лад, подобрала ноги, выпрямилась в кресле и взглянула на наручные часы. Циферблат был покрыт толстым слоем пыли. Я протерла стекло часов большим пальцем и замялась, не зная, что делать дальше. В конце концов я вытерла палец о штанину. К черту все приличия.
– Извините, – сказала я. – У меня был трудный день. Мне не следует засиживаться у вас.
– Оставайтесь сколь угодно долго. У меня сегодня свободный вечер.
Через минуту я сказала:
– Сегодня я вытащила из-под завалов четырнадцать человек.
– Тогда понятно, почему вы так устали и почему у вас в волосах штукатурка. Почему вы этим занимаетесь?
– Кто-то же должен.
– Да, но почему именно вы?
– Сейчас я нахожусь в отпуске по болезни, но на самом деле я не больна, если вы меня понимаете.
– Прекрасно понимаю.
– И мне нужно делать что-нибудь, я не могу просто сидеть сложа руки. Или я по-настоящему заболею.
– Вы ведь летчик-испытатель, верно?
Я поставила свою чашку кофе на приступку камина.
– Я говорила на работе, что вы живете прямо надо мной, но мне не поверили.
Я рассмеялась. Но даже не очень иронично. Любая резкость казалась сейчас неуместной.
– Я все думала, встречусь ли с вами когда-нибудь, – сказала она. – Вы так часто пропадали невесть куда и так надолго. А когда мне удавалось мельком увидеть вас, вы казались такой отчужденной. Словно не хотели, чтобы кто-нибудь сказал вам «привет».
– Это не так.
– Наверное, но я не хотела испытывать судьбу. Все мы боимся оказаться отвергнутыми, правда ведь?
– Не знаю. А что, действительно боимся?
– Возможно, вы боитесь другого.
– Разве я чего-нибудь боюсь?
– Это похвальба?
Со мной редко разговаривали в таком вызывающем тоне. Я поняла, что мне это нравится.
– Пожалуй, – сказала я. – Возможно.
– Неужели вам трудно признать, что есть вещи, которых вы боитесь?
Боюсь? Вопрос слишком серьезный.
– Вовсе нет, – сказала я. – Люди, которые ничего не боятся, представляют опасность для себя самих и для всех окружающих. – Это прозвучало самодовольно.
– Я имела в виду другое.
– А что вы имели в виду?
– Неважно. Мне не стоило спрашивать. Это меня не касается.
Я хотела, чтобы она спрашивала. Я могла бы сидеть здесь весь вечер, отвечая на вопросы и парируя выпады.
– Хотите шнапса? – спросила она.
– Спасибо, я не пью.
– Совсем? Никогда?
– Ну, очень редко. Стаканчик, не более. – Я со стыдом вспомнила о своей одинокой оргии.
– Выпейте. За компанию со мной.
Крепкие напитки в те дни продавались только на черном рынке, и предложение выпить дорогого стоило. Я согласилась.
Паула налила по пятьдесят граммов в две зеленые рюмочки из матового стекла и одним глотком осушила свою. Я проделала то же самое. Во рту шнапс казался безвкусным, теплым и маслянистым. В горле он превратился в огонь.
Он медленно растекся по моим жилам, и все вокруг окрасилось в более теплые, насыщенные тона: огонь в камине, красновато-коричневые бархатные шторы, каминная полка, заставленная фотографиями и непонятными вещицами, афиша кабаре и мандолина на стене, лицо Паулы между книжной полкой и косяком ведущей на кухню двери. (Тонкое лицо. Упрямый подбородок; маленький, чуть вздернутый нос; ясные внимательные карие глаза.)
– Вы живете одна? – спросила я.
– Да.
Я почувствовала удовлетворение.
– Заходите в гости, – сказала она на прощание. – Вечерами я обычно дома.
Прошла почти неделя, прежде чем я снова зашла.
Я не спешила воспользоваться приглашением по нескольким причинам. После поездки в Россию между мной и окружающими людьми выросла стена отчуждения. Я инстинктивно избегала всяких личных контактов. Я вытаскивала людей из-под завалов и возвращала к жизни, если могла, но, когда они приходили в сознание, я не желала разговаривать с ними. Не хотелось выслушивать их истории жизни или рассказывать свою.
Я поняла, что не хочу разговаривать с Паулой. Но меня останавливало и еще кое-что: нехарактерное для меня чувство неуверенности. Почему она хочет видеть меня, думала я. У нее есть другие дела.
Со времени смерти Эрнста я почти ни с кем не общалась. Сначала я разбилась на «комете», лежала в госпитале, восстанавливала здоровье; а потом, пытаясь вернуться к прежней жизни, как всегда, сделала упор на полетах и отвела дружбе второстепенное место в своем сердце.
Смерть Эрнста тяжело подействовала на меня. Дело не просто в пустоте, образовавшейся в моей жизни, и не в скорби по нем. Я горько корила себя за то, что не попыталась помочь Эрнсту, что до последней минуты не понимала, насколько он болен, и что позволила укрепиться в своем сознании удобной и убедительной мысли, будто он сильнее меня, хотя внутренний голос говорил мне обратное. Больше всего я корила себя за эгоистичность побуждений, из которых я поехала повидаться с ним в последний раз. К счастью, Эрнст так и не узнал, что я приезжала только просить о помощи. Или знал? Наверное, почувствовал.
Одним словом, я держалась невысокого мнения о себе. Я не надеялась на симпатию окружающих, да, наверное, и не хотела никому нравиться. Встреча с Паулой утвердила меня в моем почти сознательном стремлении к одиночеству. Она казалась сродни призывному голосу, что доносится до заплутавшего в тумане путника. Поначалу я упрямо отвергла призыв. Но потом мне пришлось ответить.
Я постучала в ее дверь с охапкой цветов в руках. Это были поздние розы, которыми осыпал меня хозяин цветочной лавки, чью маленькую дочку мы вытащили из-под рухнувших стен подвала.
Паула уставилась на цветы, потом на меня.
– Приплата к жалованью, – пояснила я.
– Я явно ошиблась с выбором работы. – Она работала на военном заводе. – Они прекрасны, – сказала Паула. Розы действительно были прекрасны: нежного персикового цвета, разве только припорошенные кирпичной пылью.
Мы сидели у камина и разговаривали.
– Я получила письмо из муниципалитета, – сказала Паула. – Похоже, я занимаю слишком большую площадь. Они требуют, чтобы я переехала в квартиру поменьше или взяла постояльца.
– Правда? Плохо дело.
Я мысленно сравнила охватившее меня смятение с чувствами, вызывавшими у меня желание помогать бездомным.
– Странно, что они не написали мне, – сказала я. – Моя квартира всяко уж не меньше твоей.
– Ты пользуешься известными привилегиями, – сказала Паула. – Вряд ли они захотят, чтобы ты делила квартиру с кем-нибудь, верно? Ты ведь занимаешься секретной работой.
– Уже не занимаюсь.
– Но ты же вернешься к ней?
Я промолчала.
– Извини. Мне не следовало спрашивать?
– Все в порядке.
– Я задаю слишком много вопросов.
– Да, довольно много.
– Но ты почти ничего не рассказываешь. Ты очень скрытная.
– Профессиональная привычка. – Я мгновенно прониклась презрением к себе. – Да нет, просто характер такой. Я не подпускаю к себе людей.
– Я тоже.
– Именно поэтому я сижу здесь, да?
– Ну, похоже на то. Наверное, мы почувствовали друг в друге родственные души. Выпьешь шнапса?
– Гм… да. Спасибо.
Она налила по пятьдесят граммов в зеленые рюмки из матового стекла.
– Я могу войти во вкус, – сказала я.
– Не стоит. Наверное, следующая бутылка у меня не скоро появится.
– Можно поинтересоваться, где ты достала шнапс?
– Сложными путями. Я оказала услугу одной женщине. А у женщины, которой я оказала услугу, есть сестра, жених которой служит в интендантских войсках.
– Да, в общем, ничего сложного.
– Нелепый способ раздобыть бутылку шнапса.
– А какую услугу ты оказала? – Непозволительная наглость с моей стороны. Наверняка что-нибудь противозаконное.
– Я свела ее с одним человеком, который сделал ей аборт.
Паула пристально смотрела на меня, ожидая моей реакции. Официально аборты считались диверсией против будущего германской расы. Врачи получали пятнадцать лет тюрьмы.
– Полагаю, если женщина хочет сделать аборт, у нее есть на то серьезные причины.
– Ее изнасиловали. Эсэсовский офицер. Поэтому, конечно, бедняжку заставили бы сохранить ребенка. Я ненавижу болтовню об улучшении породы и чистоте расы. Меня от нее тошнит.
– Я тоже ненавижу.
– Именно поэтому и распался мой брак, – сказала Паула. Она уже говорила, что разошлась с мужем. Разводы становились обычным делом. Число разводов стремительно увеличилось, как только законы стали менее суровыми.
– Вообще-то я хотела детей, пока материнство не объявили обязанностью каждой женщины, – сказала Паула. – Но почему-то… не знаю даже… все, к чему они прикасаются, становится грязным. На меня все эти трескучие фразы о материнстве произвели ровно обратный эффект. А Карл страшно хотел детей: он мечтал сделать карьеру и говорил, что это ему поможет. Это тоже меня злило. Поэтому я отказалась рожать.
– Отказалась? – Мне никогда не приходило в голову, что женщина может отказаться рожать.
– Не открыто, конечно. Бог знает, что бы Карл сотворил со мной. Он и так частенько пускал в ход кулаки.
– Он тебя бил?!
– Бывало. Я просто решила, что не забеременею и все тут. Я хочу сказать, больше тебе ничего не остается, если мужчина категорически не желает пользоваться известными средствами, правда ведь?
Она посмотрела на меня. Я прятала глаза. Да, я понимала, о чем она говорит. Я понимала ровно столько, чтобы понимать, что очень многого не знаю. Сознавая, что в моем возрасте подобное невежество даже неприлично, я сначала смутилась, а потом внутренне ощетинилась.
– Эй, в чем дело? – спросила Паула. – Я зашла на минное поле?
– Да нет, все в порядке.
– Я тебя чем-то обидела?
– Нет. Просто я не привыкла разговаривать на такие темы.
Она испытующе посмотрела на меня, а потом сказала:
– На самом деле ты… недостаточно много знаешь о мужчинах, верно?
Я была готова сквозь землю провалиться.
– Ну, ты не много потеряла, – беспечно сказала она.
Не мне одной не хватало общения. Паула снимала здесь квартиру уже почти год и за все время подружилась с единственным человеком в нашем квартале – с одинокой матерью двух маленьких детей, жившей на соседней улице.
Бомбардировки и лишения сплотили людей, но некая мощная и коварная сила подрывала взаимное доверие. На каждой улице и в каждом доме жили соглядатаи. На вас могли донести практически за любую мелочь. Например, за то, что вы сказали, что война проиграна. Люди все время говорили это, но подобные высказывания приравнивались к государственной измене. Вас могли расстрелять за анекдот о Гитлере. Люди все время рассказывали такие анекдоты, особенно в Берлине, где юмор отличался особой едкостью. Но регулярно ходили слухи, что еще одного человека забрали за лишнюю болтливость. И расстреляли.
Приходилось соблюдать осторожность. И все соблюдали. Как следствие, дружба в Рейхе ценилась на вес золота.
Мне ни разу не пришло в голову усомниться в Пауле. Через пару недель я взяла за обыкновение заглядывать к ней каждый вечер. Я стучала в дверь, чтобы просто поздороваться и перекинуться парой слов, хотя чаще всего заходила. Мы разговаривали о наших семьях, о школьных годах, о юношеских мечтах, о моих отношениях с отцом, о ее браке, об Эрнсте.
От рассказов об Эрнсте я естественным образом переходила к рассказам о моей работе на министерство. Разумеется, я не имела права обсуждать подобные темы. К тому времени даже члены одной семьи не могли рассказывать за ужином о своих делах на работе, пусть они работали всего лишь на обувной фабрике.
Я рассказывала обо всем без утайки. Я не могла скрывать от Паулы эту часть моей жизни, поскольку она была самой важной и поскольку, стоило мне начать умалчивать о ней, я бы уже не знала, что можно говорить, а что нет. Но главной причиной моей откровенности было отвращение, которое я испытывала к государственной машине, использовавшей меня. Я твердо решила сделать все возможное, чтобы освободиться из-под ее власти, и самым действенным способом казалось разглашение государственных тайн. Оно носило чисто символический характер. Я не владела никакими важными государственными тайнами, если не считать информации о «комете», а «комет» пока представлял ценность скорее для противника, неуклонно сокращая численность германских летчиков. Тем не менее разговоры о нем приносили мне облегчение.
Я не рассказала Пауле о России. Пару раз я совсем уже собиралась, но в последний момент шла на попятный. Достаточно того, что это воспоминание неотвязно преследовало меня: я не хотела делить с Паулой свои муки.
Наши отношения стремительно развивались. Я чувствовала уверенность в своих силах и готовность пройти долгий путь. В скором времени все наши разговоры слились в один. В один разговор, который мы возобновляли и продолжали при каждой нашей встрече и который продолжался у меня в уме, когда мы расставались. Этот разговор стал неотъемлемой частью моей жизни. Вскоре я уже не представляла свою жизнь без него.
Однажды вечером я внимательно рассматривала фотографию ее родителей в золоченой рамке. Он – крепко сбитый мужчина с бакенбардами, в выходном костюме респектабельного буржуа, но с мятежным блеском в глазах – стоял, положив руку на спинку кресла, где сидела жена. Высокая стройная женщина с печальным лицом, обрамленным темными кудрями. Я знала, что мать Паулы умерла два года назад. Она была очень красива. Я сказала это.
– Да, – сказала Паула. – Здесь она снята еще до того, как родила семерых детей. Но лицо у нее всегда оставалось красивым. – Она взяла другой снимок. – А вот мой дедушка, отец матери.
Дедушка выглядел экстравагантно. Фотография была сделана в тропиках. На заднем плане – пальмы и экзотического вида хижина. Дедушка, в тропическом походном обмундировании, небрежно держал в руке винтовку и смотрел вдаль пристальным взглядом отважного первооткрывателя. Он также малость смахивал на пирата.
– Снято в Африке, – сказала Паула. – Он хотел стать колонистом, но у него не получилось. На самом деле у него мало что получалось в жизни, разве только тратить деньги.
– Ты его знала?
– Немного. Он умер, когда мне было шесть лет. Я его обожала. Очевидно, многие женщины тоже.
– А твоя бабушка?
– Она умерла еще до моего рождения. У нее было слабое здоровье. А он таскал ее с собой по всему миру. Она умерла в Багдаде. Дедушка хотел только одного: путешествовать. После него остались сундуки барахла, не представляющего никакой ценности, – типа вон тех безделушек. – Она указала на собрание предметов на каминной полке. – Я помню, как сундуки привезли на телеге и возчик с отцом затащили их в кухню. Они заняли все помещение. У моих родителей вышел скандал. Мы жили в крохотном домике. Я помню, мама сказала: «Это все, что от него осталось, и этим вещам место здесь». Она была его единственной наследницей. У дедушки был еще сын, мой дядя, но он погиб при Пашендале. Мой отец не имел обыкновения поднимать шум по мелочам: он был очень покладистым человеком. Но времена были тяжелые – надо полагать, период инфляции. Отец работал столяром-краснодеревщиком; предприятие разорилось. Он сказал по поводу сундуков: «Мало того, что этот бесполезный хлам загромождал его жизнь, так теперь еще будет загромождать нашу!» Но в конце концов он согласился держать сундуки дома, и их задвинули под кровати и распихали по разным углам. Один постоянно стоял на лестничной площадке, загораживая проход. Он был коммунистом, мой отец.
До меня дошло не сразу.
– Коммунистом?
– Да. – Паула рассмеялась при виде моего испуга. – У них нет рогов и копыт, знаешь ли. Или, по-твоему, есть?
Меня с детства приучили думать именно так. Потом однажды, единственно из желания посмотреть, что за дьявольщина там содержится, я взяла экземпляр «Коммунистического манифеста» с полки книжного магазина, бегло просмотрела и обнаружила там странную смесь скучного, непонятного и на удивление верного, но ничего дьявольского. Это было еще до того, как подобные книги стали сжигать. Когда же нацисты пришли к власти и чем громче они говорили о порочной природе коммунизма, тем яснее я сознавала необоснованность таких обвинений. Мне вспомнилось, как я видела уличные бои между штурмовиками и отрядами Красного фронта и думала, что между ними нет никакой разницы. И все же во мне что-то осталось от детских впечатлений: не страх перед коммунизмом, но тень страха.
– Что с ним случилось? – спросила я.
– Его забрали в концлагерь при облаве после пожара Рейхстага.
Нацисты утверждали, что пожар Рейхстага 1933 года устроен коммунистическими заговорщиками. Если заговор и был, то донельзя глупый: в результате по Германии прокатилась волна жесточайших гонений на коммунистов.
– Он был глупцом, – бесстрастным голосом сказала Паула. – Он никогда не скрывал своих политических убеждений, ему и в голову не приходило переметнуться. На мой взгляд, отец не был таким уж смельчаком, а просто жутким упрямцем. Он не мог заставить себя делать то, что делают тысячи других, когда, как он выражался, у руля государства стоят головорезы. И не принимал всерьез все речи об искоренении большевизма и уничтожении евреев. Он считал это пустой болтовней.
Я смотрела на языки пламени, пляшущие в камине.
– Мама пыталась образумить его, – продолжала Паула. – Она не разбиралась в политике и старалась не спорить на политические темы; они ее жутко расстраивали. Но она хорошо понимала, что происходит. Она понимала, что это не пустая болтовня. А отец, со своим многолетним членством в коммунистической партии Германии, со своей диалектикой и исторической необходимостью… бедный отец ничегошеньки не понимал. Когда за ним пришли, он так… – Она улыбнулась. – Так возмутился!
– Ты присутствовала при аресте?
– Да, присутствовала. Тогда я снимала комнату и готовилась к экзаменам… – (Она училась на художника по тканям.) – Но в тот вечер зашла к родителям. Впоследствии я была очень рада, что случайно оказалась там. Правда, попрощаться мы все равно не успели. Они выломали дверь, повалили отца на пол, а потом принялись скидывать на пол книги с полок – он держал дома всю классику марксизма, ну и глупец! – и пинками расшвыривать их по комнате. Потом они устали и увели отца. И забрали все книги, которые нашли.
Я попыталась представить, чем занималась я в то время. Вероятно, сидела в кабине планера, уверенная, что все происходящее меня не касается. Я вспомнила о своем отце и подумала, что, несмотря на всю разницу, у наших отцов есть нечто общее.
Отблески пламени и зыбкие тени дрожали на лице Паулы.
– Все в порядке. Я пережила это. Он умер, конечно.
Она сидела на корточках у камина, высоко подняв голову, и смотрела прямо перед собой. Лицо у нее хранило спокойное и задумчивое выражение. Ее тонкий профиль сейчас казался по-детски беззащитным. Я хотела положить руку Пауле на плечо, чтобы утешить, но меня остановила отчужденность ее печали. Поэтому я просто сидела и смотрела на нее. Я видела маленький, почти как у эльфа, чуть вздернутый носик и безупречной формы ушную раковину; я видела настороженно вскинутую темноволосую кудрявую голову и волнующе нежную линию горла. Я изучала ее профиль, поначалу не сознавая, каким пристальным взглядом смотрю.
Она повернула ко мне голову, и я словно ухнула в бездну. Я резко откинулась на спинку кресла, прочь от беззащитного взгляда темных глаз. Что со мной? У меня бешено колотилось сердце. Она увидела смятение на моем лице и мгновенно очнулась от раздумий.
– В чем дело?
Я помотала головой и пробормотала:
– Ни в чем.
Паула положила руку мне на колено и сказала:
– Думаю, нам нужно выпить кофе. – Она пошла на кухню варить кофе, а я пошла за ней, поскольку не могла отпустить ее от себя ни на шаг.
Можно ли знать что-то и одновременно не знать? Конечно.
Теперь я думаю, что просто не хотела знать; что ответ, который я получила бы, если бы тогда прямо спросила себя о своих чувствах, испугал бы меня. Но на самом деле я ничего толком не помню. В моей памяти запечатлелись отдельные яркие картины. Но все остальное смешалось в неразбериху дней и недель, когда я по утрам пружинящим шагом шла на станцию скорой помощи, а вечерами возвращалась домой и на миг замирала у двери Паулы с поднятой рукой, не в силах постучать, поскольку меня переполняло счастье; когда мы с ней до поздней ночи разговаривали у камина, словно во власти неких колдовских чар, не позволявших мне уйти, а ей – отослать меня; и совершали совместные походы по магазинам, увлекательные, как в детстве; или сидели в темном бомбоубежище, где я с трепетом и восторгом держала ее за руку. Я не помню последовательности событий, помню только, что они происходили; но я до боли ясно помню один субботний вечер, когда мы шли на концерт и неподалеку от нас взорвалась газовая труба или что-то вроде, и ударной волной меня отбросило к стене, а Паулу прямо в мои объятия – наконец.
И тогда я наконец осознала все свои чувства – все чувства, мощной волной захлестнувшие в тот миг мою душу.
У меня никогда толком не получалось делать то, что от меня требовалось. Иногда мне удавалось использовать такую свою особенность в своих интересах; фактически я превратила ее в профессию. Но это была совсем другая история. Ничто, ничто на свете не позволяло мне влюбляться в женщину. Все говорило мне о том, что это ненормально, невозможно и недопустимо.
Это походило на зарю весеннего дня.
Я пыталась анализировать происходящее, рассуждать трезво. Бесполезно. Мои мысли текли по кругу. Все мои попытки держаться с Паулой более отчужденно проваливались через полминуты общения. Я не хотела держаться отчужденно. Я не хотела рассуждать трезво. Я любила ее.
Но какие чувства испытывала она ко мне? Этот вопрос, жизненно важный, я откладывала, поскольку так было надо; но когда я наконец задумалась над ним, у меня упало сердце.
Я подошла к зеркалу. Меня оперировал один из лучших пластических хирургов в стране. Теперь, когда все мои лицевые кости окончательно срослись, я видела, какую блестящую работу он проделал. У меня осталось лишь два тонких белых шрама: один над правой бровью, а другой на левом виске.
При виде этого лица вам бы и в голову не пришло, что недавно оно было обезображено. Или все-таки пришло бы, подумала я, и одна я ничего не замечаю?
И неужели я всерьез полагаю, что проблема только в моем лице?
Я должна поговорить с ней. Другого выхода нет.
Самыми простыми кажутся поступки, которые вы не в силах совершить.
Я лежала без сна почти всю ночь, глядя на отраженный свет пожаров на потолке.
Вечером следующего дня я остановилась перед дверью Паулы. Колени у меня тряслись, в горле стоял ком. Это было страшнее «комета».
Я постучала.
Паула стояла спиной ко мне, когда я произнесла первые слова, заикаясь от ужаса.
– Мне нужно поговорить с тобой.
Она задвигала шторы на окне, за которым темнело пасмурное небо. Над крышами соседних домов скользил белый луч поискового прожектора. Ветер швырял в стекла струи дождя.
Паула на мгновение замерла, перегнувшись через стол и забрав в горсть плотную ткань. Потом резким движением задернула шторы, и комната мгновенно погрузилась в темноту, рассеивали которую лишь огонь газового камина да тонкая полоска света под дверью. Она повернулась ко мне, и я почувствовала взгляд ее глаз, хотя не видела их в полумраке.
Как у нас хватает смелости на такие шаги?
Она прошла мимо (так близко, что у меня вдруг мучительно сжалось сердце) и включила бра в нише. Слабый свет залил комнату.
– О чем? – спросила она. Ровным, настороженным голосом.
– Я тебя люблю.
Последовала пауза, которая тянулась и тянулась, словно бесконечная ковровая дорожка.
– Но… – Она издала легкий смешок, почти не нарушивший тишину, а потом умолкла.
– Я отдаю себе отчет в своих чувствах, – сказала я.
Паула вышла из-за моего кресла; я всегда сидела в кривоногом мягком кресле с высокой спинкой, в котором, подумала я тогда, мне уже едва ли придется сидеть когда-нибудь. Она прошлась по комнате, а потом присела на край стола.
– И когда ты это поняла?
– Не знаю.
– Тем вечером, когда мы шли на концерт?
– Раньше.
– Понятно.
Как бесстрастно она держалась. Мне казалось, что я в приемной у врача.
– Я все время думаю о тебе, – сказала я. – Со мной такое впервые. Большую часть времени я просто не соображаю, что делаю.
Она не ответила. Дождь барабанил по окну. Я совсем поникла духом.
Потом она сказала:
– И что ты собираешься делать?
Сердце прыгнуло у меня в груди и бешено забилось, исполненное ужаса, волнения и, наконец, отчаяния. Я молча смотрела на нее.
– Наверное, нам следует прекратить общение.
– Паула, пожалуйста!
– Хорошо, – сказала она с еле заметной, почти неуловимой улыбкой. – Но мне лучше не видеться с тобой несколько дней.
Я сказала себе, что несколько дней ничего не значат.
– Ты несколько ошарашила меня. Мне нужно время, чтобы подумать.
– Прости.
– Не извиняйся.
Я поставила на столик свою чашку кофе и встала.
– Тогда я пойду.
– Да. Увидимся в пятницу, Фредди.
Был понедельник.
Я пошла вверх по лестнице, ликуя от сознания, что поставила на карту все, и цепенея от сознания, что могу все потерять.
Вторник, среда и четверг прошли. Я жила без мыслей, без чувств – как заводная кукла. В пятницу я приготовилась к худшему.
Я постучала. Казалось, прошла вечность, прежде чем Паула открыла дверь. Она улыбалась, немножко нервно.
– Входи, – сказала она.
Я снова села в мягкое кресло с высокой спинкой.
Она встала за ним и положила ладони мне на лоб. Время остановилось.
Я поняла, что счастье – это состояние полного покоя. Никаких тебе исканий, никакой потребности занять свое время. Мгновения бесконечны, дни подобны безбрежным океанам. Комната, в которой ты сидишь со своей возлюбленной, становится вселенной.
И я поняла, что об этом не говорят вслух. Просто нет такой необходимости. И у вас нет слов. Вы в силах произносить лишь одну фразу. И на самом деле должны повторять снова и снова. Ее от вас требуют, она рвется из вас. И всякий раз выливается в торжествующий крик, в нежность, потрясающую вас до глубины души, в акт полного подчинения. Вы должны повторять ее снова и снова. Но слова обжигают.