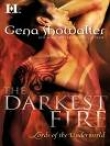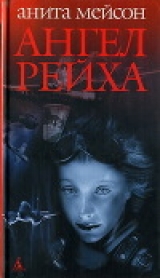
Текст книги "Ангел Рейха"
Автор книги: Анита Мейсон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Глава четырнадцатая
Никто не хотел этой войны. Люди на улицах казались подавленными. Нам сказали, что войну развязала Польша. Истории о зверствах поляков несколько месяцев не сходили с газетных страниц.
У Франции был мирный договор с Польшей, поэтому в войну оказалась втянутой Франция. Британия оказывала Польше поддержку, но никто не ожидал, что она объявит Германии войну. Она объявила.
Я увиделась с Эрнстом на следующий день. Он все водил и водил зажженным кончиком сигары по пепельнице.
– Это ужасно, – сказал он. – Нам не выиграть войну. В конце концов в дело вмешается Америка. Никто здесь не понимает, что такое Америка. Они там не были.
Атмосфера в Рехлине изменилась. Все мои коллеги пребывали в великом возбуждении. Случившееся накладывало на них определенные обязательства, от которых никто не мог отказаться. Я видела, как они распрямляют плечи под грузом новых обязательств.
Тот факт, что война действительно началась, отрезвил меня. Полагаю, как и большинство людей, я до последней минуты надеялась, что этого можно избежать, что Гитлер вытащит очередного кролика из шляпы. Никаких кроликов не появилось, и никто не мог сказать, как долго война продлится. Оставалось только вздохнуть поглубже и продолжать жить.
Неожиданно для себя я стала задаваться вопросом, что же такое война. Все говорили о ней с видом знатоков как о некоем совершенно понятном явлении. Мне она казалась явлением не таким уж понятным.
Она была не тем, чем казалась; в этом я была уверена. Звон брони под ударами снарядов, бегущие фигуры в клубах дыма, треск пулеметов. Все это производило впечатление полного хаоса. Логика войны заключалась в стратегии, но в стратегии, непостижимой для человеческого разума. Другими словами, война казалась чем-то большим, чем вовлеченные в нее люди; она их превосходила. Именно она использовала людей, а не наоборот. Мне представилось древнее воплощение войны в образе божества.
Если она божество, то божество мужского пола.
Я шарахнулась прочь от этой мысли, словно обжегшись. Потом заставила себя вернуться к ней и задуматься.
Вот оно, всеобщее мнение, с которым я боролась с первого дня мой сознательной жизни: есть дела, которыми предназначено заниматься мужчинам, и есть дела, которыми предназначено заниматься женщинам; а следовательно, любая попытка преступить черту, проведенную между первыми и вторыми, является преступлением против самой природы. Если бы я пошла на поводу у этого мнения, я бы уничтожила себя как личность; но я не могла не понимать, что оно властвует практически над всеми умами. Мне приходилось тратить много времени на попытки примириться с ним, не вступая в открытую конфронтацию.
И вот теперь мне явилась эта мысль.
Нет, не на уровне ясного сознания. Как и все навязчивые мысли, она зародилась в виде сосущего ощущения под ложечкой. По каким признакам вы вдруг понимаете, что находитесь на чужой территории? Там другие запахи, другие ритмы. Вы знаете, что не знаете, как проникнуть в глубину чужой территории. Я хорошо разбиралась в самолетах, они не представляли для меня загадки. Но когда началась война, с моими самолетами что-то случилось. Или мне просто так казалось. Они все вдруг словно повзрослели. Внезапно я засомневалась, что сумею найти с ними общий язык, засомневалась, что они предпочтут разговаривать со мной, а не с другим пилотом. Никто не внушал мне такой мысли; она просто неожиданно пришла мне в голову. Она пришла мне в голову однажды, когда я прошла под крылом и двинулась вдоль фюзеляжа бомбардировщика «дорнье», новое шасси которого собиралась испытывать. Я шла, вдыхая запах машины и ведя ладонью по фюзеляжу с нарисованным на нем черным крестом; и она пахла войной. Она дышала холодной целеустремленностью, непостижимой моему пониманию. Я впервые увидела в этом бомбардировщике часть системы, на которую мне позволили работать, но которой мне никогда не разрешат управлять. На мгновение старый гнев всколыхнулся в моей душе, но потом я подумала о другом. Если бы меня не исключили из этой системы, захотела бы я на самом деле стать ее частью? Не показалась бы она мне бесплодной и даже скучной?
Но если война была божеством, я пока еще находилась в храме этого божества. Когда же мое святотатственное присутствие заметят? Или все они слишком заняты, чтобы обращать на меня внимание? Или они уже давно смирились с моим присутствием и признали меня человеком вполне сносным, пусть и не самым лучшим?
Потом мне пришло в голову, что они будут нуждаться во мне тем больше, чем дольше будет продолжаться война. Многие мужчины в Рехлине уже ушли добровольцами на военную службу, и многие собирались сделать то же самое. Практически только об этом все вокруг и говорили.
Ладно, такое можно было предположить, подумала я, и с этой мыслью на меня вдруг нахлынуло чувство, заставившее меня обмереть и ясно понять, чего именно я хочу.
Я хотела участвовать в боевых действиях. Невозможность осуществить желание просто бесила меня. Даже считая войну делом абсолютно бессмысленным, я все равно хотела сражаться. Нет, это был не патриотизм, но желание приобрести опыт, превосходящий весь мой прежний опыт. И желание проверить себя, ибо я не знала пределов своего мужества. Моя работа часто требовала мужества, но я всегда сознавала известный компромисс между мужеством и мастерством. Война же – совсем другое дело.
Я хотела знать, сумею ли я выдержать тяжелейшее из всех испытаний. Наверное, мужчины чувствовали то же самое. И тогда я поняла, что война служит именно для этого.
В первый день войны транспортный планер, который я испытывала, получил статус стратегически важной машины. Заводы получили заказы на дюжины таких планеров. Ходили слухи, что правительство дало добро на его использование в условиях боевых действий.
Примерно тогда же опытные планеристы стали исчезать один за другим в неизвестном направлении.
Вторжения во Францию, которого все мы ожидали, не произошло. После ряда молниеносных побед, одержанных нашими войсками в Польше, наступило тревожное затишье. За летом пришла осень, а за осенью зима. Планеры мирно дремали в ангарах.
Однажды я получила странное письмо. Оно дошло до меня по тайным каналам, о которых я и по сей день могу лишь догадываться, и было написано одним моим старым знакомым, планеристом. Он писал так, словно я была его последней надеждой. И не только его.
Планеристов держали в изоляции на военной базе, в условиях строжайшей секретности, подготавливая к некой военной операции на Западе. На самом деле их никак не готовили к заданию, не учили летать под зенитным огнем, не давали возможности практиковаться во взаимодействии с пилотами буксировочных самолетов, хотя взлет обещал быть опасным; и никто их не слушал, поскольку они в лучшем случае носили звания младших офицеров, а многие так и вовсе были гражданскими лицами.
Люди, ответственные за операцию, явно ни черта не смыслили в планеризме.
Представлялось совершенно очевидным, что множество планеристов просто погибнет бессмысленной смертью.
Пилот, обратившийся ко мне за помощью, умолял меня сделать все возможное. Наверняка кто-нибудь в министерстве прислушается к голосу разума, писал он.
– Я ничего не могу поделать, – сказал Эрнст. – Мне очень жаль. Конечно, ситуация абсурдная. Но она вне моей компетенции, а в министерстве все крайне болезненно реагируют на вещи такого рода.
Я знала это. Но все равно надеялась, что он найдет выход.
– Попробуй обратиться к фон Грейму, – сказал Эрнст. – Вообще-то я думаю, что тебе следует обратиться к Мильху. Но если ты пойдешь к Мильху, не говори, что это я послал тебя к нему.
– Но кто же несет за это ответственность? – спросила я.
– Ответственность? – Эрнст недоуменно вытаращился на меня. Потом рассмеялся. – Да никто не несет никакой ответственности. Просто у нас так делаются дела. Чего ты хочешь? Чтобы операцией руководили люди компетентные?
У Эрнста были неприятности.
Новая должность накладывала на него обязательства, которые он не мог выполнить, и бремя непосильной работы, которое он мог лишь переложить на плечи своего заместителя Плоха. Или оставить все бумажки валяться на столе и уйти.
Но если он бросал все бумажки на своем рабочем столе, то, вернувшись на следующий день, неизменно заставал их на прежнем месте.
В течение трех или четырех месяцев всякий раз, заходя в кабинет Эрнста, я видела одну и ту же нетронутую стопку документов, лежащую на дальнем углу стола. Потом он придавил ее книгой. Это были документы из офиса Мильха, связанные с разработкой и производством «Ю-88». Другая стопка документов – похоже, так и не получивших хода, – относилась к проблеме рабочих площадей авиационных заводов. По всей видимости, нам не хватало рабочих площадей. Предложенное Эрнстом решение проблемы вызвало яростные возражения Мильха, который обрушился на него с бесконечным потоком напоминаний о специфике производства.
Кроме того, был еще новый истребитель Мессершмитта, «Ме-262». Эрнст хранил чертежи не на рабочем столе, а в портфеле – словно надеялся постепенно проникнуться некой непостижимой для него идеей, постоянно таская их с собой.
Он стал бояться принимать решения. Ему обещали помощь специалистов, и он ее получил; но он не доверял специалистам. И имел все основания для недоверия. Все специалисты продвигали собственные проекты в расчете упрочить свое положение. Эрнст пытался взвешивать противоречивые доводы, но понимал, что не обладает достаточно широкими знаниями для того, чтобы верно оценить перспективность каждого проекта; он смотрел на графики, таблицы и диаграммы – и приходил сначала в растерянность, а потом в раздражение. Будучи начальником технического отдела, он привык откладывать решения серьезных вопросов на неопределенный срок; это не составляло труда, ибо ему часто приходилось покидать офис в связи со служебными делами. По крайней мере, он так говорил. Теперь же, в новой своей должности, Эрнст должен был принимать решения практически в каждой своей командировке. И как бы он ни старался оттягивать решение того или иного вопроса, в конечном счете ему приходилось брать ответственность на себя, и тогда чаще всего он злился. По меньшей мере один раз он бросил монетку. В другой раз написал названия двух авиазаводов на листочках бумаги, которые скомкал и бросил перед своим сиамским котом, чтобы посмотреть, какой из них он тронет лапой сначала.
Эрнст тянул с решением по поводу «мессершмитта» неделю за неделей, месяц за месяцем.
Я словно воочию вижу, как он, радостно возбужденный одним из своих недолговечных решений, разворачивает жесткие гладкие листы ватмана. Чертежи крыльев, шасси, секции фюзеляжа… На самый последний лист он решительно не хочет смотреть. Он разворачивает его и чувствует давно знакомую ноющую боль под ложечкой. Вот то, чего он больше всего боялся. Он заведует вооружением военно-воздушных сил, и все над ним смеются.
Мессершмитт говорит, что двигатель его самолета работает на совершенно новом принципе. Но Эрнст не понимает принцип работы двигателя. Тот работает на обычном авиационном бензине, но там нет поршней. Там нет карбюратора. Там нет пропеллера.
Эрнст уверен в гениальности Мессершмитта, но не уверен в здравости его рассудка. Эрнст видит перед собой великолепный новый истребитель, похожий на гигантскую акулу, – с кучей бесполезного металла на том месте, где должны находиться двигатели.
Эрнст сказал, что насчет планеристов мне следует поговорить с Мильхом. Я не горела желанием обращаться к нему; я встречалась с Мильхом несколько раз прежде и остро чувствовала его презрение. Однако я понимала, что сделаю не все возможное, если не поговорю с ним.
– Садитесь, фройляйн Курц, – сказал Мильх, улыбаясь одними уголками губ. – Чем могу быть полезен? – Он бросил быстрый взгляд на часы.
Разговор длился шесть минут. Едва я заговорила, он весь напрягся в кресле. Он перебил меня после первой же фразы:
– Прошу прощения, но при чем здесь вы?
– Я получила письмо с просьбой о помощи, герр генерал.
– О помощи?
– Да.
– Ясно.
Судя по тону, он страшно удивился, что кто-то может обращаться ко мне за помощью и рассчитывает на мое содействие.
Я упрямо продолжала. Пилоты не отрабатывают приемы взлета, не практикуются во взаимодействии со своими буксировочными самолетами, не готовятся к полетам под зенитным огнем.
Мильх смотрел на меня с глубоким изумлением.
– И вам написал это летчик военно-воздушных сил? Что вы в этом понимаете?
– Герр генерал, у меня большой опыт полетов на планерах – и на этих машинах в частности.
– Возможно, но думаю, у вас нет никакого опыта полетов под зенитным огнем и участия в боевых действиях вообще.
Здесь я ничего не могла сказать. Безусловно, я не могла сказать ни единого слова, которое не положило бы конец разговору.
– Хорошо, – вздохнул он. – Можете продолжать.
Больше мне ничего не оставалось добавить, кроме того, что пилоты просили меня поднять вопрос в министерстве, поскольку на базе никто не обращал на них внимания. В данных обстоятельствах этого говорить не стоило. Было глупо предполагать, что Мильх позволит мне промолчать.
– А почему ваш знакомый попросил вас вмешаться в дело? Почему просто не обратился в вышестоящие инстанции, как положено?
– Его никто не слушает, герр генерал.
– С какой стати он решил, что вас будут слушать?
– Не могу знать. Честно говоря, я не рассчитывала встретить понимание. Я просто пытаюсь сделать то, что считаю себя обязанной сделать.
– Теперь сделали? – Он оценивающе смотрел на меня. Последней фразой я чуть-чуть поправила свое положение, но все равно мысль, что женщина может иметь обязанности, сравнимые с обязанностями мужчины, казалась смехотворной.
– Хорошо, – сказал Мильх. – Я допускаю, что вы явились сюда из самых благородных побуждений, а не из простого желания вмешаться в дела, недоступные вашему пониманию. Но это все, что я могу допустить. Вопросы подготовки летчиков к боевым заданиям вас не касаются и никогда не будут касаться. Впредь, пожалуйста, ограничивайте свои интересы сферой своей работы.
Он поднялся. Я тоже поднялась, и мы холодно попрощались.
Я отложила визит к фон Грейму. После встречи с Мильхом я не могла вынести еще одного удара по своему самолюбию. Оно у меня и так сильно страдало. Впервые за все время мне дали задание, вызвавшее у меня глубокое отвращение. Я испытывала буксируемый воздушный заправщик, замаскированный под планер. Страшно неустойчивый, он летал как корова, а поскольку передо мной ставилась задача проверить, как он ведет себя в качестве беспилотного самолета, я не имела права выравнивать машину, постоянно кренившуюся то на одно крыло, то на другое.
Постыдной воздушной болезни, одолевавшей меня в самолете-заправщике, и ужаса, который я начала испытывать перед каждым полетом, оказалось достаточно, чтобы отбить у меня всякое желание соваться в министерство. Таким образом, после встречи с Мильхом я отложила поход к фон Грейму на десять дней. Потом я взяла себя в руки. Мильх, вдруг поняла я, рассчитывал именно на такую мою реакцию.
Мне сказали, что генерал готов принять меня в следующий понедельник.
Я вошла в светлый уютный кабинет. На шкафу для хранения документов стояла ваза с цветами, а на углу рабочего стола – фотографии жены и детей.
Фон Грейм выслушал мой рассказ о письме пилота-планериста не перебивая. Когда я закончила, он небрежно спросил:
– Как зовут этого пилота?
Я молчала.
– Вы собираетесь показать мне письмо?
– Герр генерал, – сказала я, – этот человек сильно рисковал, когда писал мне.
– Разумеется, – сказал фон Грейм все тем же дружелюбным тоном. – Его могут отдать под трибунал. Если вашего знакомого обвинят в разглашении военных секретов штатскому лицу в военное время, что вполне вероятно, то могут приговорить и к расстрелу.
Как я ненавидела министерство! Я ненавидела бесконечные, похожие один на другой коридоры и тысячи кабинетов, где сидели люди, которым в голову не приходило ни единой самостоятельной мысли с раннего утра и до позднего вечера. Как я ненавидела тупость, неизменно сопутствующую этой их дисциплине, расцветающую вокруг нее буйным цветом наподобие одуванчиков, пестрящих по откосам железной дороги. И саму дисциплину я ненавидела, покуда она не имела прямого отношения к выполнению конкретного задания. Несгибаемая, ничего не видящая и не слышащая, не имеющая никакой цели помимо самоутверждения: хлыст, с помощью которого отец пытался воспитать моего брата и сломил его волю.
Я старалась держаться по возможности дальше от этого мира прямолинейных суждений и ограниченных мыслей и давно решила игнорировать тот факт, что по роду моей деятельности мне приходится так или иначе иметь с ним дело. Я полностью сосредоточилась на своей работе. Этого было достаточно.
Но тот факт, что я старалась игнорировать этот мир, означал, что я окажусь в заведомо невыгодном положении, когда мне придется с ним столкнуться. Я не понимала языка, на котором здесь говорили. Мильх, по крайней мере, совершенно недвусмысленно выразил свое отношение ко мне. В общении же с другими людьми я никогда толком не понимала, говорят ли они то, что думают, или имеют в виду ровно противоположное.
Сидя в кабинете фон Грейма, я понятия не имела, на моей он стороне или нет. Если нет, пока я еще ничем себе не навредила, но вот-вот могла совершить ужасную ошибку.
Я встала.
– С вашей стороны было очень любезно принять меня, герр генерал. Я знаю, что вы очень заняты.
Я двинулась к двери.
– Да сядьте, – сказал он. – Вы же все заранее знали, когда шли сюда. Чего вы от меня ожидали?
– Я надеялась на вашу помощь.
– Почему вы обратились ко мне?
– Мне посоветовал генерал Удет.
– Понятно. Да, Эрнст здесь не в силах ничего поделать. Вы разговаривали еще с кем-нибудь?
– Да, я обращалась к генералу Мильху.
– К Мильху? Вы обращались к Мильху? И что он сказал?
– Он настоятельно попросил меня ограничить мои интересы сферой непосредственных служебных обязанностей.
У фон Грейма дернулись губы.
– И тем не менее вы пришли ко мне?
– Я считала это своим долгом, генерал. Если ничего не предпринять, эти люди погибнут.
– Они в любом случае могут погибнуть, – сказал он. – Однако вы правы. Но вы не можете рассчитывать, что я предприму какие-либо шаги для решения такого дела, не располагая конкретными фактами.
Конечно, я не рассчитывала. Я вынула письмо из внутреннего кармана куртки.
– Герр генерал, вы можете дать мне слово?…
– Дать вам что?
Он недоуменно вытаращился на меня. Через несколько секунд он рассмеялся и протянул руку за письмом. Я отдала его.
Лицо фон Грейма утратило веселое выражение, когда он начал читать. Он сделал несколько пометок в своем блокноте, потом отдал письмо мне.
– Оно ваше, – сказал он, увидев мое изумление.
– Спасибо.
– Спасибо вам, что вы пришли ко мне. Я ценю ваше прямодушие. Однако должен предупредить, что вам не стоит вступать в подобные переговоры с представителями командного состава военно-воздушных сил. Да и сухопутных войск тоже.
– Я поняла, герр генерал.
– Я выясню, что можно сделать. – Он встал с кресла и прошел через кабинет, чтобы открыть передо мной дверь. – Вашего корреспондента не отдадут под трибунал.
Я подняла глаза (он возвышался надо мной) и встретилась с ним взглядом.
– Мы ни о чем не договаривались, – сказал он. – Я просто получил информацию.
– Благодарю вас, герр генерал.
Я покидала министерство с чувством, что здесь можно доверять от силы пяти-шести людям, но фон Грейму можно доверять безусловно.
Однажды в среду утром, на седьмой неделе испытаний планера-заправщика, я вошла в инструктажный кабинет с приветливой гримасой, которая, казалось, уже намертво прилипла к моему лицу.
– Та-а-ак, – протянул инструктор, рассматривая полетный лист. – Для вас сегодня нет работы.
Он всегда держался благожелательно.
– Они отказались от него, – сказал он. – От вашего летающего корыта, вычеркнули его из списков. Сдали в металлолом.
Волна радости стала медленно подниматься в моей душе. Достигни она моего лица, оно озарилось бы улыбкой, способной осветить весь Рехлин.
Офицер продолжал листать бумаги.
– Впрочем, кое-что для вас все-таки есть. Сельскохозяйственные машины.
Рано я, оказывается, распрощалась с десантным планером.
Зима выдалась на редкость холодная, и планерам приходилось садиться на лед. Нужно было что-то придумать, чтобы машины не скользили по льду и не врезались в первое попавшееся препятствие.
Конструкторы изобрели ужасающего вида тормозные системы, пахавшие лед, словно плужные лемехи. Их-то мне и предстояло испытать.
Я подняла планер высоко в бледно-голубое зимнее небо. Подо мной расстилалась земля, похожая на огромный глазированный торт. Мне требовалось сделать лишь один круг над летным полем, но я сделала два: второй – от счастья, порожденного сознанием того, что я сижу не в кабине кошмарного заправщика. «Плуги» сработали более чем эффективно: натянувшиеся при резком торможении привязные ремни сломали мне ребро, и никто не верил мне, когда я говорила, что это пустяки.
Через несколько недель после моего разговора с генералом фон Греймом я получила от него довольно туманное письмо. Там говорилось, что «в результате тщательного рассмотрения обсуждавшихся нами вопросов» была разработана программа подготовки для «всех лиц, участвующих в операции». В письме выражалась благодарность мне за содействие и возносились хвалы моему чувству долга.
Уже спустя долгое время я узнала, что произошло на самом деле. После разговора со мной генерал фон Грейм потребовал представить полный отчет о подготовке пилотов-планеристов к планируемой операции. И получил в ответ нечто совершенно невразумительное. На той же неделе начались серьезные тренировки.
А в мае их использовали, те самые планеры. Изрыгая пламя, они упали с предрассветного неба на бетонные стены бельгийской крепости.
Война снова началась, и она бушевала.
Потом, почти неожиданно, она вроде бы закончилась. В течение нескольких недель мы смотрели в мерцающей тьме кинозалов хронику, свидетельствовавшую о головокружительном, молниеносном продвижении наших войск. Голландия пала, Бельгия капитулировала, англичане, оттесненные к Ла-Маншу, эвакуировались на чем попало вплоть до рыболовных суденышек. Франция…
Как странно это было. Древний враг, жуткий призрак Версаля, вдруг оказался соломенным чучелом.
К середине июня германские войска заняли Париж.