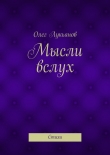Текст книги "Капли росы (сборник)"
Автор книги: Андрей Ермолаев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
В центре внимания сегодняшней дискуссии – диалогичность культуры. Традиция Бахтина-Лотмана продолжается в новых идеях, интеллектуальных новациях и практических исследованиях.
Но я позволю себе обратить внимание на вопросы, которые остаются «в тени» дискуссии. Почему диалогичность культуры с каждым годом актуализируется? В чем историческая обусловленность этой фундаментальной черты? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, вернусь к исходному – как толковать понятие культуры?
По моему мнению, культуру в широком смысле этого понятия следует рассматривать как способ сохранения социальной наследственности на основе актуализированного опыта практической деятельности, ее ценностного и нормативного воспроизводства в повседневной практике. И в этом смысле культура есть «идеальное в материальном». Традиция, миф, религия, наука, искусство в разных формах воспроизводят и одновременно, от обратного, приумножают культуру именно на основе повседневной практики реального общества. Культура, таким образом, рассматривается как продукт деятельности и составляющая самого сознания общества.
Если продолжить этот терминологический ряд дальше, то цивилизация является организованной и институциализированной культурой, ее «во-площением».
И если сама культура является своеобразным геномом деятельности, то геномом собственно культуры является знак. В нем чеканится и воспроизводится знание, значение, обстоятельства и практический смысл всего созданного человеком. Социальные (культурные) коды воссоздают актуальные практики и обстоятельства, в которых они реализуются, являясь источником опыта и знаний.
Известный исследователь, философ Михаил Константинович Петров предлагал рассматривать три составляющие процесса воспроизводства и развития культуры (упрощенная интерпретация):
– коммуникация – связь, координации в деятельности, непрерывный обмен опытом и его смыслом;
– трансляция – собственно передача социальных (культурных) кодов;
– трансмутация – инновационные изменения в практике и их «инкорпорация» в культуру – как общепризнанное, полезное, ценное и понятное.
В традиционном и раннемодерном обществах циклы деятельности сохраняли достаточный временной лаг для того, чтобы изменения в самой деятельности и их освоение культурой охватывали от нескольких до, как минимум, двух поколений. Это обеспечивало уникальность и внутреннюю стабильность культурных сообществ, способствовало разнообразию цивилизационных проявлений на основе уникальности историко-культурных типов, различных решений в развитии деятельности и общественных практик.
Вместе с тем, усиление коммуникации между обществами, создание условий для интегрированной деятельности различных обществ от эпохи торгового капитализма до современного глобального общества радикально изменили динамику трансмутации.
Различные практики и различный опыт в условиях глобализированного информационного общества разрушают традиционные локальные механизмы сохранения и передачи наследственного опыта локальных сообществ. Культурный «микст» охватил все сферы деятельности – производство и технологии, организацию и формы трансляции, свободное время, искусство и т. д. Интересный аспект – вместо ожидаемой унификации имеем геометрическую прогрессию разнообразия, но с выраженным «микстом» предыдущих самобытностей.
Идентичность культуры локальных сообществ становится более размытой, зато все более актуально «общее», взаимопроникновение. И это вызов всем локальным идентичностям и цивилизационным феноменам, независимо от их нынешней фазы развития.
Традиция трансформируется в технологию «проникновения в другое». Так, уникальные учения Востока становятся элементом мирового комплекса оздоровления («здоровый образ жизни»). Китайская кухня конкурирует с «Макдональдсом».
Американские кинокомиксы компенсируют мифообразы традиционных локальных мифологических систем.
Революции в технологиях и культура «человека-самосоздателя» касаются базовых основ общественного бытия. Информационное общество создало условия для альтернативных сообществ (сети, зоны интернационального отдыха и туризм). Создаются условия для появления «искусственного интеллекта», который не имеет корней и границ. Человек Нового Модерна – на грани освоения самовоспроизводства на основе искусственного рождения, продления жизни, искусственного питания, новых методов лечения и восстановления организма. Это уже даже не дети, а внуки доктора Фауста…
Фьюжн-цивилизация – этот термин я использую для определения феномена «опредмечивания» и развития глобальной культуры интегрированного общества.
Конечно, здесь можно еще много аспектов исследовать и раскрывать. Но предыдущий ответ – актуализация диалогичности культуры – не только в измерении индивидуального и общего, но и в измерении форсированного «в пределах поколения» взаимопроникновения в эпоху позднего Модерна и глобализации, переход к Новому Модерну.
Вестерн-глобализация, европеизация, новый ислам и новый исламский мир, «русский мир» и другие инверсии «глобального общежития» – это масштабные и все же локальные ответы на вызовы глобализации и глобальной культуры «информационного общества» и «общества знаний». Вероятнее всего, ХХІ век станет веком конкуренции за право быть доминантой в формировании глобальной культуры Нового Модерна.
И второй аспект, на который бы я хотел обратить внимание. В условиях формирования человеческой культуры как глобальности, как и насколько эффективно может быть реализована общественная практика «локальности» – этноса, нации, национального государства, национальной культуры, культурных мега-сообществ. Как общества способны сохранять уникальные практики и ценностные смыслы своей культуры, находясь фактически под влиянием «совместно-значимого»?
Сэмюэль Хантингтон в одной из последних работ достаточно радикально разделил современные нации и их культуры на две группы – «сильные» (которые способны инкорпорировать глобальные проявления общей культуры в уникальную форму своей локальной идентичности) и «слабые» (потребители «другого»). Тем самым он вновь актуализировал уже известное деление наций на так называемые «исторические» и «неисторические» (А.Тойнби).
Модернизация – это, по сути, культурная революция. Но это не определение для вечного словаря. В нынешнем мире и для наших поколений это определение справедливо. Почему? Потому что быть на «пике» общественных практик и влиять на эти практики, продвигать свои «культурные коды» как универсалии – это вызов, который действительно имеет революционный характер.
Быть современным в глобальном мире тотального информационного обмена и бесконечного, без границ, инновационного развития – значит быть среди лидеров. Диапазон – от ценностного измерения потребительской стоимости, новых производственных практик, новых технологий, меняющих жизнь других, к мифоконструированию, проектированию глобально-приемлемых традиций. А это значит, что модернизационная стратегия не может быть ничем иным, как стратегией геокультурной.
В практическом смысле я бы сформулировал задачу следующим образом:
– новая культурная политика как основа и смысл модернизации страны;
– локализация в условиях глобализации и культурные коды как инструмент проектирования экономической и других политик;
– развитие культурных индустрий как конкретный инструмент для формирования национального ценностно-нормативного поля и встречного влияния на глобальные культурные тренды.
И напоследок. Слабые мы или сильные? Станем «гумусом» новой глобальной культуры или ее активным фактором? Утвердилась ли украинская культура как код наднационального или происходит ее активная инкорпорация, поглощение?
(…)
Эти вопросы особенно обострились сейчас, когда новая Украина возможна лишь как новый национальный проект, соизмерный времени и его вызовам. Как «украинский мир», охватывающий всю многомерность истории и всех творящих сегодня.
Охватность, а не навязывание – особенность новых наций Нового Модерна.
Проникновение и включение в свою культуру – это ответ на вызовы глобальной фьюжн-цивилизации.
Из недописанного тогда и недосказанного. В мире, в котором мы живем и будут жить наши дети, решающую роль будет играть сама инфраструктура жизни. Не только стандарты и условия жизни, но и культурное пространство, сам жизненный ландшафт, станут определяющими. И вот здесь на первое место и выходит ключевой вопрос Нового Модерна – как уметь себя «обустроить», не только сохраняя, но и добавляя – в архитектуре, природе, коммуникациях, науке и технологиях, культурном продукте. Этот материальный мир – как «порядок вещей» – и создает устойчивый «культурный мир» – европейский, исламский, американский. Копиры, уподобления – или хранение прошлого чужого – лишь создают иллюзию временного успеха.
А как обустроить украинский проект и превратить его в «украинский мир»? Ведь сегодня он состоит из осколков советской цивилизации-фабрики, подзабытых российских и речьпосполитовских «памятников истории», разрозненных святынь, нынешних стеклянных «подобий Запада» и руин войны на Донбассе… Эклектика в головах, эклектика в жизни, эклектика в действиях. Вместо истории – как актуального, живого опыта-мифа – рассыпанное лото чужих смыслов. Потому и рваные такие, жестокосердные, эгоистичные, каждый со своим «фрагментом смыслов».
Возвращаясь к утверждениям Тойнби и Хантингтона (тихо умалчивая о Гегеле), будущее творят только «исторические нации» (народы, цивилизации), остальные – гумус истории. Верно, в общем-то. Горько, но верно.
Вы обращали когда-нибудь внимание на то, как некоторые народы гордятся чужим историческим наследием и зарабатывают на «туристической инфраструктуре»? Казалось бы, что плохого? Культурные индустрии, микст эпох и валют за предоставленные услуги.
Глобализация и локализация идут рядом. Общие экономики, связи, дела. Разные мысли, привычки, традиции. И все же стоит помнить, что в человеческой истории известны сотни ярких народов и культур, самобытность которых ограничивалась временной включенностью в чужой мейнстрим. Эпоха Нового Модерна – не исключение.
Сколько сейчас государств на карте мира? Более 200? 200 лет назад было чуть более 20. А 700 лет назад – добрая тысяча локаций в виде монархий, княжеств, орденов-государств, кочевых государственностей, да мало ли… А заглянем лет эдак на 200 вперед – кто удержит амбицию быть творцом истории, а кто – будет лишь каплей в мейнстриме? Пожалуй, лишь тот, кто об этом думает и стремится уже сегодня.
Творить историю фьюжн-цивилизации – значит задавать образцы и стандарты жизни, во-площать их, превращать в живой предметный мир – в тело архитектуры, ландшафты жизни, новые идеи и новые ответы, новые технологии и возможности.
Давно ушла в прошлое эпоха империй-цивилизаторов и территориальных лидеров. Технологический империализм, культурная монополия, информационно-смысловое лидерство – так определяется лицо наций-лидеров фьюжн-цивилизации.
Быть историчным – значит вести за собой. Излом Украины – момент выбора: творить или уподобляться, хранить или пре-творять.
Еще раз о герменевтическом экзистенциализме
Жизнь человека – как текст, в котором его слова и поступки складываются в смыслы, ему присущие смыслы и цели, независимо от воли и желания быть прочитанным. Хотите понять – научитесь читать жизненные тексты. Не скажу, что это легко психологически. Зато позволяет понять судьбу человека, которую он создает себе сам. А значит, и помочь.
С обществом – почти то же самое.
Одна сложность – дешифровать из какафонии истинный текст.
Украине на пути к новой Украине предстоит пройти испытание новой дисциплинарностью и «простотой», новым нигилизмом и социальным экспериментаторством. Это важно и нужно понимать, чтобы «страх перед историей» и «революционные неврозы» не подтолкнули к повторению трагедии столетней давности.
5. Капли росы (сосуд пятый)
1 декабря 2014 г.
Вы когда-нибудь видели, как пишут слепые или слабовидящие? Это немного похоже на работу опытных секретарш. Каждую букву набирают, не глядя на клавиатуру, потому что нет смысла вглядываться. Знаете, в чем отличие незрячих и секретарш? Для секретарш – это механическая работа с чужими текстами. А для незрячих – это когда мысль живет независимо от навыка. Незрячий берет с собой только то, что важно. И в этом – большая тайна жизни. Слепцы мудры и наивны одновременно. Они НЕ ВИДЯТ так, как видит зрячий. Но они понимают то, что за пределами видимого. Вынуждены понимать, иначе не смогут выживать рядом со зрячими. Иногда их про-видение – наивный взгляд на такое простое и привычное, но иногда – становится прозорливо-роковым.
«Да, истинное несчастье обоих человечеств, древнего и нового, что их величайший поэт и мудрейший учитель – певец не мира, а войны, полубезбожник, слепой Гомер.
Вместе с верой в богов, утратил он и веру в царство богов на земле – мир».
(Д. Мережковский, «Тайна Запада. Атлантида-Европа»)
Эти тезисы я собрал вместе из разных выступлений и прений, которые мне все чаще кажутся не то что бесполезными, а ненужными, и не ко времени, что ли… Когда всем молчащим ясно, что и как происходит, чувствуешь себя идиотом. Ну пусть хоть так.
*****
1. Война в Украине – эпицентр глобального гуманистического кризиса, вызов Новому Возрождению. Полтора десятка лет идет дискуссия о кризисе, который переживает весь мир – финансовый, экономический, геополитический. Украинская трагедия-2014 проявила еще одно измерение кризиса, которое сейчас выходит на первое место – это кризис гуманизма, гуманистический кризис. Он проявил себя в том, что впервые после завершения Второй мировой войны в Европе ведется высокотехнологичная война, потрясающая своей интенсивностью, жестокостью и цинизмом и уносящая жизни тысяч мирных людей. И, пожалуй, никогда еще со времен тоталитаризма жизнь человека в европейской Ойкумене не приравнивалась просто к статистической единице.
Культурно-смысловые войны и медийно-пропагандистские спецоперации с использованием информационного оружия привели к тому, что картина этого конфликта уподоблена своеобразной «религиозной войне», в которой каждая из сторон, отстаивая свои цели и идеалы, готова жертвовать не только вооруженными силами, но и своими родными и близкими, простыми мирными жителями.
Культурный шок от происходящего по силе и влиянию действительно сопоставим с масштабом и последствиями мировых войн XXI века.
Такое историческое измерение гуманистического кризиса заставляет переосмыслить масштаб и пути преодоления украинского кризиса как составной части кризиса глобального.
*****
2. Война в Украине – битва за будущее европейского проекта. Поспешное определение войны в Украине как начала «четвертой мировой войны» оттенило иную грань происходящего. Это «европейская война», подрывающая не только основы глобального порядка, но и разрушающая устоявшийся политический миф об успешности европейского проекта, прогрессивности европейского мира. «Конец истории» (Гегель-Фукуяма) вновь вернулся на изначальную точку «начала».
Фантомы тоталитаризма, фашизма, нацизма, варварского отношения к человеческой жизни, сопоставимые с варварством инквизиции и фанатизмом большевизма, ожили с новой силой. Европа в плену собственных «призраков прошлого».
*****
3. Кризис Украины – ожидаемая катастрофа. Глобальный кризис разворачивается в несколько этапов – финансово-экономический, геополитический (архитектоника мироустройства), геокультурный. Этап, который проходит сейчас, можно определить как ускоренную трансформацию глобального геополитического порядка. Именно этот этап сопровождается многочисленными войнами, потрясениями, «распадом» слабых звеньев «старого порядка».
Перечень слабых звеньев можно найти в большинстве футурологических и прогностических работ прошедших 10–15 лет. Как правило, среди этих звеньев называлась и Украина. Главная причина того, что Украина всегда была в списке слабых звеньев, состояла не столько в ее геополитическом положении и значении, сколько в слабости ее государственности, неразрешенности внутренних проблем (неконсолидированность общества, инертность экономического развития, коррупция и высокий уровень эксплуатации, незавершенность реформ, низкая конкурентоспособность старой индустрии), а самое главное – в высоком уровне социального напряжения.
Политические акции дискредитации и десакрализации власти («Украина без Кучмы»), социальные бунты и локальные протесты («врадиевки»), Майдан-2004 и Майдан-2014 стали мейнстримом последнего десятилетия общественно-политической жизни Украины.
По большому счету, в том, что Украина воспринималась и в итоге оказалась слабым звеном геополитического кризиса, виновно, прежде всего, само украинское общество, где эти противоречия накапливались, отслеживались внешними игроками и, в итоге, были использованы.
Но есть и обратная сторона медали. Широко известна точка зрения Збигнева Бжезинского о том, что именно от Украины зависит возрождение или крах имперских амбиций России.
Вместе с тем, Украина – это и «чека для Европы». Провал европейской политики в отношении Украины приобретает значение «краха европейских иллюзий». Неудача с Украиной – означает неспособность Европы справиться и переварить исторические последствия социалистических экспериментов (хотя сами идеи социализма были продуктом европейской политической и философской мысли), критическую слабость европейской геополитики «расширения на Восток», трусость и консервативность в реализации планов возродиться как «полюс влияния». Чека выбрасывается, а граната взрывается лишь через какое-то время…
Неустойчивость Украины, кризис государственности, наличие слабой коррумпированной элиты, которая при первой же возможности покинула страну, привели к тому, что именно на украинской территории развернулась война, угрожающая сдетонировать глобальный конфликт.
Вместе с тем, украинское «треснувшее звено» означает еще одно доказательство низкой эффективности, неудачи европейской интеграционной политики, плохо продуманной и неэффективной политики соседства и остановку движения европейского проекта на восток. Эта ситуация катализирует настроения евроскептиков, усиливает рост новых националистических сил в большинстве стран Европы, а самое главное – дополняет общую картину кризиса европейского проекта. В своем нынешнем виде он имеет очень мало ресурсов для самостоятельного развития. В силу конфликта в Украине, современный евро-проект теряет устойчивые связи с Россией и Евразийским пространством и оказывается все более зависимым от евроатлантического пространства – геополитического, финансового лидерства США.
*****
4. От идеи «Большой Европы» – к политике «глобального эгоизма». Политические философы и экономисты написали тысячи страниц о том, как будет преодолеваться глобальный экономический кризис конца ХХ – начала ХХІ века.
На пике финансовой фазы кризиса, каких-то 4–6 лет назад казалось очевидным, что главное направление выхода из кризиса связано, прежде всего, с коллективными усилиями в условиях глобализированного мирового рынка; с использованием общих инструментов и подходов, с сохранением стабильности мировой финансовой системы, сохранением условий для существования уже утвердившихся резервных валют, сохранением баланса национальных бюджетов.
Не вызывало тогда сомнения и то, что Европейский союз и страны постсоветского пространства, где на лидерство претендовала Россия, будут объединять усилия, чтобы минимизировать издержки этого кризиса. Более того, многие годы продуктивно шли переговоры о создании единой экономической зоны, единого экономического пространства между Евросоюзом и странами Евразийского экономического союза. Политики, дипломаты и аналитики все чаще возвращались к идее «Большой Европы».
Последние полтора-два года показали, что реальные пути выхода из кризиса каждый все же выбирает сам, и они отличаются от ранее признаваемой модели. Для Европейского союза оказалось более привлекательным и надежным создание так называемой Евроатлантической экономической зоны, переговоры о которой продолжаются и скорей всего завершатся подписанием соглашения в 2015–2016 годах. Критическое состояние национальных экономик ряда стран ЕС (Испания, Греция, Португалия…), возможный выход Великобритании из ЕС (2017–2018), а также слабость ЕС в области военной безопасности усиливают европессимистические настроения и одновременно реабилитируют идею единого консолидированного Запада с признанным лидерством США (прежде всего – технологическим, военно-политическим). Сценарий, фигурировавший в ряде прогнозов будущего США и миропорядка в XXI веке как новый «Pax Americana», оказался, несмотря на все маастрихтские амбиции европейцев, самым действенным, как и идеи проекта «Новый американский век».
Россия, судя по последним действиям как в отношении собственной экономики, так и на геополитической арене, выбирает путь самостоятельного выживания. Если вспомнить, о чем писали российские экономисты еще 10–15 лет назад, то большинство из них пришло к выводу, что в условиях глобального кризиса («второй Великой Депрессии»), который, возможно, будет одним из самых длинных и тяжелых в современной истории, наиболее перспективным для России может быть путь единоличного выживания. В том числе и за счет участия в формировании «многополярного» нового мирового порядка, мультивалютной системы, формирования контролируемого регионального объединения (Евразийский союз и/или новое союзное государство) и при условии создания условий для внутренней мобилизации. Тогда размышления российских экономистов казались лишь частью большой дискуссии о том, как пережить кризис. События 2014 года со всей очевидностью проявили тот факт, что именно этот путь – мобилизационная модель выхода из кризиса и внутренней модернизации – избран Россией как генеральная линия.
Слабость ЕС и поворот в сторону евроатлантического проекта интеграции стали последней точкой невозврата и для российского выбора. Пути разошлись, конкуренция за ресурсы развития обернулась войной.
*****
5. Вторая постсоветская трансформация: конфликт национального проектирования и реставрации. По сути, не только Украина, но и большинство республик, которые образовались на фундаменте бывшего Советского Союза, переживают вторую постсоветскую трансформацию. Стоит напомнить, что первый этап трансформации, который казался самым болезненным и пережитым (1991–2003), состоял в том, что после подписания Беловежских соглашений на карте образовались, согласно существовавшим административным границам, полтора десятка новых республик, каждая из которых заявила о развитии собственного национального проекта.
Тогда казалось не слишком важным и существенным то, что состав населения, экономический потенциал, состояние политических элит не соответствовали заявленным амбициям. В случае с Украиной, как и с целым рядом других республик, возник феномен так называемых постсоветских анклавов, которые, как правило, формировались и развивались на протяжении существования Советского Союза, и были связаны с периодом индустриализации, либо переселением народов. Специфика этих анклавов: в эпоху советской цивилизации они были образцом экономического и социокультурного проектирования (Донбасс и Крым в Украине, северная часть Казахстана, Приднестровье в Молдове, Дальний Восток и индустриализированная часть Сибири в РФ, и т. п.).
Именно в этих анклавах были наиболее устойчивы традиции советской цивилизации, советской культуры, опыта экономической организации, а соответственно – и практики социальной повседневной жизни, традиции «советской» исторической памяти.
По мере развития национальных проектов, что, как правило, связано с ренессансным подходом к культурному развитию, формированием новых, часто заимствованных извне, политических традиций, все больше начали обостряться проблемы противоречий и непонимания между «советскими анклавами» и ядром новых национальных проектов. В Украине таким ядром стали два социокультурных уклада – младоевропейский (с опорой на регионы, сохранявшиеся связи и память существования в составе европейских государств, сохранившие коды самоуправления и магдебургского права, рыночной культуры) и патриархальный провинциальный уклад, трансформировавшийся в культуру современного «украинского села» центра и севера Украины (т. н. «сельскую культуру»). Наряду с дисперсными регионами Юга и Юго-Востока, в законсервированном «советском укладе» оставались украинцы, проживающие в Крыму и на Донбассе.
Политические спекуляции вокруг проблемы русского языка, конфликты на почве исторической памяти, «война памятников» – все это неумолимо приводило к внутреннему отчуждению. И это тоже закладывало основы для кризиса государственности, наряду с кризисом институтов власти, коррупцией, неэффективностью административной машины.
Вторая волна постсоветской трансформации стала для Украины разрушительной: корпоратизированная государственная «машина» была не в состоянии управлять нарастающими конфликтами. Начиная с 2004–2005 годов, Украина «сваливалась» в кризис государственности, а правящая коррумпированная элита не умела и не желала мыслить задачами и целями создания второй государственности. Украинский поезд, декларируя европейский маршрут, шел под откос.
Вместе с тем, диффузные «советские анклавы» составили своеобразную сеточку «мира реставрации», который в России поспешили назвать «Русским миром». РПЦ и Кремль, реагируя на внутренние вызовы кризисного российского проекта, попытались вместе «оседлать» реставрацию, подогнав ее под внутрироссийские национальные задачи. Не учтя при этом, что собственно «русский мир» как исторический культурный феномен ушел в прошлое в котле первой мировой войны и большевистского переворота и вряд ли возродится в том смысле, в котором он существовал на этапе развития проекта русской нации ХІХ – начала XX века.
Фактически в упаковку «Русского мира» был втиснут «Советский мир», у которого все еще остается социальный и геополитический потенциал реставрации, и в котором могли бы принять участие те локальные со-общества и регионы, где традиции советской цивилизации и культуры были наиболее устойчивы и стали критерием деления на «своих» и «чужих». Эту особенность и использовали в российской политике как аргумент необходимости т. н. ре-интеграции в евро-азиатском регионе (проще – в пространстве бывшего СССР).
*****
6. Мобилизированная Россия: третья модель модернизации после двух исторических неудач.
На протяжении 20 лет российская элита пыталась реализовать как минимум две модели собственной модернизации. Каждый раз казалось, что избранный путь дает максимальный эффект, который позволит перестроить экономику, избавиться от сырьевой зависимости, перейти на новый технологический уровень, создать новую социальную инфраструктуру.
«Ельцинская» (либеральная) модель модернизации опиралась на развитие базовых институтов рынка и делала ставку на молодой финансовый капитал в качестве движущей силы и субъекта модернизации российской экономики. Представители этого капитала тогда казались самыми современными, драйвовыми, прогрессивными. Их потенциал реинвестирования накапливающегося финансового богатства представлялся наиболее быстрым путем развития российской экономики. В политику этот период вошел как период гайдарономики и «семибанкирщины».
Ходорковский, Лебедев, Березовский, Потанин, Бендукидзе и иже с ними, несмотря на разные судьбы, плоть от плоти – порождение этой модели. Каждый из них как представитель этого молодого либерального класса в России пытался успешно реализовать свои проекты именно в реальном секторе. Поход российской финансовой олигархии в ТЭК и ГМК, машиностроение, авиастроение и ОПК был краток, как пиратский набег. В историческом измерении, конечно. В большинстве случаев, эти проекты закончились крахом. Прежде всего, из-за того, что они тоже были нацелены на максимизацию прибыли, при почти полном игнорировании сверхдорогой российской инфраструктуры, социальных инвестиций, недропользования и т. д.
Крах иллюзий в отношении финансовой олигархии, которой был на какое-то время вручен почти весь реальный сектор российской экономики, наступил уже в 1998-м.
Вторая модель модернизации – условно «интеграционная» – была связана со ставкой на быстрый переход к государственно-монополистическому управлению, «национальным проектам» и консолидации постсоветского пространства в рамках Таможенного союза – Единого экономического пространства, экспансии лояльного к Кремлю капитала в нужные сектора и сегменты соседних экономик (Казахстан, Беларусь, Украина, прежде всего).
«Стратегия модернизации» Путина-Медведева, по времени совпавшая с президентством последнего, сопровождалась и неловкой пропагандой т. н. «евразийских идей» и создания Евразийского союза, «такого же, как Евросоюз» (так часто представляли перспективу ЕврАзЭС новые «кремлевские мечтатели»). Подрастерявшихся российских интеллектуалов, искавших новый «русско-российский путь», успокаивали православной риторикой еще не оперившейся доктрины «русского мира».
Ре-интеграция и создание более устойчивых, более современных отраслей, которые опираются на традиционное разделение труда, потенциал, возможности постсоветской индустрии, евро-азийские ТНК – представлялись тогда очевидным и обоснованным подходом.
Проблема лояльности политических и бизнес-элит стран-соседей решалась прикупом, долевым участием в природной ренте российских монополий, взятками, кредитными «петлями» со стороны щедрых на раздачу ВТБ и Сбербанка РФ, агентурной работой спецслужб.
В тот период времени украинских политиков, бизнес и экспертов Кремль убеждал в том, что Украина не способна к экономическому саморазвитию, а Таможенный союз, ЕЭП в плане модернизации крайне нуждается в украинской индустрии, науке, инфраструктуре, высококвалифицированной рабочей силе.
Но и эта модель начала давать сбой, потому что к этому моменту в тех республиках, которые приняли участие в проектах – Казахстане, Беларуси – уже реализовывались собственные корпоративные стратегии. Часто эти стратегии не соответствовали заявленным планам интеграции, и возникал конфликт капиталов, особенно в конкурентных сферах: горно-металлургическом комплексе, в области продовольственного рынка.
Самое главное, что сработал принцип геополитического консерватизма: ни одна из национальных элит, экономических и политических, не хотела поступаться своим «корпоративным суверенитетом». Бегство Януковича в Россию – проявление слабости и трусости после нескрываемых царских амбиций – быть главным собственником и монополистом в украинской экономике (чего стоит желание контролировать новые источники добычи и поставок газа – «сланцевый» контракт, строительство терминала в Одессе, планы по созданию реверсной схемы со Словакией…).