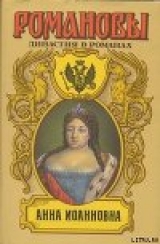
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 55 страниц)
Князь Никита посмотрел снова вперёд, – там, где стояли, скучившись, люди, теперь возвышался над ними на помосте у столба палач, в красной рубахе с засученными рукавами.
Барабанный бой становился слышнее и слышнее. С Волконским поравнялась шеренга барабанщиков, отбивавших молодцевато, со старанием, мелкую дробь. За ними (они шли очень скоро) промелькнули солдаты, за солдатами две тощие лошадки везли чёрную телегу с высокою скамейкой, на которой сидел со связанными назад руками, в каком-то тёмном длинном одеянии живой человек, бессильно покачиваясь всё на одну сторону при каждом толчке телеги.
Никита Фёдорович поднял на него взор.
Знакомое, но теперь бледное, жалкое, осунувшееся лицо Девьера глянуло на него с высоты позорной телеги. Зрачки несчастного подкатились под верхние веки, и рот точно улыбался тою кривою, якобы с п о к о й н о ю улыбкою, в которую предсмертная судорога сводит обыкновенно губы покойников. Но Девьер был жив. Грудь его тяжело и неровно дышала, брови изредка поднимались, и тогда на его лице являлось какое-то испуганно-детское выражение.
Князь Никита остановился. Он понял и сознал, что происходило пред его глазами; но вместе с тем, несмотря на это сознание, в его голове мелькнул совершенно лишённый здравого смысла вопрос:
«Куда же это едет Девьер?»
Телега проехала, стуча колёсами. Барабаны трещали несколько дальше, и Волконского со всех сторон охватила спешившая за телегой толпа, бежавшая с лестницами, скамейками и табуретками, чтобы было на чём стать и лучше видеть предстоящую казнь. Эти раскрасневшиеся от скорого бега лица, жаждавшие готовившегося зрелища, эти дикие крики и брань, это исступление, которым была охвачена толпа, точно отняли у Волконского воздух, которым он дышал, в глазах помутилось, и он закачался. Сильный толчок в грудь заставил его опомниться. Какой-то рыжий детина в кожаном фартуке столкнулся с ним и, обругавшись, бежал уже дальше. Толпа замяла в своей середине Волконского и повлекла его к месту казни.
Там уже вводили Девьера на помост. Он, по-прежнему подёргивая бровями и тяжело дыша, не подавал никаких других признаков жизни, ступая в гремевших кандалах, точно не он, а кто-нибудь другой двигал ногами. Его подвели к столбу. Палач быстро и скоро развязал ему руки и, приподняв, продел их в железные, привязанные высоко к столбу, кольца. Палач сделал это с серьёзным, сосредоточенным лицом, видимо, стараясь только как можно лучше и добросовестнее исполнить свою обязанность. Потом он отошёл несколько в сторону и протянул вбок, не гладя, правую руку. Молодой парень, тоже в красной рубахе, очевидно помощник палача, поспешно вложил в эту руку тяжёлую ремённую плеть.
Князю Никите были хорошо видны затылок коротко остриженной головы Девьера и его белая, мускулистая, освещённая солнцем спина, когда именно и кем обнажённая – Волконский не заметил.
Барабаны перестали бить. Только что гудевшая на разные голоса толпа безмолвствовала, и в наступившей тишине поразительно ясно раздался свист поднявшейся плети.
– Раз! – рявкнула толпа в один голос.
Плеть свистнула снова, а на той белой спине, на которую глядел, как сумасшедший, Никита Фёдорович, вздувался уже, багровея от притекавшей крови, широкий рубец первого удара.
Князь Никита отвёл глаза, посмотрел вокруг себя и встретился с ухмылявшимся, противным лицом одного из своих дворовых. Больше он ничего уже не помнил.
VIIСМЕРТЬ
Никита Фёдорович очнулся у себя в комнате. Он открыл глаза и сейчас же узнал эту комнату, несмотря на то что в ней многое переменилось, – большинство книг куда-то вынесли, аппараты составили зачем-то в угол. Сам князь Никита лежал на постели, которой никогда не было здесь прежде. Кушетка – «её», Аграфенушки, кушетка – стояла, придвинутая к стене, в ногах его кровати. Но больше всего удивила Никиту Фёдоровича рука, лежавшая на его груди. Она была совсем прозрачная, словно восковая, и до того худа, будто кожа обтягивала одни сухие кости. Белая простыня была совершенно одного с нею цвета. Князь Никита догадался, что эта рука, которую он не узнал, – его рука, и с трудом шевельнул ею.
Окна были чем-то завешаны. Свет шёл сзади, по-видимому, из одного только окна, которое оставалось открытым. Всё было тихо. В комнате, казалось, никого не было.
Но только что князь шевельнул рукою – дверь скрипнула и приотворилась. Миша сначала просунул голову, а затем, тихонько войдя, вдруг быстрыми шагами подошёл к кровати.
– Лаврентий, батюшка пришёл в себя! – радостным шёпотом проговорил он.
Сзади от света подошёл Лаврентий.
– Князинька, родной, голубчик! – заговорил он, заглядывая в лицо Никите Фёдоровичу, и, увидев сознательную улыбку на этом лице, просиял весь и, опустившись, припал к бледной руке. – Насилу-то… ну, слава Богу!..
Миша стоял с навернувшимися на глазах слезами, радостный, видимо не зная, что ему сделать.
– Батюшка, батюшка! – шептал он только всё чаще и чаще и, наконец, разрыдался.
– Княгинюшке сообщите, ваше сиятельство, – сказал ему Лаврентий, – она измучилась ведь.
Миша, напрасно силясь сдерживать свои слёзы, торопливо пошёл из комнаты.
Через несколько минут пришла Аграфена Петровна. Она явилась бледная, исхудалая. Лаврентий был прав, что она измучилась. С нею вернулся Миша.
Аграфена Петровна приблизилась к мужу быстрыми, взволнованными шагами и, видимо, привычным уже движением приложила руку к его голове, потом низко нагнулась над его лицом, посмотрела ему в глаза и улыбнулась.
Князь Никита тоже улыбнулся ей.
Она была без своей обыкновенной высокой причёски, в белом ночном чепчике и капоре.
– Пошли за Блументростом, – обратилась она к Мише, – он велел дать знать, если будет перемена. Лаврентьюшка, а ты бы теперь отдохнуть пошёл – теперь уже можно. Я посижу.
Миша снова пошёл, но Лаврентий не двигался.
– Лаврентий, ты слышишь? – сказала Аграфена Петровна.
Старый слуга поднял голову. Князь Никита глазами показал ему, чтобы он слушался «её».
– Княгинюшка, я сам за лекарем сейчас побегу, – сказал Лаврентий.
– Ты поезжай лучше, я не велела раскладывать карету, – проговорила ему вслед Аграфена Петровна.
Князь Никита хотел приподняться, но из его усилий ничего не вышло.
– Шш!.. Не шевелись! – остановила его жена. – Погоди, приедет доктор.
– И да… да… и давно я так? – с трудом выговорил князь Никита.
– После, после всё расскажу, теперь не говори и не двигайся! – опять остановила она, поправляя одеяло.
Князь послушно и кротко взглянул на жену.
Блументрост не заставил долго ждать себя. Лаврентий нашёл его в академии и сразу привёз.
– Ну, вот мы и поправились, – заговорил он, входя и потирая руки, – ну, теперь всё пойдёт хорошо. Поздравляем, поздравляем! – Он не спеша поздоровался с княгиней, оглядел комнату и, видимо, оставшись доволен порядком, подошёл к больному, пощупал ему голову, сказал «хорошо!», подержал за руку повыше кисти и тоже сказал «хорошо». – Теперь нужно будет давать только подкрепительную микстуру, – обратился он к Аграфене Петровне, – я вам её пришлю. Если он захочет есть – дайте ему молока, суп тоже можно, а больше пока ничего.
Блументрост скоро уехал, сказав, что у него в академии много дела и что вечером он заедет на всякий случай. Уходя, он дружески потрепал Мишу по плечу, как старый знакомый.
Аграфена Петровна только по уходе доктора оживилась и пришла в себя. Она села к мужу на кровать и, гладя его руку, заговорила с ним:
– Господи, как ты напугал нас! Ведь вот уже двенадцать дней, как ты без памяти… как тебя принесли тогда…
Никита Фёдорович силился вспомнить, откуда это и как принесли. У него оставалось смутное впечатление чего-то страшного и ужасного.
– Нет, но кто меня удивляет, – нарочно переменила вдруг тему разговора Аграфена Петровна, – так это Миша. Представь себе: он не отходил… положительно… иногда ночью придёт и сидит… сколько раз засыпал здесь. Мешает, а прогнать жаль… Ты попробуй уснуть теперь… Хочешь, я дам поесть, а потом усни…
И она послала Лаврентия за молоком и супом.
Княгиня ощущала теперь то особенное волнение, которое приходит всегда после долгого и напряжённого беспокойства, когда причина этого беспокойства исчезнет. Под влиянием этого волнения ей хотелось говорить, и она говорила, заставляя в то же время молчать Никиту Фёдоровича. Иногда она останавливалась, боясь утомить его; но он делал усилие, как будто желая спросить, и она снова начинала о чём-нибудь, но старалась говорить как можно медленнее и тише.
Князь Никита слушал голос жены, музыку его, как будто радуясь звуку её речи, и старался вникнуть в смысл её слов, но это стоило ему больших усилий. Он не мог как-то удержать в памяти то, что слышал, и уловить связь слов. Ему хотелось всё что-то вспомнить, совсем постороннее, и он не мог сделать этого. Несколько раз как будто мысли его уже начинали слагаться в последовательную цепь, но в тот самый момент, когда ему казалось, что вот он вспомнил уже, кто-то, словно пену, сдувал его мысли – и всё оставалось по-прежнему гладко и неопределённо, и снова начиналась, завязывалась цепь, и снова обрывалась.
– А что сталось с ним? – вдруг вслух спросил он.
Аграфена Петровна, рассказывавшая в это время о распустившихся цветах в саду, вдруг смутилась. Она поняла, что князь Никита спрашивает о Девьере, и не знала, ответить ли ей на вопрос или отвлечь внимание мужа.
Он смотрел на неё с серьёзным лицом и совсем осмысленными глазами.
Аграфена Петровна решила, что сказать будет лучше.
– Ты про кого? Про Девьера? – спросила она. – Он, получив двадцать пять ударов, вынес их, г о в о р я т, л е г к о и отправлен уже в ссылку в Сибирь, – добавила она, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.
И вдруг вся виденная картина у рынка на площади стала во всех своих подробностях пред глазами князя Никиты. Толпа загудела кругом, в виски застучало, затрещали барабаны – и всё смешалось. В воздухе явилось множество рук, видных до локтя, и все они как-то одна из под другой замахали в глаза Никите Фёдоровичу и сделались сквозные, красные, точно насквозь пропитанные горячим, жгучим светом. Он заметался по постели и снова впал в беспамятство.
Аграфена Петровна с ужасом глянула на него и в отчаянии протянула руки. Князь Никита бился уже, бредил и не узнавал жены.
Вечером Блументрост застал его в худшем, чем в первые дни, положении. Такого скорого повторения припадка горячки, как он определил болезнь Волконского, он не ожидал и объявил, не скрывая, что больной уже в безнадёжном состоянии.
Князь Никита перестал быть человеком. Он потерял всякое ощущение, всякую возможность сознания. Он чувствовал вокруг себя свинцовый, тяжёлый туман, голова его будто раздавалась во все стороны и достигала ужасающих размеров… Необыкновенные, частые, шипящие и трещащие звуки неслись откуда-то и сталкивались и сплетались, но всё так же мерно отбивали однообразный такт с одинаковыми промежутками.
«Ха-а-а… а-а…» – шипело у него в горле, и он не знал, что разговаривает в это время.
Так он без умолку, не переставая, говорил ровно сутки, но сам он уже давно потерял счёт времени и даже забыл о его существовании.
Наконец, вдруг мало-помалу (для Никиты Фёдоровича т е п е р ь это было всё равно) опустились в его душу мир и покой. Слышалось тихое церковное пение, дым кадильницы стлался в воздухе, и парчовая риза священника ломалась красивыми складками. Кто-то сдержанно плакал возле.
«О чём же тут плакать, когда мне т а к хорошо? – подумал Никита Фёдорович. – Но что же это всё такое?.. Я умер, должно быть, – решил он, – и это по мне служат… Так вот оно что, вот что значит смерть… вот она… И всё видишь и чувствуешь… как хорошо!..»
Но кровать и комната остались прежними и как-то слишком уже н и ч е г о не изменилось.
«Соборуют меня – вот что», – опять догадался Никита Фёдорович и стал вслушиваться в молитвы, и сейчас же заметил, что служат молебен.
Аграфена Петровна, когда Блументрост сказал, что надежды нет и его наука бессильна, подняла образ из Троицкой церкви и решилась отслужить молебен у постели больного мужа.
И князь Никита вернулся к жизни.
Когда священник, окончив молебен, тихо и торжественно подошёл к постели Волконского, бережно держа обеими руками крест, и, увидев открытые глаза больного, приложил этот крест к его губам, Аграфена Петровна, как бы боясь, что это потревожит умирающего, сделала движение вперёд; но князь Никита совершенно твёрдою рукою перекрестился и спокойно поцеловал крест.
С этой минуты началось его выздоровление.
Он с каждым днём стал чувствовать себя крепче. Не прошло недели, а Никита Фёдорович уже аккуратно принимал подкрепляющую микстуру Блументроста, ел суп, пил молоко и спал спокойным, восстанавливающим силы сном. Голова его совершенно прояснилась, он мог всё сообразить и связно думать.
Все кругом говорили, что над ним свершилось чудо.
Князь Никита лучше других понимал, что чудесный возврат его к жизни был особенным проявлением Божественного Промысла, и больше других удивлялся Его проявлению. Никита Фёдорович не только не боялся смерти, не видел в ней ничего, р е ш и т е л ь н о ничего страшного, но, напротив, ждал её как освобождения, которое должно наступить рано или поздно. Дух его, в бессмертии которого он был твёрдо уверен, рвался наружу, рвался из оков земного тела на свободу, к новой жизни. Что было хорошо здесь, на земле? Любовь его? Но он знал, что она не умрёт. И вот это освобождение, эта воля так были близки от него; казалось, он мог уже получить их, – и вдруг его вернули к прежней земной жизни, где снова являлись Рабутин, зависть, сплетни и неминуемые, всасывающие в своё течение человеческую волю, обстоятельства.
Конечно, умереть было лучше. Да и что значит у м е р е т ь? Ведь страшно только одно слово, но сама смерть страшна лишь своею таинственностью. Почём знать, может быть, на самом деле рождение гораздо страшнее смерти, а между тем как мы радуемся ему!
«А жена, а сын? – подумал вдруг князь Никита. – Разве я не нужен им?»
И себялюбивое желание смерти показалось ему недобрым и нехорошим. Какое он имел право желать себе одному освобождения, когда его семья оставалась тут?
Кроме того, не бояться смерти не значило ещё заслужить её, заслужить в том виде, в каком желал князь Никита.
Таким образом, он должен был ещё жить и для себя и для своих близких. Должен был вернуться в эту земную жизнь, – пусть вместе с нею возвращалось то безвыходное положение, в которое он был поставлен в день, когда заболел. Болезнь и то время, которое прошло с её начала, разумеется, нисколько не изменили к лучшему, а, напротив, вероятно, ухудшили это положение.
Клевета по-прежнему ходила про княгиню Волконскую, и не было, казалось, способа уничтожить её.
Напрасно выздоравливающий князь Никита переворачивал в мыслях и передумывал на все лады всё тот же вопрос: как быть? Он не находил выхода.
Ни Аграфена Петровна, ни кто-нибудь из окружающих не заговаривал с Волконским ни о чём, что могло бы взволновать его. Сам он, несмотря на то, что постоянно только и думал об одном и том же, тоже не начинал речи с Аграфеной Петровной, может быть, даже потому, что она каждый раз, когда дело касалось хотя бы отдалённого намёка, очень искусно отводила разговор в совершенно другую сторону.
Таким образом, точно сама собою установилась для Никиты Фёдоровича привычка говорить о самых ничтожных пустяках и безмолвно думать свою тревожную думу.
А ведь на самом деле положение было безвыходно. Если даже настоять на том, чтобы Аграфена Петровна не принимала у себя Рабутина, и это не могло помочь, скажут: поссорились, разошлись, что ж такое, это ещё ничего не значит.
Никита Фёдорович оправился уже настолько, что встал с постели. Аграфена Петровна и Миша, довольные и счастливые этим событием, пришли поздравить его, и он при них, улыбаясь и конфузясь, робко сделал первые свои шаги по комнате, нетвёрдо держась на ослабевших ногах.
Блументрост тоже заехал поздравить его и сказал, что теперь будет навещать его только раз в неделю, потому что всё идёт «хорошо».
В следующий свой приезд доктор застал Волконского уже сидящим у открытого окна. Погода была действительно жаркая, но Блументрост счёл своим долгом упрекнуть Никиту Фёдоровича.
– Ну как же так можно!.. Того гляди, сквозняк прохватит; тогда что будет? – начал он, здороваясь.
– Да уж пора, – ответил Волконский совсем твёрдым голосом.
Блументрост оглядел его.
– Что ж, вы уже совсем поправились? – сказал он, и уже не тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора с больными, точно будто с детьми, ласково-снисходительно, но совсем просто, как с р а в н ы м, то есть оправившимся и вышедшим из его повиновения человеком.
– Присядьте, доктор, – пригласил его Никита Фёдорович.
Блументрост был не в кафтане, но в обыкновенном сером оберроке с медными пуговицами, в синих с красными стрелками чулках и башмаках с серебряными пряжками. Видимо, он был свободен и не ехал ни в академию и никуда особенно.
– Хотите кофе? – спросил Волконский, зная пристрастие доктора к этому напитку, который, однако, далеко ещё не всеми был оценён по достоинству.
Но Блументрост отказался даже от кофе.
– Нет, нет, мне сейчас нужно ехать… у меня дело, – сказал он.
– Какое же может быть дело! Полноте, садитесь! – настаивал Никита Фёдорович.
– Вы смотрите на мой оберрок – это ничего не значит. У меня дело такое, что туда можно ехать и так.
– А что, навестить кого-нибудь?
– Нет, на вскрытие трупа Рабутина, – проговорил Блументрост.
– Как Рабутина?! – крикнул Никита Фёдорович, и то удивлённое, испуганное восклицание поразило Блументроста.
Скоропостижная смерть молодого австрийского графа уже два дня была таким из ряда вон выходящим событием в Петербурге, что её знал всякий, и Блументрост никак не мог думать, что от совсем выздоровевшего Никиты Фёдоровича скрыли это по совершенно особым причинам, из боязни взволновать его именем Рабутина.
Волконский схватился ладонями за ручки кресла, кинулся корпусом вперёд и, вскочив со своего места, испуганными глазами взглянул на Блументроста.
– Что вы сказали, доктор? – произнёс он.
– А вы не знали? – смущаясь, проговорил Блументрост. – Ну, не раскрывайтесь, сядьте! – и он, запахивая халат Никиты Фёдоровича и его рубашку с широкой оборкой, почти насильно посадил его в кресло. – Я не знал, что вам не сообщили ещё. Ну, мне пора!
– Нет, доктор, постойте… погодите! Я не пущу вас, мне нужно знать всё, – произнёс Никита Фёдорович, обдёргиваясь и торопясь.
Блументрост, не подозревая, почему скрыли от Волконского смерть Рабутина, не мог сейчас ни у кого найти себе помощи, потому что Аграфены Петровны не было дома.
Старик Лаврентий стоял тут, видел, что известие доктора произвело на его «князиньку» сильное впечатление, что он вдруг заволновался весь, но тоже ничего не знал и не мог помочь.
– Зачем же вы его будете вскрывать? – спросил Волконский и нетерпеливо забарабанил по подоконнику пальцами, впившись глазами в Блументроста.
Доктор подумал с минуту.
– Скоропостижная смерть, – проговорил он наконец, видя, что отступление невозможно. – А человек важный, нужно дать знать австрийскому двору подробные причины…
– И когда же это случилось? – снова спросил Волконский.
– Третьего дня вечером… Он был у Марфы Петровны Долгоруковой… разрыв сердца, должно быть.
– У Марфы Петровны? – медленно роняя каждый слог, проговорил Волконский.
– Да, теперь это – уже не тайна. У Долгоруковой были гости… потом уехали… Никто не видел, как прошёл Рабутин… и вдруг… Теперь только и говорят, что о ней и о графе.
Князь Никита облокотился на спинку кресла и закрыл глаза. Безвыходное положение кончилось. Неразрешимый вопрос получил решение сам собою.
– Всё к лучшему! – тихо, про себя, сказал Никита Фёдорович и, открыв глаза, удивлённо посмотрел на Блументроста, точно не ожидал видеть его пред собою.
– Выпейте воды, – сказал между тем доктор, подавая стакан.
Волконский отстранил воду и твёрдым голосом сказал:
– Не надо!
Аграфена Петровна давно уже приехала домой, но не велела говорить о себе мужу. Она, вся взволнованная, ходила по своему кабинету, стараясь прийти в себя, чтобы потом подняться к князю Никите совсем спокойною и не подать ему вида своей тревоги. Она только что узнала, что в доме Рабутина, сейчас после его смерти, был произведён обыск и захвачена переписка графа, между которою было много и её писем, очень серьёзных. Вместе с этою перепиской и она сама, Аграфена Петровна, попадала в руки Меншикова.
Наконец она подошла к зеркалу, огляделась, оправилась ещё раз и решилась идти наверх. На лестнице она встретилась с Блументростом.
– Ничего, ничего, – поспешно ответил доктор и, точно виноватый, проскользнул вниз, сказав, что торопится.
– Аграфенушка, – встретил князь Никита жену, – а ты мне не сказала, что Рабутин…
Аграфена Петровна не дала ему договорить. Она не ожидала этого, и всё её старательно подготовленное мнимое спокойствие исчезло в один миг.
– Не надо, не надо об этом! – заговорила она.
– Да отчего же не надо? – спросил Волконский.
Княгиня знала мужа. Она видела, что он заметил выступившее у неё волнение и что нужно сейчас объяснить причину его, иначе он может снова забеспокоиться, не волнуется ли она п о т е р е ю Рабутина, как человека, который хоть сколько-нибудь был дорог ей, а настоящую причину своего волнения она боялась сказать, потому что это могло ещё хуже испугать больного.
– Потому что смерть Рабутина выводит нас из затруднений и как-то неловко говорить об этом, – догадалась она солгать, и князь Никита успокоился.








