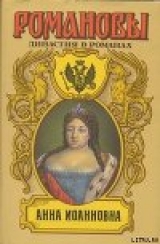
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 55 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою».
Плач Иеремии, III, 58.
I
ПРОШЛОЕ
Четырнадцать лет тому назад была отпразднована свадьба Волконских. Князь Никита, женившись на своей милой и любимой Аграфене Петровне, остался в Митаве; он с царского соизволения был освобождён от дальнейшего путешествия за границу и поступил на службу в канцелярию своего тестя Петра Михайловича. Ответственное положение Бестужева в Курляндии требовало очень хитрой деятельности и большого искусства. Русскому резиденту приходилось бороться с несколькими враждебными течениями, чтобы иметь преобладающее влияние на своей стороне. И Пётр Михайлович боролся не без успеха. Дело было, видимо, важное, сложное, оно касалось жизни самостоятельного маленького государства, по всем признакам находившегося почти накануне своего присоединения к единому из трёх более сильных, чем оно, соседей, и весь вопрос заключался в том, кто окажется победителем: Россия ли, к царствующему дому которой принадлежала вдовствующая герцогиня Анна; Польша ли, считавшая Курляндию своим ленным владением[8]8
В средневековой Европе леном назывались земли (или доходы с этих земель), пожалованные сеньором своему вассалу, обязанному за это нести военную и придворную службы, вносить установленные обычаем платежи.
[Закрыть], или Пруссия?
У князя Никиты через год после свадьбы родился сын Миша.
Волконский был счастлив своею жизнью и ничего не желал больше. Он обожал Аграфену Петровну и сына, они были с ним, и весь мир, вся суть его жизни сосредоточивалась в этих двух существах, и вне их ничего не существовало для Никиты Фёдоровича.
Для вышедшей замуж Аграфены Петровны внешняя жизнь в Митаве сначала мало изменилась. Но вскоре она не могла не заметить, что из дочери первого в Курляндии лица она стала просто женою молодого человека – правда, русского князя, но не сумевшего приобрести никакого значения в том обществе, где они находились, и упорно удалявшегося от этого общества. Это чувствовалось, и она знала, что многие понимают это. К тому же её отец сблизился с герцогиней, и почва прежнего положения в Митаве уходила из-под её ног. Муж её не хотел служить в канцелярии, и с этим она согласилась, хотя у неё были совершенно иные причины, чем у князя Никиты: митавская канцелярия казалась слишком незначительным местом для того, чтобы выдвинуться, служа там.
Аграфена Петровна любила мужа и из частых разговоров с ним видела, что с его способностями можно пойти далеко; она часто думала о будущем, по-своему, с надеждами на это будущее, ожидая, что оно придёт ещё радостней и лучше и что судьба вечно будет улыбаться ей, как улыбалась до сих пор.
Малолетство сына привлекло её к ребёнку, и она стала заниматься им, проводя время дома. Это были самые счастливые дни для князя Никиты. Но Аграфена Петровна жила, кроме настоящего, ещё мечтая о будущем, и думала о Петербурге, о большом дворе, о значении, которое может иметь со временем Никита Фёдорович.
Она чаще стала заговаривать с ним о новой русской столице, звала его в Петербург, требовала от него работы и деятельности, говорила, что так жить нельзя, и приводила в пример своих братьев, которые занимали уже видные посольские места.
Никита Фёдорович старался объяснить ей свой особенный план жизни, в котором на первом плане стояло воспитание сына и затем усовершенствование. Он был уверен, что, сокращая свои желания и расходы на себя, он может отдавать излишек другим, и ради этих же других, чтобы по мере своих сил принести им возможно больше пользы, занялся медициной и с упорством и терпением стал изучать эту науку.
Аграфена Петровна никак не могла согласиться, что «воспитание» сына может составить какое-то особенное «дело». Ей казалось, и это было так обыкновенно и просто, что мальчик вырастет под их присмотром, они научат его чему следует, и всё это будет незаметно, само собою, и говорить об этом с т а к о й важностью вовсе не следует. Относительно расходов для других Аграфена Петровна возражала мужу, что их достаток вовсе не так велик, чтобы можно было делать это, и что у него есть жена и ребёнок, о которых он должен думать и заботиться. Узнав о медицине, она сначала очень испугалась. Она находила, что быть лекарем вовсе не княжеское дело, даже неприлично для её мужа; но когда Никита Фёдорович пояснил ей, что и не думает стать лекарем, врачующим за деньги, а хочет именно помогать только ближнему по мере сил, – она успокоилась и всё-таки не увидела в мужниной медицине «серьёзного дела», хотя не была против этих занятий, которые казались ей так, между прочим, не липшими, но и не особенно нужными. В её глазах настоящее было всё-таки в канцелярии, и она звала его на службу в Петербург.
Аграфена Петровна была убеждена, что в ней говорит только желание блага, что при всей своей любви к мужу она не может поверить в его рассуждения и что т а к, как она хочет, будет лучше, и сам Никита Фёдорович увидит это впоследствии. Но Волконский стоял на своём, то есть продолжал быть по-прежнему ласковым и милым, но никогда сам не заводил разговоров о Петербурге, когда же Аграфена Петровна заговаривала об этом – начинал по-своему убеждать её, и ей становилось неприятно и боязно.
«Да что он в самом деле? – думала она. – Он считает меня глупее, неразумнее себя, вот что… Разве я, наконец, не могу понимать, что лучше и что хуже? Время идёт, а мы здесь, в глуши (теперь, когда она была княгиней Волконской, Митава казалась ей глушью), ничего не делаем, живём, не зная зачем, а время проходит, лучшее время!»
Она зажмуривала глаза и представляла себе Петербург большим богатым городом, где всё великолепно и где можно было выделиться и стоило поработать над этим.
Такие минуты стали чаще и чаще находить на неё, когда она оставалась одна со своими мыслями, и, наконец, стали переходить в какое-то томительное состояние гнетущей тоски, от которой нельзя было найти себе места.
«Что с нею? – спрашивал себя князь Никита, видя холодный, „не живой“ для него взгляд, которым она иногда так зло и гордо смотрела на него в последнее время. – Не больна ли она?»
Он попробовал спросить Аграфену Петровну: не нездоровится ли ей. Она рассердилась.
– Я здорова! Терпеть не могу, когда меня спрашивают так – всегда что-нибудь случится потом! – ответила она, в упор, не улыбаясь, смотря на него. – И что за охота думать, что все больны?
Она знала, что намекает этим на занятия мужа медициной, что это будет неприятно ему, но ей именно хотелось сделать ему больно.
Никита Фёдорович взглянул на неё, как-то страдальчески улыбаясь, и эта улыбка ещё более рассердила Аграфену Петровну.
«Он смеётся надо мной!» – решила она. И вдруг ни с того ни с сего наговорила мужу самых обидных слов, самых обидных вещей, которые, она знала, будут ему особенно неприятны.
После этого разговора Никита Фёдорович несколько дней ходил задумчивый и почти не занимался своими книгами.
Аграфена Петровна первая пришла к нему просить прощения. Она чувствовала себя виновною пред мужем за то, что оскорбила его, но вместе с тем ей, виноватой, казалось, что теперь Никита Фёдорович был более чем когда-либо не прав пред нею, за свои мысли и поступки.
Они помирились. Однако князь Никита видел, что душевное состояние жены не изменилось после примирения, задумчивость не исчезла с его лица, и он не вернулся к своим книгам. Он теперь подолгу шагал из комнаты в комнату, не спеша, не торопясь, и часто заходил к сыну, играл с ним и был особенно ласков и нежен.
– Ты точно п р е д о т ъ е з д о м прощаешься с домом, – заметила Аграфена Петровна.
Она опять была в своём состоянии угнетения.
Волконский, не ответив, только внимательно посмотрел на неё, и она видела, что он понял, что она хотела сказать вместо «пред отъездом» – «пред смертью», но удержалась.
В конце концов князь Никита уступил жене. Однако, сидя за обедом, он после долгого молчания сказал, как бы думая вслух:
– Если бы ты знала только, что мы теряем, что мы теряем!
На другой же день начались сборы, а через две недели Волконские уехали в Петербург.
Аграфена Петровна ожила, точно всё прежнее вернулось к ней, и сборы в дорогу, сама дорога, несмотря на все её неудобства, приезд в столицу, разочарование ею, как городом, ещё неустроенным и далеко не столь пышным, как воображала Аграфена Петровна, встреча с родными, знакомства, – всё это прошло, как счастливое сновидение.
Волконский будто сам оживился, словно теперь и он был согласен, что так действительно будет лучше.
IIВ ПЕТЕРБУРГЕ
Не стало императора Петра, и Меншиков при помощи гвардии возвёл на престол его супругу Екатерину. На российском троне в первый раз появилась женщина, сделавшаяся самодержавною государыней. Конечно, это было крупное событие и об исторической важности его впоследствии было и, вероятно, будет ещё много написано; однако оно вовсе не имело такого значения для современников, на глазах которых произошло тогда. Никто не заботился о том, будет ли продолжено начатое Петром дело преобразования, или со смертью его умрёт всё сделанное им, как следствие одной его личной воли, или напротив, будет развиваться, как нечто такое, к чему Россия уже давно была подготовлена и лишь ждала, чтобы стать на тот путь, куда вывел её великий император.
Для людей; бывших свидетелями этого события, неминуемо смешивались личные их мелкие интересы с тем, что происходило и что имело историческое значение. Главным образом тут важно было для них, как именно сами они попадут под поднявшуюся волну – захлестнёт ли она их или поможет выплыть, общая же форма волны осталась, разумеется, для них незаметною. Ясно стало, что значение Меншикова, сильного при Петре, теперь ещё увеличится, и он, счастливый баловень судьбы, пробившийся из неизвестности, будет, безусловно, первенствующим лицом.
Старинные русские роды, в числе которых стояли Голицыны и Долгоруковые, оказались недовольными. Также много было недовольных и среди чиновников, которых Меншиков, занятый главным образом войском, забыл или обошёл. Недовольные, соединяясь, мало-помалу стали кристаллизироваться в кружки, и из них образовалась партия великого князя Петра, десятилетнего сына царевича Алексея Петровича.
Имя царевича с его несчастною судьбою и упорным, молчаливым противодействием новшествам отца явилось теперь как бы знаменем противного Меншикову лагеря и делало великого князя лицом, с которым невольно соединялись надежды недовольных. К тому же великий князь, как единственный потомок мужского пола из всего царского рода, имел гораздо более прав на корону, чем Екатерина, и все понимали, что женщина пока только устранила ребёнка от престола, но что настанет время, когда этот ребёнок вырастет.
Для Волконских всё это произошло наряду с хлопотами об устройстве их дома, который они строили себе на Васильевском острове (императорским указом было запрещено нанимать помещения). Князь Никита всё сделал для жены: переехал на житьё в столицу, отделал там дом, несмотря даже на то, что для этого пришлось войти в долги, но не хотел изменить свои привычки и по-прежнему остался нелюдимым, несообщительным, хотя дал княгине Аграфене полную свободу поступать, как ей заблагорассудится.
Умная, отлично образованная и владевшая несколькими языками, княгиня скоро собрала в своей гостиной целый кружок, в котором своими людьми стали бывать у неё Черкасов, кабинет-секретарь, сенатор Нелединский, Веселовский, Пашков, Егор Иванович, советник военной коллегия, и Абрам Петрович Ганнибал, известный приближённый покойного государя, его любимец арап.
Княгиня сразу сумела поставить себя в Петербурге и не потерялась там.
Сначала она не сразу могла определить, чего ей следовало, собственно, добиться и кого держаться, но вскоре положение выяснилось само собою.
Великий князь – ещё ребёнок; нужно здесь заручиться и медленно, но прочно строить своё здание. Рано или поздно он взойдёт на престол, и об этом-то времени нужно думать и рассчитывать на него. Сестра великого князя Наталья Алексеевна не только дружна с братом, но имеет огромное влияние на него: вот путь, который доведёт к желанной цели.
И Аграфена Петровна окружила себя людьми, противными Меншикову, и сделалась центром пока ещё небольшого кружка, собиравшегося в её гостиной. Вскоре в этой гостиной появился Маврин, воспитатель великого князя.
Апрель 1726 года был беспокойным месяцем в Петербурге. Две недели не собирался уже Верховный тайный совет, государыня была встревожена подмётными письмами, и по городу снова ходил слух, впрочем, уже не раз напрасно возникавший, но тем не менее всегда производивший впечатление, о том, что князь Михаил Михайлович Голицын двинулся на Петербург со своею украинскою армиею.
Как всегда, когда людям что-нибудь очень хочется, они охотно придают веру и значение всему, что мало-мальски соответствует их желаниям, так и теперь многие в Петербурге думали, что они накануне великих событий, и высчитывали по пальцам шансы борьбы.
– Извольте вспомнить, – кричал Веселовский в гостиной Аграфены Петровны, – кто у н и х есть?.. Толстой граф – хорошо, Апраксин – ну, генерал-адмирал, да ведь стар, стар до того, что всё равно что ничего; и остаются Меншиков да герцог Голштинский.
– А ведь какую волю герцог-то взял – и в совете сидит, и через него всё идёт, – вставила Волконская.
– Что поделаете, княгиня? – отвечал ей, разводя руками, Нелединский. – Он – муж старшей дочки её величества; не станете же спорить с ним! – и он насмешливо улыбнулся.
– Да сам Меншиков уже предупредил вас, – возразил Веселовский, как будто на самом деле-то они собирались уже спорить с герцогом. – Он не может простить ему предательство в совете.
– Так, значит, у них уже пошли размолвки в середе? – заметил Нелединский, снова улыбаясь.
– В том-то и дело, – подхватил Веселовский, не замечая, что тот умышленно упомянул середу, потому что Тайный совет собирался обыкновенно по середам.
Но Аграфена Петровна поняла и улыбнулась.
Ганнибал сидел по своему обыкновению в углу, на своём излюбленном месте, с крепко стиснутыми на груди руками, и молчал, изредка лишь вставляя свои замечания.
– Ну, а Феофан, – сказал он, – этот поневоле будет на их стороне. Великий князь ему не простит «Правду воли Монаршей».
– Что, что?.. Феофан? – опять загорячился Веселовский. – А дело Маркелла? Нынче Маркелл обвиняет его в Преображенской канцелярии. Нет, он не страшен!
– Гвардия, гвардия страшна! – как бы про себя проговорил Черкасов, ходивший по комнате с серьёзным лицом и опустив голову.
Но для Веселовского, видимо, не существовало никаких препятствий.
– А украинская армия? – воскликнул он. – Князь Михаил Михайлович двинулся, и уж на этот раз оно верно.
– Да, кажется, что двинулся, – подтвердил Нелединский, – пора ему…
Аграфена Петровна, довольная, что в её доме идёт как следует серьёзный разговор, сидела, удобно прислонившись к спинке дивана, и, одобряя улыбкой гостей, играла веером, который, по принятой ещё в Митаве моде, был весь покрыт автографами выдающихся лиц.
– Абрам Петрович, – обратилась она к Ганнибалу, – вы должны мне тоже написать на веере что-нибудь.
– Если вы меня признаете достойным, – ответил с поклоном арап и улыбнулся своими белыми, ровными зубами.
Абрам Петрович был очень нужный для Волконской человек, так как он, преподавая, по поручению государыни, математические науки великому князю, считался в числе его наставников и близких к нему лиц.
В это время лакей доложил о приходе Пашкова.
Пашков вошёл в гостиную, как свой человек, и, поздоровавшись, с улыбкой подал Аграфене Петровне грязный клочок грубой бумаги, сложенной в виде письма.
– Это что? – спросила княгиня, отстраняясь и брезгливо поднимая руки.
– Должно быть, подмётное письмо, – объяснил Пашков. – Я его у вас на крыльце нашёл.
– Вот нашли, куда подкидывать письма! – засмеялся Веселовский.
– Ах, это, должно быть, очень интересно! – сказала Аграфена Петровна, всё-таки не касаясь письма. – Прочтите же скорее!
Пашков развернул бумагу и стал читать:
«Известие детям Российским о приближающейся погибели Российскому государству, как при Годунове над царевичем Дмитрием учинено: понеже князь Меншиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство Российское князя Голштынского. О, горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы!»
– А ведь ловко составлено! – заключил Пашков. – На народ может подействовать.
– Любопытно, кто этим занимается? – спросил Черкасов. – Видно, что человек не простой.
Пашков смял письмо и, подойдя к печке, бросил его туда.
– А вы знаете новость? – спросил он, поворачиваясь на каблуке и захлопнув заслонку. – Рабутин приехал.
Граф Рабутин, которого уже несколько времени со дня на день ждали в Петербурге, был посол Карла VI, императора римско-немецкого.
Глаза Аграфены Петровны заблестели, и лицо оживилось.
– Так что ж вы молчите до сих пор и не скажете? – заговорила она, придвигаясь к столу. – Когда он приехал? Откуда вы знаете это, кто вам сказал?
– Сам видел, сейчас, едучи к вам. Дом ему приготовили у Мошкова; проезжаю – вижу, зелёная карета стоит; гайдуки, кучера – тоже в зелень с белым одеты; ничего, красиво. Спросил, кто приехал, – говорят: Рабутин… вещи его вынимали.
– И много вещей? – осведомился Веселовский.
– Да, изрядно.
Аграфена Петровна задумалась с торжественной улыбкой на губах.
– Прие-хал! – протянула она.
– А отчего вы так интересуетесь им, княгиня? – спросил Пашков. – Я не знал, а то бы поспешил сообщить первым делом…
– Да как же не интересоваться? – наперерыв всем крикнул Веселовский. – Ведь Пётр Алексеевич, со стороны своей матери, – родной племянник австрийской императрицы, – значит, Рабутин будет на стороне великого князя, а ведь это – сила!
– Хорошо бы с ним знакомство свести поближе, – заметил Нелединский.
– Что ж, это можно, я думаю, вот через Абрама Петровича или Маврина, – проговорил Черкасов, снова заходивший по комнате.
– Можно ещё легче и проще, – сказала Аграфена Петровна. – В первый же раз, как Рабутин будет у меня вечером, я приглашаю вас к себе…
Черкасов приостановился; остальные, как бы удивлённые неожиданностью, посмотрели на княгиню, и она наивно оглядела их, точно говоря:
«Ну да, Рабутин будет у меня, и тут нет ничего удивительного».
На другой же день весть о приезде Рабутина разнеслась по всему городу и отодвинула на второй план все остальные толки.
Городские рассказы и пересуды следили уже почти за каждым шагом австрийского посла. Казалось, узнали всю подноготную: каков он собою, сколько у него платья, слуг как он держит себя – и все отзывы были благоприятны. Впрочем, одного не могли узнать – самое главное – зачем явился Рабутин в Петербурге?
В придворных кружках говорили, как будто под секретом, но на самом деле желая, чтобы оно стало гласным, что австрийский посол приехал для заключения договора её величества с его царским величеством относительно турецких и иных дел, общих для обоих государств. Но этого было мало. У нас был свой представитель в Вене – Логинский: отчего он не мог заключить договор?
Стали следить за Рабутиным, к кому он поедет и с кем сведёт знакомство.
Рабутин, тотчас по своём приезде, был принят государыней частным образом, прежде торжественной аудиенции. Затем он был у великого князя и его сестры, потом объехал важных персон в Петербурге, безразлично, к какой бы партии они ни принадлежали, но у Меншикова был наравне с другими, не выделив его из числа прочих.
У крыльца дома княгини Волконской тоже видели зелёную карету австрийского посла.
Князь Никита, переселясь в угоду жене в Петербург, невзлюбил этого города, тонувшего, как ему казалось, в болотах. Он так и не мог отделаться от того ужасного, тяжёлого впечатления, которое произвели на него, – когда они подъезжали по топкой, глубоко засасывавшей колёса, дороге к Петербургу, – обезображенные тлением трупы лошадей, валявшихся по сторонам этой дороги. Дождливая, мрачная, сырая петербургская весна всегда оказывала на него удручающее действие. Приближения этого времени он ждал с внутренним безотчётным страхом. Он знал, что весна не обойдётся для него без страшных головных болей, которые аккуратно повторялись у него и мучили, точно какие-то твёрдые подушки неумолимо сдавливали ему виски и затылок.
Волконскому, который страдал теперь этими своими головными болями, было не до Рабутина и не до его приезда. Он уже недели полторы не выходил из своей комнаты, где сидел, поджав ноги, на диване, в халате и с обвязанной тёплым платком, наподобие чалмы, головою – единственным средством, которое помогало ему.
Аграфена Петровна привыкла к головным болям мужа, знала, что они пройдут, что ему нужно только отсидеться со своим платком на голове, и не беспокоилась. Она часто заходила к нему и спрашивала, не нужно ли чего. Никита Фёдорович – если это было во время приступа боли – обыкновенно махал рукою, чтобы она ушла, или – когда ему было легче – делал односложные вопросы, и княгиня садилась и рассказывала ему.
– Ты знаешь, – заговорила она в один из таких промежутков, – к нам сюда приехал австрийский посланник Рабутин. Он нужен мне… и очень даже нужен, – добавила она, запинаясь.
Волконский, боясь пошевельнуть голову, показал глазами, что понимает это и на всё согласен. На самом же деле ему было решительно всё равно.
– Ну, так вот, – продолжала Аграфена Петровна, – он уже был у меня утром, и мне нужно сделать для него вечер, пригласить своих – это необходимо.
Она остановилась и вопросительно посмотрела на мужа.
Он, не двигаясь, молчал, глазами только спрашивая: «в чём же дело?»
– Да я не знаю, к а к т е б е? Тебя это не обеспокоит? Впрочем, ведь мы будем далеко от тебя, в гостиной, и тебе ничего не будет слышно.
– Ах, пожалуйста, что ж мне!… пожалуйста! – с трудом выговорил Волконский и, почувствовав от движения ртом приступ боли в голове, закрыл глаза и болезненно сморщил щёки.
– Что, опять? – тихим, соболезнующим шёпотом спросила жена.
Он только махнул рукою и застонал.
Аграфена Петровна осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты.
Вечер княгини в честь Рабутина удался как нельзя лучше и был вполне блестящим. Съехалось почти пол-Петербурга, и в городе забеспокоились и заговорили о том, что могло быть общего между Аграфеной Петровной и Рабутиным, который, видимо, относился к ней очень внимательно. Мало того, после вечера он продолжал уже запросто посещать княгиню, и больной Никита Фёдорович, на свой обычный вопрос жене, кто был у неё сегодня, чаще и чаще стал получать ответ: «Граф Рабутин!» – так что, когда наконец Волконский отсиделся от своей болезни и вышел из комнаты, этот австрийский посланник, о котором он слышал то и дело, был уже и ему интересен.
– Познакомь же меня с твоим Рабутиным, – сказал он жене, к её удивлению, потому что очень редко интересовался теми, кто бывал у неё.
И в первый раз, как приехал Рабутин, она послала доложить об этом мужу.
Никита Фёдорович почему-то составил себе понятие о графе Рабутине, как о семейном человеке, приехавшем с важным поручением, гордом и смотрящим несколько свысока, но умном и бывалом, с которым, может быть, будет интересно поговорить.
Из всей «компании» своей жены он любил беседовать только с Ганнибалом да имел некоторые сношения с Веселовским, который через своего брата, проживавшего в Лондоне, доставал князю кой-какие книги.
Однако, войдя в гостиную Аграфены Петровны, он увидел, что настоящий Рабутин вовсе не похож с виду на того Рабутина, каким он его представлял себе. Это был молодой человек, стройный и изящный, с красивыми, нежными чертами лица и изысканными манерами. Он так ловко встал и поклонился, так ловко сидел на нём белый гродетуровый французский кафтан с зелёными отворотами и так красиво на его белом шёлковом камзоле лежала зелёная орденская лента, что князь Никита невольно смутился и почувствовал, что отвык от общества этих блестящих светских людей, и пожалел, зачем ему захотелось знакомиться с Рабутиным.
Граф, поклонившись Волконскому особенно вежливо, причём, однако, было ясно, что он кланяется таким образом не именно Волконскому, а просто потому, что привык так кланяться всем без исключения, – сел довольно развязно в кресло и, обратившись к Аграфене Петровне, продолжал начатый с нею разговор о своих впечатлениях в Петербурге.
Рабутин говорил по-французски с несколько худо скрываемым немецким акцентом и неправильностями, но живо и остроумно. Волконский заметил, что Рабутин знает, что его разговор жив и остроумен, и как будто сам слушает себя. Это ему не понравилось. Не понравилась также князю Никите та учтиво-приличная развязность, с которою граф, поджав ноги в шёлковых, ловко обхватывавших его красивые икры чулках, и как-то свободно держа треугольную шляпу с пышным пером, смотрел прямо в глаза Аграфене Петровне, в эти милые, дорогие для князя Никиты глаза, светившиеся до сих пор для него лишь одного счастливою улыбкой. Видимо было, что Рабутин привык смотреть так на всех хорошеньких женщин и, собственно говоря, никто не мог бы придраться к нему за это, но Никите Фёдоровичу неприятно было, как смел этот красивый, чужой, Бог знает, зачем приехавший молодой человек относиться к е г о Аграфене Петровне, как ко всякой хорошенькой женщине.
Волконский знал, что она была хороша и что лучше её не было на свете; но при чём же тут Рабутин и какое дело ему до всего этого? А между тем этот Рабутин смеялся, разговаривал, шутил и был очень доволен собою, как будто всё, что он делал, было очень хорошо и необходимо и доставляло неизъяснимое удовольствие Аграфене Петровне.
Никита Фёдорович постарался поймать её взгляд, но она не смотрела в его сторону. Правда, она ни разу не взглянула и на Рабутина, но Волконскому уже казалось, что она нарочно делает это в смущении, хотя он знал, что если бы она посмотрела теперь на Рабутина, – он, Никита Фёдорович, не ответил бы за себя.
Недавние головные боли были тому причиной, или просто Волконский отвык от этого обращения молодых людей, но только он чувствовал, что ему нестерпимо противен изящный Рабутин с его лентой и зелёными икрами, и что он не может оставаться дольше в этой гостиной, но вместе с тем и ни за что не уйдёт из неё, ни за что не оставит и х одних.
Он сидел, стиснув зубы и зло уставившись на Рабутина, который несколько раз заговаривал с ним, но каждый раз получал такой односложный ответ, что перестал обращаться к князю Никите.
Волконская видела состояние мужа и боялась, чтобы он не наговорил Рабутину дерзостей.
– Что с тобою? – проговорила она наконец, когда её гость, раскланявшись, уехал.
Князь Никита только теперь, оставшись один с женою и видя её по-прежнему милое лицо, пришёл в себя и опомнился.
– Ничего! – ответил он, проведя рукой по голове. – Ничего… только я к этому Рабутину никогда больше не выйду.
С этого дня Волконский каждый раз, как узнавал, что у его жены был Рабутин, болезненно морщился и не расспрашивал о нём.
Частые посещения молодого, красивого иностранного графа в доме Волконской неминуемо должны были подать повод к перешёптыванью в петербургских гостиных, и мало-помалу начала создаваться сплетня.
Рабутин принадлежал к числу тех дипломатов, которые, благодаря данным им от природы средствам, не только составляют через женщин свою собственную карьеру, но и устраивают многие дела, порученные их ведению. Рабутин по этой части давно приобрёл и выдержку и опыт.
Правда, сплетня, ещё глухо ходившая из уст в уста в виде догадок, не могла дойти до Никиты Фёдоровича. Но появление Рабутина уже принесло в сердце Волконского каплю горечи, которую он напрасно старался заглушить. Он предчувствовал и знал, что стремления жены не могут торжествовать над его правдой, которая отвергала эти стремления, и хотел, чтобы она собственным опытом убедилась в этом, и не боялся до сих пор за своё счастье; но теперь вдруг, когда он увидел этого графа, в его душе шевельнулось чувство, похожее на страх, и он впервые ощутил раздражение и недовольство затеями жены, которые сам же и допустил. Разумеется, нечего было и думать идти назад. Но прежде ему не приходило в голову вмешиваться в дела жены, он просто ждал развязки, уверенный в том, какова она будет, а теперь он уже не мог отогнать от себя беспокойную мысль о том, в чём, собственно, заключаются эти «дела». Конечно, он верил в свою Аграфену Петровну, иначе нельзя было бы жить, и всё-таки это глупое беспокойство мучило его. Но как узнать и как заговорить с нею?
А Рабутин продолжал бывать. Аграфена Петровна писала ему записки и отправляла при его посредстве какие-то письма. Она каждый вечер подолгу сидела у своего стола и исписывала большие листы бумаги. Она стала казаться рассеянною, беспокойною, нетерпеливою, ожидала каких-то известий, много выезжала из дома, не пропускала ни одного мало-мальски выдающегося собрания в Петербурге и несколько раз ездила во дворец к великой княжне Наталии Алексеевне.
Наконец Волконский застал жену такою, какою никогда не видел её без себя, – т а к о ю она бывала в лучшие минуты их счастья! Она сидела вся сияющая, радостная, и бесконечно счастливая улыбка была на её лице. Она блестящими глазами точно впилась в письмо, которое держала в руках, ничего не слышала кругом и не видела.
Князь Никита близко подошёл к ней; она вздрогнула и быстро спрятала письмо.
Много раз Никита Фёдорович заставал её за чтением своей корреспонденции, но никогда она не пугалась так, никогда у неё не бывало этого счастливого лица и никогда она не прятала писем.
– Покажи мне письмо! – вдруг проговорил Никита Фёдорович.
Аграфена Петровна засмеялась каким-то мелким, н е с в о и м, неприятным для князя Никиты смехом и, отстранившись от мужа, как кошка, вырвалась от него и ушла к себе в спальню.
Волконский стоял, точно кто-нибудь неожиданно больно ударил его и исчез.
Что это было за письмо, откуда?.. И письмо ли это было? А может быть, просто записка, но от кого? Не от Рабутина же?








