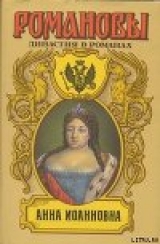
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 55 страниц)
– Виноват, – подхватил Зуда, несколько смущённый, – может быть, я так создан… переменить себя не могу… но скажу опять, что не понимаю, к чему всё это ведёт. Когда вы готовились на подвиг освобождения отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнению этого подвига? А теперь…
– Собою одним, да! А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими.
– Разве отказом государыне, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей, и вашей супруги?
– Хотя бы и так, не сделаю подлого дела! И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за своекорыстное угождение? Кто поручится, что Бирон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеётся достойным образом над подлым двоеженцем? Мудрено ль? (Видишь, какой оборот взяло дело: я нужен не для государства, а к случаю!..) Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на Божий свет? Как умирать мне будет?.. Теперь, по крайней мере, буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и за то останется мне признательным. Сколько дозволяло мне моё слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакою целью. Если я и совратился с должного пути, то да судит меня Бог! Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение моё свято. Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдём ещё способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы.
Этим кончилась беседа. Зуда решился прибегнуть ещё к одному средству: письмом объяснить княжне Лелемико затруднительное положение, в каком находился человек, ей столько драгоценный. Любовь изобретательна: не придумает ли чего к спасению его?
Несколько времени спустя принесли Волынскому письмо
– От кого? – спросил он слугу.
– От барыни, – отвечал этот.
– Где ж она?
– У его превосходительства, братца своего.
– Письмо из дому брата? Должно быть, чрезвычайное! – сказал встревоженный Волынский, распечатав письмо нетвёрдою рукой.
Первое, что бросилось ему в глаза, было собственное его послание к Мариорице. Будто ножом полоснуло его по сердцу.
Он догадывался об истине, и одна догадка приводила его в ужас. Немалого подвига стоило ему прочесть письмо жены.
– По делам вору мука! – воскликнул он, изорвав то и другое в клочки. – Но… баба шалит! Есть мера всему!.. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости?.. Этого слишком много! Этого не будет!.. После уверений моих, после доказательств страстной любви и клятвы она должна была не раскрывать прошлого, не дотрагиваться до этой опасной струны. Что ж она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьём отыскивает их следы. И где ж наводит справку о поведении мужа?.. У бывшей своей барской барыни, у сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую и плевать гадко!.. Дойти до такого унижения, Боже мой! Отныне я сам не хочу её знать… Что за жена!.. Пускай себе живёт на здоровье у своего братца, да распускает басни о муже, да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы!.. Нет, Мариорица на её месте не то бы сделала… О! это душа возвышенная, не рядовая! Да много ли Мариориц на свете? И я пожертвовал ею!.. Неблагодарный!.. Но, – прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, – я исполнил долг свой. Не пойду назад. Пускай вина будет не на моей стороне!..
В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лелемико.
«Мне всё известно, – писала она, – всё: и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиною твоего несчастия. В сердце моём отыскала я средства помочь всему… Но я сама должна с тобою переговорить… тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома к стороне набережной, в 12 часов ночи. Теперь никто… не помешает…»
Да! Никто не помешает: её ангела-хранителя уж нет; сумасшедшая мать сидит в яме.
Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме него; он один для неё всё – закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега её бытия, всё, всё.
– О! эта пишет иначе, – сказал Волынский, – буду, непременно буду, хоть назло той…
Глава IXНОЧНОЕ СВИДАНИЕ
О милый! Пусть растает вновь
Моя душа в твоём лобзанье:
Приди, допей мою любовь,
Допей её в моём дыханье,
Прилипну я к твоим устам.
И всё тебе земное счастье,
И всей природы сладострастье
В последнем вздохе передам.
В. Тепляков
Не шути с огнём, обожжёшься.
Пословица
«Зачем долее жить? – думала Мариорица, прочитав письмо от Зуды, – я любила, узнала всё, что в любви и в жизни есть прекрасного… чего мне ждать ещё? Разрушения моего и конца этой любви, не во мне, нет – моя любовь должна перейти со мною и в другой мир, – но в его сердце. Я только помеха его счастию. Если я буду за ним, что принесу ему? Минутные восторги и, может статься, раскаяние, чувство несчастия его жены и младенца – о! это дитя мне так же дорого, как бы оно было моё; оно мне не чужое, дитя моего Артемия! Лучше умереть, и умереть любимою, гордою, счастливою его любовью, с именем невесты, любовницы, друга, унеся с собою память сердца милого человека. Я прикую её к своей могиле восторгами, признательностию, жертвами. Не завиднее ли это, чем жить для того, чтобы вечно тревожить его спокойствие и ждать охлаждения, видеть его неверность, может статься и презрение? Лучше всего умереть теперь, когда все зовут меня прекрасною. Хочу и в гробу лежать достойною его любви, а не сухим, жёлтым остовом, от которого он будет отворачиваться, который поцелует с отвращением».
Так думала Мариорица, решаясь пожертвовать собою для блага Волынского. Находили минуты, в которые ей становилось грустно, холодно от мысли умереть такой молодою, когда существо её только что раскинулось было пышным цветом, когда на устах и груди её млели поцелуи любви, когда сердце нежило так много тёмных и вместе сладких желаний. Но мысль, что ей обязан он будет своим спокойствием, счастием, славою, торжествовала надо всем, уносила её в небо, откуда она смотрела глазами любви неземной на свой земной подвиг. Ей становилось тогда легко, радостно; какой-то дивный восторг согревал её; казалось ей, душа её расправляла огненные крылья, чтобы скорее понестись в это небо и утонуть в нём…
Вот какие способы изберёт она, чтобы исполнить свои замыслы.
Мариорица оставит письмо к государыне, в котором откроет, что она дочь цыганки. Уж и этот подвиг не безделица! Знаю, чего стоит иным просить грамоты на дворянство, то есть объявить, что был некогда недворянином… Каково ж княжне, царской любимице, которую носили на руках, которой улыбка ценилась вместо милости, ей признаться этим самым людям, что она дочь… бродяги! Она, однако ж, сделает это. Для чего ж? Для того, что Волынскому нельзя будет жениться на дочери цыганки, и это самое послужит Волынскому оправданием. Потом Мариорица будет лгать в письме своём… в первый раз в жизни солжёт – будет клеветать на Бирона… Чего не сделает для милого Артемия?.. О! в какие злодеяния не пустилась бы она, если б он был злодей!.. Она скажет в письме к государыне, что герцог знал её низкое происхождение, но сам уговаривал Мариулу не открывать этого никому, а помогать всячески связи дочери с кабинет-министром. Она будет клеветать и на себя: скажет, что ещё до приезда в Петербург была порочна… что она неблагодарная, негодяйка, презренное орудие Бирона, избранное им для погибели его врага; что, взявшись погубить Волынского, невольно полюбила его и потом из любви решилась его спасти, доставив государыне бумагу с доносом на герцога. Мариорица прибавит, что раскаяние, нестерпимые угрызения совести заставили её наконец открыть всё пред тем, как она решилась прекратить недостойную жизнь… Прекрасно! Бирон после этого письма падёт решительно… а Артемий, её милый Артемий будет в милости, в чести, в славе, дитя его не умрёт, жена не посмеет его упрекнуть ни в чём… Но милый, бесценный Артемий её также должен будет знать, что она всё это налгала, наклеветала на себя, что всё это жертва, ему принесённая… Она хочет видеть его в последний раз и доказать, что его одного любила и вечно будет любить. А там… пук его волос у сердца, мысль о нём и снежный саван – какой лучше смерти ждать?… Но, – прибавила она, – нынешний день мой; он должен мне его подарить!
В таком упоении сердечных замыслов послала она к Артемию Петровичу записку, которую мы уж видели; потом приготовила письмо к государыне и, запечатав, положила у себя за зеркалом. Но каким образом Мариорица выполнит своё обещание прийти в назначенный час к ледяному дому? Поверенная её тайн, Груня, больна (ей велено сказаться больной, потому что она не способна к злодеяниям: видно, что власть Бирона имеет ещё во дворце скрытых, но ревностных исполнителей). Груня заменена какою-то дуэньей, которой наружность не предвещает ничего доброго. Свободный выход Мариорице из дворца уладит арапка, приятельница Николая; но можно ли утаить своё ночное путешествие от горничной, спящей за перегородкой её спальни? Чего б ни стоило, надо купить молчание её. Любовь Мариорицы готова и на это унижение: ведь эта жертва последняя! После смерти её пускай говорят что хотят, лишь бы милый Артемий знал её тем, чем она есть! Неосторожная!.. Время быть осторожной!.. Открывается… С радостью, которой изученное притворство непонятно для неопытной девушки, отвечают, что готовы помогать во всём такой милой доброй барышне, предлагают услуги бойкие, ловкие, сулящие успех верный. Ничего не требуют, кроме молчания. Тайна запечатлена ужасною клятвою. Всё улажено.
Ожидания двенадцатого часа исполнены душевной тревоги. В этот час всё уляжется во дворце и месяц уйдёт за снежную окрайницу земли. А теперь как всё везде суетится! Назло ей каким ярким светом налился месяц! Как ослепительно вырезывается он на голубом небе! Только по временам струи облачков наводят на него лёгкую ржавчину или рисуются по нём волнистым перламутром. Как пышет свет этого месяца на серебряный мат снегов и преследует по нём малейшие предметы! Где укрыться от этого лазутчика!
«Может быть, – говорит сама с собою Мариорица, сокращая разлуку думами о нём, – может быть, и он смотрит теперь этому безжалостному месяцу в глаза и упрашивает его о том же, о чём я умоляю его. Луч этот, который падает на меня и гнетёт так моё сердце, может статься, проник и в его грудь. Чувствует ли он, что я зову его проститься со мною навсегда – навеки. Боже! Как ужасно это слово!.. Не жалко бы мне покинуть твой мир, где бы его не было, твоё прекрасное солнышко, которое не освещало бы его вместе со мною, блеск двора, алмазы, зависть подруг, почести, которых он не разделял бы со мной – это всё, чем ты, мой Боже! так щедро наделил меня. – Она посмотрела в зеркало, отражавшее всю роскошь её прелестей… – это всё, если б оно не было ему назначено; не жалко бы мне тогда покинуть твой мир; но теперь… когда он в этом мире, расстаться со всем этим… больно, грустно!»
И Мариорица плакала.
«На то была твоя всемогущая воля, – прибавила она, упав на колени и молясь, – я призвана была на землю спасти его своею любовью от бед, уберечь для славы его и счастия других… Да будет твоя воля! Жертва готова».
Потом она вспомнила мать… Ей известно было, что государыня посылала наведаться о цыганке Мариуле: говорили, что бедной лучше, что она уж не кусается… Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Чем же помочь?.. Фатализм увлёк и мать в бездну, где суждено было пасть дочери. Никто уж не поможет, кроме Бога. Его и молит со слезами Мариорица облегчить участь несчастной, столько её любившей. Запиской, которую оставляет при письме к государыне, завещает Мариуле всё своё добро.
Но месяц скрылся за снежный обзор; во дворце всё расходится на покой по отделениям; в коридоре слышна неучтивая зевота гофлакея; скоро двенадцать часов… и с мыслью об этом часе Волынский, один Волынский становится на страже у сердца Мариорицы. Мечты её обняли его и не хотят более покинуть: ей уж так мало осталось времени любить его и думать о нём на земле!.. Она горит вся в ожиданиях роковых минут свидания; щёки её пылают, грудь пожирает ужасное пламя, в устах пересохло… жажда томит её… Она просит пить. Приносят воды… довольно мутной… Поднос в руках служанки дрожит так, что питьё плещет чрез край стакана; помертвелое лицо её что-то страшно подёргивает. Мариорица ничего не замечает; вода выпита разом. Когда ей замечать! На адмиралтействе ударяет двенадцать часов, и всё существо её судорожно потряслось…
Наброшена кое-как на плеча шуба, накинута шапочка набекрень… кто-то стукнул в дверь: это арапка. Идут… по коридорам, худо освещённым или вовсе тёмным, спускаются по узким, истёртым, душным лесенкам, кое-где ощупью, кое-где падают… Скоро ли? Вот сейчас!
И вот они у какой-то двери: ключ щёлкнул, дверь вздохнула. Мариорица дышит свежим, холодным воздухом; она на дворцовой набережной. Неподалёку, в темноте, слабо рисуется высокая фигура… Ближе к ней. Обменялись вопросами и ответами: «Ты?» – «Я!» – и Мариорица пала на грудь Артемия Петровича. Долго были они безмолвны; он целовал её, но это были не прежние поцелуи, в которых горела безумная любовь, – с ними лились теперь на лицо её горячие слёзы раскаяния.
– До чего довёл я тебя, несчастную! – сказал он наконец.
– О! Не говори мне про несчастия, – возразила она, увлекая его далее. – Чего недостаёт мне теперь? Я с тобою… Вот видишь, как я обезумела от своего счастия… мне столько было тебе сказать, и я всё забыла. Постой немного… дай насмотреться на тебя, пока глаза могут ещё различать твои черты; дай мне налюбоваться тобою, может быть, в последний раз…
Они остановились. Мариорица схватила его руку, жала её в своих руках, у своего сердца, силилась пламенными взорами прорезать темноту, чтобы вглядеться в Артемия Петровича и удержать милые ей черты.
– В последний раз? – спросил он с горестным участием. – Отчего так?
– Нам должно расстаться! – отвечала она.
Он не возражал, но с нежностью поцеловал её руку. Молчание его говорило: нам должно расстаться!
– Ну, если б я умерла, поплакал ли бы ты обо мне?
– Что это значит?.. Объяснись…
– Надо ж когда-нибудь умереть… не ныне, завтра… когда-нибудь…
– Милая! Не мучь меня, ради Бога… Что за ужасные мысли, что за намерения? Скажи мне.
Догадываясь по трепету его рук, по сильному биению сердца, ударявшего в её грудь, что мысль об её смерти встревожила Артемия Петровича, довольная этими знаками любви, она старалась успокоить его:
– Нет, милый, нет, я пошутила… я буду жить, но такая жизнь всё равно что смерть… нам надо расстаться для твоего счастия, для твоего спокойствия. Однако ж пойдём далее; здесь могут нас заметить… Видишь, как я стала осторожна!
Они пошли далее.
На этот раз Волынский дал было обет сохранить себя от всех искушений; но ласки Мариорицы были так нежны, так жарки, что обеты его понемногу распадались…
Надо было иметь силу остановиться на первом шагу, объяснить свои намерения, как друзья проститься, но… они пошли далее.
Каким исступлённым восторгом пылала она, жрица любви возвышенной и вместе жертва самоотвержения!.. Не земным наслаждениям продавала она себя, Мариорица сожигала себя на священном костре…
Любовники остановились у дверей ледяного дома. Чудное это здание, уж заброшенное, кое-где распадалось; стража не охраняла его; двери сломанные лежали грудою. Ветер, проникая в разбитые окна, нашёптывал какую-то волшебную таинственность. Будто духи овладели этим ледяным дворцом. Два ряда елей с ветвями, густо опушёнными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра, с пышным страусовым панашом на головах.
Волынский стал у порога и не шёл далее. Святое чувство заглянуло ещё раз в его душу.
– Что ж?.. – сказала она, увлекая его, как исступлённая вакханка.
– Если переступим порог, мы погибли, – отвечал он.
– Дитя!.. Ты боишься любви моей?.. Не погубить, спасти тебя хочу; но вместе хочу, чтобы ты меня знал…
Этим упрёком всё святое опрокинулось в душе его. Пристыженный, он схватил её в свои объятия и понёс сладкое бремя…
– О милый! – сказала она, крепко обвив его своими руками, – наконец ты мой, на этот час ты мой; не отдам тебя никому, приди хоть сам Бог!.. Для этого часа я послана провидением на землю, для него я жила… в нём моё прошедшее и будущее…
Дворец в своей чёрной мантии уже приподнимался пред ними. Они прощались, долго прощались… Лицо Волынского было мокро от слёз Мариорицы; сердце его разрывалось.
Они расстались было, но опять воротились друг к другу. Ещё один длинный, томительный поцелуй… он проводил её до дворца. Ещё один… губы её были холодны как лёд; она шаталась… Дверь отворилась, дверь вечности… Мариорица едва имела силы махнуть ему рукой… и исчезла.
Он ещё долго стоял на одном месте, погружённый в ужасное предчувствие.
Несчастный! Ты увидишь её – разве там, где мёртвые встают!..
– Не покидай меня, – сказала Мариорица, стиснув руку арапке, отворившей ей потаённую дверь, – у меня ножи в груди… режут её… Но счастие моё было так велико!.. Я всё преодолела… победа за мной!.. Теперь нет сил терпеть… Понимаю… ад… Как я им благодарна!.. Они… за меня сами всё исполнили… избавили меня от самоубийства… Господи! Как ты милостив!
Испуганная арапка с трудом дотащила её до её комнаты. Было в ней темно. Служанка спала или притворялась спящею. Мариорица не велела будить её, не велела зажигать свеч. Сильные конвульсии перебирали её; по временам слышен был скрежет зубов, но она старалась, сколько могла, поглотить в себе ужасные муки.
– Какие страдания! – говорила она, не пуская от себя арапку, – но всё это пройдёт сейчас!.. Вот уж и прошло!.. Как хорошо!.. Ах, милая! Кабы ты знала, какая прекрасная ночь!.. На мне горят ещё его поцелуи… Какое блаженство умереть так!.. Завтра ты скажешь ему, что я умерла счастлива, как нельзя счастливее, как нельзя лучше; прибавь, что никто не будет любить его, как я… О! он меня не забудет… он оценит, что я для него сделала… Сыщи за зеркалом письмо, отдай государыне, но только тогда, когда меня не станет… поклянись, что отдашь… В этом письме его счастие…
И арапка, не зная, что делает, клялась, обливаясь слезами.
– Ох! Боже, Боже мой!.. Что-то у меня в груди… Ничего, ничего, – произнесла она тише, уцепясь за рукав арапки, – это пройдёт скоро… Слышишь ли? Скажи ему, что посреди самых жестоких мук… милый образ его был передо мною… пойдёт со мной… что имя его… на губах… в сердце… ох! Милый… Артемий… прости… Арт…
Конец этого слова договорила она в вечности.
Бренная храмина опустела; дух, оглашавший её гимнами любви и пропевший последний высокий стих этой любви, отлетел… Арапка держала уж холодный труп на руках своих. Она вскрикнула, ужасно вскрикнула, так что стены задребезжали.
– Что такое? Что такое? – спросила вскочившая с постели служанка.
– Княжна… умерла, – могла только сказать арапка.
– Княжна умирает, – повторила служанка, выскочив в коридор, и этот возглас раздался по дворцу и дошёл осторожно, шёпотом, до изголовья государыни.
Призваны были искуснейшие лекари, употребляли всё, чтобы… Но мёртвые не воскресают. С трудом оттащили Анну Иоанновну от трупа любимицы её.
Когда этот труп клали в гроб, на груди её, у сердца, лежал венком чёрный локон… Ни одна злодейская рука не посягнула на него; он пошёл с нею в гроб.
Небо услышало твои молитвы, прекрасное, высокое создание! Ты умерла в лучшие минуты своей жизни; ты отлетела на небо с венком любви, ещё не измятым, ещё вполне сохранившим своё благоухание!..
Глава XПОХОРОНЫ
Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла…
О друг! я всё земное совершила,
Я на земле любила и жила!
Жуковский
Поутру, чтобы не тревожить государыни близостью мертвеца, вынесли княжну Лелемико в церковь Исакия Далматского.
Выносы были великолепные.
Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанновна видела раз, как она кашляла с кровью; по разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Вспомнили теперь, будто профессор физики и вместе придворный астролог (Крафт) за несколько дней предсказывал её кончину. Утешались тем, что суженого не избегнешь.
Письмо Мариорицы к государыне не нашлось за зеркалом.
Все в городе знали о смерти княжны; но тому, кто был первою виною её, не смели о ней сказать. Наконец… и он узнал.
Отказываюсь от муки описывать ужасное его состояние. Скажу только, что у него, как у несчастной королевы Марии-Антуанетты, в один день побелели волосы.
Было много посетителей у гроба княжны Лелемико.
Как хорошо лежала она в нём, будто живая! Как шли к ней на её чёрных волосах этот венок из цветов и эта золотая диадема, которою венчают на смертном одре и последнего из людей!..
Видели у этого гроба рыдающую женщину; видели, как она молилась с горячею верою за упокой души усопшей, как она поцеловала и перекрестила её.
Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая её, была жена Волынского.
Видели потом у гроба мужчину… Лицо мертвеца, искажённое страданиями, всклоченные волосы… в мутных, страшных очах ни слезинки! Вид его раздирал душу. Это был сам Волынский. Забыв стыд, мнения людей, всё, он притащился к трупу той, которой лобзания ещё не остыли на нём… Долго лежал он полумёртвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал… от стона его потряслись стены храма, у зрителей встали волосы дыбом… Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями… несколько десятков рук вытащили несчастного… Ему не дали проститься с ней… Может быть, он и не посмел бы!
Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти её; иной хвалил приличие её наряда, другой – узоры парчи, богатство гроба, все превозносили красоту её, которую и смерть не посмела ещё разрушить.
В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы; в её просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству, и её выпустили. Товарищ её, Василий, не отходил от неё. Лишь только почуяла она свежий воздух и свободу, – прямо на Дворцовую площадь. Пришла, осмотрелась… глаза её остановились на дворце и радостно запрыгали.
– Ведь это дворец? – спросила она.
– Ты видишь, – отвечал печально цыган, знавший уже о смерти княжны Лелемико.
– Да, да, помню!.. Тут живёт она, моё дитя, моя Мариорица… Давно не видала её, очень давно! Божье благословение над тобой, моё дитя! Порадуй меня, взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик! Видишь… видишь, у одного окна кто-то двигается… Знать, она, душа моя, смотрит… Она, она! Сердце её почуяло свою мать… Васенька! Ведь она смотрит на меня, говори же…
– Смотрит, – сказал старик, и сердце его поворотилось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слёзы.
– Каково ж, Васенька? Княжна!.. В милости, в любви у государыни!.. Невеста Волынского… Скоро свадьба!.. Каково? Ведь это всё я для тебя, милочка, устроила. Ты грозишь мне, чтобы я не проговорилась… Небось не скажу, что мать твоя цыганка… Да не проговорилась ли я когда, Васенька?..
Она тёрла себе лоб, как будто припоминала себе что-то.
– Нет, никогда.
– То-то и есть!.. Не пережить бы мне этой беды!.. Проговориться?.. Да разве я с ума сошла!.. Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастия… Бог это будет знать да я.
Мариула была счастлива; это счастие горело в чёрных диких глазах её.
Вдруг от Исакия Далматского ветер донёс до слуха её заунывное похоронное пенье.
– Что это? – сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать.
Пенье приближалось.
– Кого-то хоронят… Слава Богу, что не с той стороны… не из дворца несут!..
– Да, не из дворца, – подхватил испуганный цыган. – Мне сказывали, что княжна Лелемико будет ныне в Гостином дворе. Пойдём лучше туда, дожидаться её.
– Пойдём, – отвечала Мариула, крепко схватив его за руку, – может статься, мы там увидим её.
Они отошли к большой прешпективе.
В это время вдали поравнялся с ними розовый гроб, предшествуемый многочисленным синклитом. Мариула остановилась… Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пенью; сердце её шибко билось, синие губы дрожали… Гроб на повороте улицы исчез.
– Слава Богу, что не из дворца! – повторила она; кивнула ещё раза два дворцу ласково, с любовью, как бы говоря: «Божье благословение над этим домом!» – и побежала с товарищем к Гостиному двору искать, смотреть княжну Лелемико…








