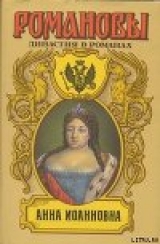
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 55 страниц)
XV
На другой день после курьёзной свадьбы происходило заседание кабинета по вопросу о вознаграждении поляков, будто бы потерпевших от похода русских в последнюю турецкую войну. Обыкновенно кабинет состоял из трёх членов-министров, но с поступлением в кабинет-министры Артемия Петровича Волынского состав его фактически изменился. Под влиянием ли мысли о шляхетском представительстве, о чём так сладко напевал Василий Никитич Татищев; по воспоминанию ли о золотой свободе Речи Посполитой или под более эгоистическим желанием подобрать к себе более конфидентов и усилить свою партию, только в последние годы, для обсуждения государственных вопросов, стали призываться в кабинет выдающиеся из членов сената, президентов коллегий и других влиятельных сановников. В этих случаях кабинет принимал особое название «генерального собрания». Вероятно, этой мерою Волынский надеялся найти себе опору в борьбе с немецкою партиею и достигнуть более широкого обсуждения.
Вопрос о вознаграждении не представлял собою ничего важного, но он получал особенное значение по отношениям тогдашнего политического кружка. Герцог курляндский, обязанный польскому королю лично и по вассальным отношениям своего герцогства, находил требования Польши совершенно законными и справедливыми. Этот взгляд разделял граф Остерман и почти все влиятельные лица, может быть, под влиянием ловких убеждений приехавшего в Петербург именно с этим поручением польского посла Огинского. Противного мнения держался только один кабинет-министр Волынский, без всякой поддержки. Гордый и самолюбивый, он не искал заранее голосов, он верил в себя, в силу своего слова… но дело доказало, что не в одном слове решающая сила.
Прения о вознаграждении продолжались недолго; тотчас же по прочтении секретарём кабинета ходатайства польского посла стали высказываться единогласные мнения о справедливости требования и необходимости его удовлетворить. Артемий Петрович вспыхнул. В пылкой импровизации он сказал блестящую речь, в которой изобразил рельефную картину отношений России и Польши, постоянного недоброжелательства последней, двуличного её положения во всё время войны с Турциею, доказывал громадное преувеличение требований, в чём сослался и на показания комиссаров, исследовавших на месте убытки, и, наконец, заключил воззванием к патриотическому чувству своих коллег. Как ни искусна была речь, но она не могла изменить заранее подготовленного решения.
Составился протокол об исполнении требования Польши, за подписью всех членов, кроме Волынского, написавшего тут же своё особое мнение, с резким заключением: «Один только вассал Польши может согласиться на вознаграждение, но никто из русских, для которых дороги честь и польза своего отечества, не даст на это своего согласия». Оставалось только утвердить протокол подписью императрицы, к которой с докладом поручено было идти кабинет-секретарю Эйхлеру.
Выбрав докладчиком Эйхлера. заведомого приверженца Бирона и бывшего его секретаря, кабинет был уверен в несомненном успехе.
Эйхлер встретил императрицу в том крайнем упадке сил, который почти всегда следует или за сильным нервным возбуждением, или за чрезмерным физическим усилием. Государыня, несмотря на усталость прошедшего дня, а может быть, именно вследствие этой усталости, не могла заснуть ночью. Не только она не освежилась укрепляющим сном, а напротив, ещё более изнемогла от беспрерывно обрывающейся тяжёлой дремоты, полной туманных, быстро меняющихся образов. С тупою головою и вся разбитая, встала она в обыкновенный свой утренний час, машинально исполнила утренние занятия, прочла обыкновенные молитвы и теперь, в определённый час доклада, бессознательно ждала прихода своего кабинет-секретаря. В наружности её ясно проступили такие резкие черты, которые могли бы внушить тревогу в близких ей людях, если бы эти люди способны были видеть что-нибудь, кроме своих личных маленьких интересов. В смуглый, но прежде свежий и здоровый цвет лица проник неопределённый серо-бурый оттенок, щёки отвисли, обострившийся нос принял ещё большие размеры, опустившиеся углы рта, от глубоко прорезавшихся по сторонам его морщин, выдавали тяжёлое страдание; глаза почти постоянно меняли своё выражение, то блестя лихорадочным огнём, то тускнея и как будто уходя внутрь за какою-то затаённою мыслью.
Запрокинув голову и закрыв глаза, полулежала императрица в глубоком кресле перед письменным столом, беспомощно опустив руки на колени и протянув ноги на толстую бархатную подушку. На полу с одной стороны сидела любимая шутиха и тихонько тёрла ей ноги, а с другой – лежала любимая собачка императрицы Цытринька.
Дежурный камер-паж доложил о приходе кабинет-секретаря. Государыня подняла голову, лениво протянув Эйхлеру руку для всеподданнейшего лобзания.
– Заседание кончилось, ваше величество, – доложил Эйхлер, заметив немой вопрос в глазах императрицы.
– Чем решили?
– Решено удовлетворить требование Польши. Имею честь представить вашему величеству протокол для утверждения.
– Прочти.
Кабинет-секретарь прочитал весь доклад и затем, с особенным ударением, мнение кабинет-министра Волынского.
Государыня, безучастно выслушавшая весь доклад, видимо оживилась при резких словах протеста.
– Артемий Петрович высказался слишком резко, – заговорила императрица, – но я сочувствую ему. Меня удивляет, почему прочие господа члены так благосклонны к польскому королю?
– На это есть особые резоны, ваше величество…
– Какие же?
Эйхлер как будто и не решался говорить.
– Какие же резоны? – повторила государыня несколько раздражительно, – говори мне всё… всё… да только одну правду.
Тогда Эйхлер откровенно высказал, почему герцог курляндский принимает участие в делах вознаграждения, высказал о всём вредном влиянии герцога в управлении, хотя он, не имея никакого официального положения, по-видимому, не вмешивался в государственные дела, и рассказал, до какой степени все члены покорны голосу герцога. Затем, перейдя к характеристике Волынского, Эйхлер крупными чертами представил его блестящие способности, высокий государственный ум и горячую преданность интересам отечества.
Государыня не прерывала кабинет-секретаря, но казалась удивлённою. С недоверчивостью вглядывалась она в это, теперь оживлённое лицо Эйхлера, обыкновенно холодное и сдержанное.
– Оставь доклад у меня, а сам будь покоен… я тебя не выдам. Спасибо за правду, – проговорила императрица громко и потом чуть слышно прошептала: – Обман… Обман… везде обман… Да, позови ко мне эту ветреницу Дуньку, куда это она убежала, – приказала Анна Ивановна вслед уходившему кабинет-секретарю.
А между тем эта ветреница Дунька, внимательно выслушав весь разговор, успела незаметно выскользнуть из кабинета и передать мужу Педрилле обо всём, для передачи его светлости.
Как бы ни был самонадеян и уверен в своей силе герцог Бирон, но изменившиеся его отношения к государыне за последнее время начали его сильно беспокоить. Бывали и прежде размолвки, выражались иногда и прежде неудовольствия, но эти размолвки обыкновенно продолжались недолго и оканчивались ещё большим подчинением его влиянию, с ещё сильнейшим самоуничижением. Но теперь не простая размолвка, теперь место его занимается другим, и если этот другой укрепится, тогда дело его светлости будет бесповоротно проиграно. Герцог понимал, что без милости государыни он лично – ничто, что его герцогство – миф, мыльный пузырь, не защита ни от далёкого путешествия, ни от плахи. Назойливые мысли, одна другой непривлекательнее, не давали ему покоя ни днём, ни ночью и заметно помяли его благодушное чело. Одно ещё ободряло его – это уверенность в неспособности русских пользоваться обстоятельствами. «Русский, – рассуждал он, – варвар и глуп до такой степени, что не может сообразить своей выгоды. Волынский чисто русский – глуп, как и все. Он не способен вести дела тихо, мирно, шаг за шагом, постепенно водворяться в расположение государыни и осторожно укрепляться в новой позиции. Нет, как русский, он взбалмошно, очертя голову, лезет вперёд, ворвётся, а потом, когда нужно тонко вычислить свою игру, сложит руки и не заметит, как другой тихонько возьмёт у него карты из рук и воспользуется его выигрышем. Простой русский и умеет только жаловаться на судьбу».
Не лично Волынский страшен герцогу, а страшно то, что может явиться мысль о непрочности его влияния и о возможности найтись новым искателем, конечно, не из русских.
– Пора уничтожить Волынского, стереть его с лица земли, – повторял герцог, бегая по своему роскошному кабинету и обкусывая ногти в то утро, когда происходило собрание кабинета. – Но как? где способы и средства? Слухи о бунтовщичьих ночных сборищах конфидентов в доме Волынского так и остались только слухами, распущенными моими же усердными агентами тайной канцелярии… Э, чёрт возьми, не стоит и думать, причину всегда найдёшь, лишь бы помириться с императрицею, – высказал он громко.
– Ваше высочество ожидают в приёмной, – доложил, входя, дежурный камер-паж.
– К чёрту их! – накинулся герцог на пажа, – не сметь о них докладывать! Пусть ждут.
Вслед за уходом дежурного из внутренних дверей вошёл домашний секретарь герцога с карликом.
– К вашему высочеству Педрилла, с весьма важным известием.
И шут подробно рассказал всё, что передала шутиха императрицы о докладе Эйхлера по делу о вознаграждении поляков.
Руки опустились у герцога, и он тихо, как-то беспомощно упал в кресло.
– Во-о-т как! – только и проговорил он упавшим голосом, махнув рукою секретарю и шуту на дверь. – Что же теперь будет? Опала? Пожалуй, казнят? Ведь и не посмотрят на владетельного герцога и на мои заслуги? А? – спрашивал себя герцог.
Переход от надежды, почти уверенности, к полному отчаянию был крут, как и вообще у людей, не одушевлённых богатой внутренней силою, а герцог, пробивавшийся изо дня в день одним самоуслаждением, одними эгоистическими вопросами дня, не хотел, да и не мог понимать никакой другой мысли, кроме мысли о себе.
И долго просидел бы он с неподвижным взглядом на блестящую выпуклую поверхность золотого глобуса, исправляющего должность хранителя чернил, в состоянии, близком к столбняку, в котором человек живёт физическою силою, но не владеет сознанием и не в силах выжать никакой мысли, если бы снова вошедший камер-паж не доложил о приезде Александра Борисовича Куракина.
Герцог не особенно благоволил к Куракину, считал его почти шутом, но теперь неожиданный приезд придворного бонмотиста, заведомого врага кабинет-министра Волынского, показался ему помощью, ниспосланною свыше. Наскоро сделав усилие придать своей физиономии приличное спокойствие, он, с вежливостью, небывалою при прежних визитах, встал с кресла и с особенною приветливостью встретил гостя.
Вошёл Александр Борисович, улыбаясь до ушей, во всю ширину своих жирных губ, как улыбался он всегда и как, вероятно, улыбался бы, если бы ему дали подписывать смертный приговор родному брату или сестре.
– Рад видеть вас, любезнейший Александр Борисович, здоровым после вчерашнего праздника. Понравилось вам?
– Помилуйте, ваше высочество, может ли понравиться! какой-то дьявольский шабаш… грязь… вонь… никакой грации и изящества. Чуть нас всех не переморозили.
– Однако нашлись же, которым и понравилось. Сама императрица благосклонно…
– Удалось вовремя угодить вкусу государыни, ваше высочество, и больше ничего. Её величество изволила отнестись милостливо, это поощрит и погубит его. Если он осмеливается бить людей в покоях владетельных особ, то теперь, пожалуй, доберётся и до самих …
– Как бить? – растерянно спросил герцог.
– Несколько дней назад он в покоях вашего высочества собственноручно палкою избил до полусмерти, и кого же? человека благородного, адъюнкта академии наук, с которым удостаивает говорить сама императрица. Ведь это оскорбление величества, ваше высочество, ведь за это во всех образованных государствах назначается смертная казнь. Я сейчас был у графа вице-канцлера, и он совершенно согласен со мною…
– Да… да… конечно, смертная казнь, – одобрительно повторял герцог.
– Да и остановится ли он на этом, при своей непомерной дерзости? Разве не сошло ему с рук доношение его императрице, его ругательства и клеветы на нашего достойного вице-канцлера и других высоких особ, которых все почитают? Разве не оскорбление величества учить государыню, как малого, несмышлёного ребёнка? Что же ему остаётся после этого, как не бить нас всех, безнаказанно, как простой подлый народ…
– О, нет, поверьте, это не пройдёт ему даром. Я открою глаза государыне, и мы посмотрим ещё…
Герцог курляндский ободрился и повеселел. Средство найдено и самое действительное, так как оно уязвляет самолюбие верховной власти, щекотливое тем более, что с ним соединено и самолюбие женщины.
Куракин уехал, а герцог занялся более обыкновенного тщательно своим туалетом, собираясь к императрице. «Посмотрим, – повторял он про себя, – не затянется ли теперь верёвка, которую накинул, на господина обер-егермейстера покойный государь».
Озлобленным выходил Артемий Петрович из залы заседания кабинета после своего фиаско. Желчь душила его, поднималась к горлу и оседала на язык противной горечью. Действительно, ужасное положение министра, у которого не нашлось на поддержку ни одного голоса, и притом такого министра, которого красноречие считалось увлекательным, которого государственный ум признавался всеми. «Подкупные… негодяи… хороши государственные советники… гнилое дерево… сволочь… Нет, не в них, а в здоровых соках нужно искать спасительного лекарства…» – ворчал он чуть не вслух, размахивая рукою.
Ругая беспощадно других, почтенный Артемий Петрович забывал, что и сам он несколько лет назад тоже стоял в уровне с этою, как он выражался, сволочью, и что если взгляд его стал шире, разностороннее, цель чище и благороднее, то этим он обязан был близкому знакомству с Татищевыми, Хрущовыми и Соймоновыми, а ещё более с видными произведениями иностранной политической литературы.
По естественному желанию развлечься от неприятного впечатления, а может быть и просто по привычке, сделанной в последнее время, Артемий Петрович прямо из совета отправился к принцессе Анне Леопольдовне, у которой всегда находил радушный приём и свежие новости.
Принц и принцесса Брауншвейгские – неистощимый источник для придворных сплетен и злоречий – жили своей особой, неприглядной жизнью, наполненной по-прежнему ежедневными домашними ссорами. Около них сновалась паутина шпионства и доносов, но сами они оставались чужды интригам. Не в природе их было строить козни. Горячих приверженцев и конфидентов у них не было, всякий сторонился, зная, как подозрительно смотрит на молодую чету всемогущий герцог курляндский. Решались выказывать им подобающее уважение только фельдмаршал Миних, ещё не решивший окончательно, к какой партии ему примкнуть, да кабинет-министр Волынский.
– Довольны ли, ваше высочество, вчерашнею курьёзной свадьбою? – спросил Артемий Петрович Анну Леопольдовну» целуя, сообразно с этикетом, протянутую ему ручку и уже без этикета задерживая эту ручку в своей.
– Никогда не любила я, Артемий Петрович, и теперь не люблю большого общества. Оно всегда меня расстраивает, – краснея и осторожно высвобождая свою руку, отвечала принцесса, простодушно не догадываясь вызова кабинет-министра на комплимент.
– Что делать, ваше высочество, я и сам не большой охотник до многочисленных собраний, но такова была воля государыни. Как её здоровье?
– В последние дни она всё грустила и жаловалась.
– Как находит доктор?
– Ничего… обнадёживает, но говорит, что серьёзно… даёт лекарства… да не помогают.
– Зачем государыня не призовёт других?
– Пробовали, да всё то же.
– Однако же вчера она была свежа?
– О, вчера она была так весела, как её давно уже не видали.
– Это добрый знак, милая принцесса, может быть, мы все скоро избавимся от нашего общего кошмара.
– Вы думаете? Нет, Артемий Петрович, отнять у женщины то, чем она живёт, – невозможно, – с грустью проговорила Анна Леопольдовна, – но, впрочем, может быть, ошибаюсь… я такая неопытная, а вы такой великий чародей и сделали так много… только не забудьте, что женщина всегда остаётся женщиною, какое бы светское положение она ни занимала и каких бы лет ни была, – добавила принцесса улыбаясь.
Артемий Петрович, считавший себя знатоком женского сердца, усмехнулся.
– А как, я думаю, вы вчера утомились, – снова начала принцесса, переменяя разговор, – у вас и теперь такой усталый вид!
– Расстроен я, ваше высочество, но не от вчерашней курьёзной свадьбы, а от сегодняшнего заседания кабинета.
И Артемий Петрович живо рассказал всю суть польского вопроса и своё фиаско.
С женской мягкостью, к которой так способны глубоко чувствующие женские натуры, Анна Леопольдовна, эта женщина дико не разговорчивая, но симпатично общительная с теми, с кем освоилась, сумела успокоить раздражение кабинет-министра.
Расспросив обо всём, что нужно было узнать об отношениях герцога курляндского, Артемий Петрович, уже собиравшийся откланяться, вспомнил о принце.
– Он ушёл со своим адъютантом не знаю куда, – и молодая женщина отмахнула рукою.
У подъезда дворца Волынского встретил сияющий Эйхлер.
– Поздравляю с победою, полною победою! – весело говорил тот.
– С победою? Докладывал государыне?
– Докладывал, и она полностью согласна с вами.
– Что? Как? Почему? – заторопил Волынский.
– Так-таки просто и сказала: «Согласна с Артемием Петровичем». О подробностях доклада Эйхлер умолчал.
– А герцог?
– Не при чём. Положение его пошатнулось, сумейте только воспользоваться… А вы опять были у Брауншвейгских?
– Был. Мне необходимо для будущего…
Эйхлер покачал головою.
– Да… но это будущее когда-то будет… а между тем в настоящем вы ставите себя в опасное положение. Фаворит, если удержится, увидит в вас такого врага, с которым необходимо разделаться решительно…
– Не боюсь я теперь фаворита… – и кабинет-министр самодовольно поднял голову.
XVI
Известно, что во всём обширном русском государстве невозможно встретить ни одного аптекаря из русских; много Шмитов, Эгерсов, разных Гауеров и Бауеров, но ни одного Попова, Алексеева или Иванова. А если спросить каждого, даже добросовестного или, что ещё реже, добродушно расположенного к русским немца-аптекаря, отчего между его учениками не имеется ни одного русского – что было бы даже для него и выгоднее, – то каждый такой бюргер только закивает от ужаса головою, с полнейшим убеждением в невозможности такого скандального факта. Странно, но бюргер прав, русская природа лишена отметин и мерок. Русский человек совершенно не может всю жизнь разделять граны, драхмы, скрупулы и унции, он или смешает все эти аптекарские единицы, или перепутает все склянки со специями. Всё взвешивать и всё измерять не роднится с русским авось и с широким русским пошибом.
Артемий Петрович после курьёзной свадьбы поднял голову высоко и гордо. Ему представлялось, что Бирон уничтожен, пал, а лежачего бить не приходится. И он забыл совершенно о нём. Не считая нужным далее обеспечивать своё придворное положение, постоянно поддерживать милостивое расположение государыни, он страстно отдался своим любимым занятиям, к которым его тянули просветившийся ум и отзывчивое сердце. Работы было много. Русское общество, включая в него и простой «подлый» народ, болело и скорбело; из его глубоких язв неустанно сочилась кровь.
Артемий Петрович, усердно занимаясь текущими делами, в то же время мечтал всё исцелить, всё умиротворить своим генеральным проектом. Он работал, не жалея здоровья. Его генеральный проект постепенно полнел новыми вставками, остроумными примечаниями, сближениями и объяснениями. Кстати и время подошло к тому самое удобное. После празднеств по случаю курьёзной свадьбы, заключения мира с Турцией и русской масленицы наступил великий пост – время тихое, назначенное к покаянному самосозерцанию, когда, как бывало прежде всегда на Руси, закрывались все общественные увеселения. При дворе не назначалось ни машкарадов, ни раутов: императрица, как истинная православная, строго сохраняла всю обрядовую сторону.
При общем затишье, не развлекаемом никем и ничем, конфиденты Артемия Петровича, после стояния на молитвенных церковных служениях, стали чаще ездить по вечерам в его дом, где занимались вопросами о благе ближнего. Всех интересовал генеральный проект, от которого ожидали громадной государственной пользы. Друзья менялись мыслями, разбирали, спорили и чувствовали себя безмятежно счастливыми. Даже чуткий к положению политической сферы Эйхлер старался подавить в себе тревожные сомнения и не так часто надоедал Артемию Петровичу напоминаниями.
А между тем туча надвигалась всё ближе и ближе…
Анна Ивановна великим постом почти вовсе не принимала докладов от своих кабинет-министров, но, согласно установившемуся обычаю, продолжала принимать своего обер-камергера Бирона, посещения которого во время празднеств бывали отрывисты и холодны. Однако же вскоре после курьёзной свадьбы общий тон отношений государыни и фаворита постепенно стали изменяться, как изменился и сам герцог. Вместо прежнего резкого, придирчивого, с оттенком грубого пренебрежения обращения Бирона явились деликатность и желание, даже в самых мелочах, быть угодливым; он опять сделался прежним старым другом, таким же, каким бывал в Митаве, во дворце герцогини курляндской. В самой наружности герцога замечалась перемена: туалет сделался более тщателен, выбор цветов и материй кафтанов бывал именно тот, который прежде удостаивался одобрения государыни; снова появились те неуловимые оттенки выражения чувства, которые так ценятся и так дороги. В сущности, глубокое чувство Анны Ивановны к своему обер-камергеру всё ещё длилось, помимо воли её самой. В тех годах, которые переживались теперь императрицею, засевшие чувства гнездятся прочно, а новые впечатления не могут быть живы и восприимчивы. Кроме того, весь характер государыни, весь внутренний склад её духа всегда был проникнут какой-то особенной цепкостью к прошлому. Правда, нестерпимые для женщины оскорбления, раны, наносимые её самолюбию, заставлявшие её страдать до физической боли, как казалось даже ей самой, окончательно отвратили её от старого любимца и совершенно исцелили её. Под влиянием оскорблений Анна Ивановна и стала прислушиваться к новым речам, стала вглядываться в новый образ с привлекательною наружностью и с блестящим дарованием, способный возбудить воображение, готовое к восприятию новых впечатлений. При таких условиях она, конечно, не могла не оценить преданности к себе пылкого и гордого кабинет-министра, резко выделяющегося из всех её окружающих. Новый образ, по-видимому, всецело стал занимать внимание женщины.
Бирон заметил опасность и, как практичный немец, принял своевременные меры. Зная подозрительный и упрямый характер Анны Ивановны, и отлично понимая, что прямая и открытая борьба вдруг, без всякой предварительной подготовки, со своими упавшими шансами, против соперника, более его сильного, была бы для него крайне невыгодна, он стал действовать медленно, скрытно, но верно. При первом своём свидании с государынею, на другой день шутовского праздника, он был внимателен, угодлив, но именно настолько, насколько бывал и прежде при хорошем расположении духа: ни одного слова против Артемия Петровича, ни одной дерзкой выходки, ни одного ругательства, в чём, бывало, так не стеснялся прежде. Напротив того, он даже отдал должную справедливость умению и искусству машкарадной комиссии, хотя, в сущности, выходило так, что исключительная честь отнеслась к членам, а не к самому распорядителю. Государыня осталась очень довольною и благодарною. Она ожидала упрёков, оскорбительных сцен, готовилась к ним, была заранее возбуждена против фаворита, и вдруг вместо всего этого увидела такое спокойное, такое благородное отношение к человеку, который не мог быть ему приятным. Ценность такого отношения в её глазах казалась тем более вескою, что в душе своей она сознавала себя не особенно правою.
На третий и в следующие дни повторилось то же самое. Государыня совсем успокоилась, поздоровела и почувствовала себя бодрее.
С наступлением великого поста заседания кабинета стали реже, а вместе с тем реже и доклады государыне. По большей части с докладами ходил кабинет-секретарь или кто-нибудь из господ кабинет-министров, но в последнее время всегда как-то случалось так, что очередь личного доклада не приходилась на долю Волынского. Артемий Петрович, занятый весь своим проектом и убаюканный самомнением о прочности милости государыни и своей необходимости для государства, не обращал на это внимания.
Прошло пять недель поста, и государыня переставала интересоваться им так живо, как прежде. Замкнутый кружок около неё составляли всё те же лица, к которым она привыкла и которых она любила по привычке. Герцог почти не упоминал о Волынском, поводов к неприятностям не было, и она проводила день за днём, ничего не желая и не гадая о будущем. По-прежнему она забавлялась шутами, шутихами, карлами и карлицами, не замечая, как в песенках их появилось разнообразие прибаутки, остроты и намёки получили особенный тон, с одним направлением. Постепенно, незаметно, всё чаще и чаще, слышались то карикатурная сплетня о Волынском, то остроты об его самохвальстве, то намёки на его бунтовшичьи намерения. Государыня не придавала значения этому повторяющемуся наушничеству, но всё-таки в голове её бессознательно оставались следы. Со своей стороны и Бирон в последнее время, передавая ей ходившие по городу сплетни и слухи, уже несколько раз, с ловкою маскировкою, успел сообщить о каких-то стремлениях кабинет-министра, клонившихся к явному мятежу. Мало того, даже сам вице-канцлер Андрей Иванович, это олицетворение терпения и незлобия, раза два, тоже во время доклада, высказался о неспокойном характере Волынского и о своём несчастном положении, принуждавшем его постоянно выносить грубости и дерзости коллеги.
Незаметно расстилались тенета, которыми ловко опутывалась жертва.
На шестой неделе поста Артемий Петрович, наконец, вспомнил, как долго он не был у государыни, и решил после заседания кабинета проведать её величество.
Имея дозволение входить в кабинет императрицы без предварительного доклада, Артемий Петрович прошёл антикамеру, в которой обыкновенно играли шуты, и подходил уже к дверям кабинета, как здесь дежурный камер-паж сообщил о распоряжении будто бы государыни докладывать о всех желающих ей представиться. «Странно, – подумал кабинет-министр, – новые порядки завелись», но остановился ожидать возвращения камер-пажа.
По антикамере бегали и скакали кавалеры ордена Бенедетто[42]42
Орден Сан-Бенедетто (сб. Бенедикта) был специально учреждён императрицей для придворных шутов. Он носился в петлице на красной ленте и был очень похож на уменьшенный орден св. Александра Невского. Кавалерами ордена Сан-Бенедетто были Педрилло и Лакоста.
[Закрыть], кто с лаем, кто с кваканьем, кто распевая петухом. Оборотившись к ним, Артемий Петрович презрительно осматривал это разношёрстное сборище тунеядцев, которые, увидя его, хором запели: «Волынка! Волынка!» В это же время один из шутов, отделившись из кружка, заблеяв по-козлиному и опустив голову, вдруг бросился на него. Разбежавшись и на бегу прыгнув раза два, шут ударился головою в нижнюю часть камзола Волынского. Артемий Петрович, не ожидавший такой выходки, покачнулся и едва не упал, а на камзоле его появилось жирное широкое пятно с кусками пудры. Взбешённый дерзостью до самозабвения, Артемий Петрович схватил стоявшую подле двери трость и со всего размаха ударил ею шута по лицу. Удар был силён; шут упал с разбитым виском, облитый потоками крови.
– Убил! убил! – завизжала толпа. Поднялся нестерпимый шум и вой, забегали по всем комнатам.
На этот гам из кабинета государыни вышел герцог Бирон с дежурным камер-пажом. Узнав о случившемся, герцог передал приказание пажу, и тот, подойдя к Артемию Петровичу, доложил, что её величество не желает принимать его у себя.
Так и ушёл Артемий Петрович, не видав государыни, но почувствовав первое подёргивание затягиваемой петли.
– Что случилось? – спросила Анна Ивановна входившего в кабинет герцога, встревоженная не только доносившимся шумом, сколько его озабоченным и испуганным лицом.
– Случилось то, ваше величество, что заставляет опасаться за безопасность всех нас и в особенности вас, государыня, даже у себя дома, в своих покоях.
– Да говори же скорей, герцог, что такое? – не на шутку уж беспокоилась императрица.
– Там, в антикамере, у дверей собственного вашего кабинета, господин кабинет-министр и обер-егермейстер Волынский убил одного из ваших слуг, – с иронией высказал, наконец, герцог, подчёркивая каждое слово.
– У-би-л? Кого убил? За что?
– Любимого вашего шута Педриллу, а за что, про то может сказать только сам господин кабинет-министр… Мне говорили, будто Педрилла бежал мимо господина Волынского и нечаянно задел его, а тот в бешенстве накинулся и палкою раздробил голову шуту. Бедный лежит теперь без чувств, весь в крови. Не знаю, поднимется ли?
– Господи, какой ужас! И у меня подле кабинета! Да правда ли это? Не обманули ли тебя, герцог?
Государыня сделала было усилие подняться на ноги, но сильный припадок подагры заставил её снова опуститься.
– В каком положении Педрилла, я видел сам, а на что способен господин Волынский – это мы скоро испытаем сами на себе.
– Мы? Ты, Эрнст, не любишь Артемия Петровича…
– За что мне его любить? Не я ли просил вас за него, когда он был уличён во взятках и грабительствах, не я ли рекомендовал его вам в кабинет-министры? Но он не оправдал моих ожиданий, и я, как верный ваш друг и преданный слуга, считаю обязанностью предостеречь теперь…
– Как кабинет-министр не обманул надежд, Эрнст, его работы по государственным делам… его проекты…
– Его проекты! его проекты! – горячился Бирон. – Есть ли какой-нибудь толк от его проектов? Наговорит он много, закидает словами, а на деле – ничего. Меньше ли крадут они все и он из первых?
– Чего же ты хочешь, Эрнст?
– Я хочу, ваше величество, лично для пользы нашей, чтобы был положен конец его дерзостям, чтоб его судили…
– Да за что же?
– Разве не преступление убивать во дворце, перед глазами государыни?
– Да, может, он был рассержен и вынужден ударить?
– Об этом я не знаю. Да, впрочем, это не первым случай. Недавно, не уважая моего владетельного сана, он точно так же избил адъюнкта академии Тредьяковского ни за что ни про что. Тредьяковского вы сами знаете, государыня, способен ли он вызвать дерзость у кого-нибудь.
– Не знала этого, Эрнст, отчего мне тогда не сказали?
– Вы были так благосклонны к обер-егермейстеру, и я думал… полагал… что всякое моё выражение объяснилось бы иначе…
Государыня, казалось, не слыхала объяснения, обратив всё своё внимание на беспорядок, вдруг оказавшийся на её столе. Она позаботилась переставить чернильницу, подвинуть ближе бумагу и симметричнее уставить свечи по сторонам чернильницы.








