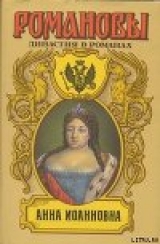
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 55 страниц)
XVIII
Замечательно хитро составилась следственная комиссия над Артемием Петровичем. В числе следователей все люди русские, сановитые: Чернышёв, Ушаков, Румянцев, князья Никита Трубецкой и Василий Репнин, Хрущов, Неплюев, Шипов и – ни одного немца. Исполняя, по-видимому, волю государыни и гарантируя как будто полное беспристрастное отношение к обвиняемому, русскому кабинет-министру, ловкий вице-канцлер с редким искусством подготовил своему сопернику смертельный удар. Странно, но совершенно верно, что самыми неумолимыми врагами бывают свои люди, домашние, что от своего ближнего вообще не бывает пощады, а тем более от русских, у которых при въевшемся рабском уничижении и развращённости высших классов не могло быть ни добросовестности, ни гражданского мужества. Все эти избранные члены ясно сознавали, что они призваны не для изыскания истины, а для преследования всеми возможными и невозможными средствами обвиняемого, понимали, что, только действуй таким образом, они спасали себя и могли рассчитывать на милости и подачки. Будь в комиссии немцы: Левенвольд, Миних или Ласси, тогда, без сомнения, заговорило бы чувство собственного достоинства, не убитого ещё гнётом, и опасение нравственной ответственности, если не перед современниками, то перед потомством, и заставило бы их отнестись к своим обязанностям справедливее и беспристрастнее.
Не так думал, однако же, сам Артемий Петрович. Узнав, что в состав комиссии вошли некоторые из его бывших товарищей по службе: Румянцев, Ушаков и вообще люди высокопоставленные, он ободрился и стал верить в хороший для себя исход. «Да и где же, в самом деле, внешние доказательства к обвинению в тяжком преступлении? – спрашивал он себя чуть ли не каждую минуту. – А о внутренних побуждениях может судить только один Бог».
Утром, в восемь часов, пятнадцатого апреля состоялся первый допрос обвиняемого следственной комиссиею, открывшею свои заседания в Италианском дворце[45]45
Этот дворец, названный Италианским по внешнему виду и внутреннему убранству, выстроен был в 1712 году на левом берегу Фонтанки, на том месте, где ныне Екатерининский институт.
[Закрыть]. Артемий Петрович вошёл в заседание гордо и самоуверенно, не пугаясь важных и холодных лиц следователей. Прочитали вопросные пункты, которые все относились к двум обвинениям – в оскорблении величества побоями пиите и в известном «доношении» государыне. По последнему поводу спрашивалось, кого он именно разумел под именем хитроумных политиков, вводящих в заблуждение государыню. Артемий Петрович не нашёл эти обвинения важными, повеселел и, вместо прямого ответа на пункты, стал говорить, с обычным своим красноречием, о своих заслугах, о своей многотрудной деятельности и побуждениях. Он говорил долго, убедительно и в заключение обратился к следователям кончить дело поскорее.
– Мы заседанию своему время и без вас знаем, а вам надо совесть свою во всём очистить, и для того, придя в чувство, ответствуйте обо всём обстоятельно, – холодно отвечал Румянцев.
Вероятно, генерал Румянцев не забыл ещё затаённой ревности к любимцу Петра Великого до персидского похода, а может быть, считал обвиняемого одним из недостойных фаворитов, погубивших заслуженных ветеранов Голицыных и Долгоруковых. Такое внушение от старого сослуживца, от человека, на сочувствие которого можно было рассчитывать, значительно охолодило самоуверенность Артемия Петровича и ясно показало, чего он мог ожидать от своих бывших товарищей. Обвиняемый оставил камеру уже далеко не с тою надменностью, с какою входил.
На другой день допрос Волынского комиссиею начался объявлением ему именного указа императрицы о том, чтобы с ним на будущее время поступать без всякого послабления. Между строк этого указа не трудно было видеть желание склонить членов к обвинению, помимо оправдательных доводов. И действительно, члены стали относиться к нему ещё суровее, строже и придирчивее. Они требовали теперь на свои вопросы только одних ясных и положительных ответов, без отклонений, имевших целью выставить себя в более выгодном свете. Придирки вызывали и со стороны Артемия Петровича желчное раздражение. На вопрос, кто подразумевался под хитрыми политиками, он упрямо указал на графа Остермана, причём добавил:
– Это такой человек, что без закрытия никому, даже и жене своей, ничего не скажет.
– О чём обращается к жене своей граф Остерман, о том нам и ведать неприлично, – строго заметил ему Неплюев.
– Пожалуйста, оставьте, я ведь знаю, что вы креатура Остермана и со мною были в ссоре, – с раздражением ответил Волынский.
К концу допроса гордость, поддерживавшая до сих пор силы Артемия Петровича, стала ослабевать под влиянием возникшего опасения за будущность своего процесса и невольного ощущения своей беспомощности. С едкою горечью бессилия он закончил свои показания словами:
– Прошу у её императорского величества себе другое назначение, которое готов выполнить с усердием, а в настоящей должности не гожусь.
И потом добавил:
– Писал же я всё от ревности, а теперь вижу в том одно враньё…
С этими словами кончилась его политическая миссия. Кабинет-министр и реформатор умер… остался только Артемий Петрович как человек частный, без значения и политического смысла. Человеку трудно отрешиться от своей мечты, от своей заветной идеи – для этого ему нужно или всеразрушающее время, или неизмеримая доля страдания. И Артемий Петрович много выстрадал в эти последние часы; несмотря на громадное самомнение, он сознал свою политическую немощь, что он один в поле не воин… Дальнейшая судьба его имеет интерес судьбы человека, которого травят, рвут в клочки и, наконец, убивают, натешившись.
Трусливый тон слышится во всех показаниях, данных Волынским на допросах 17 и 18 апреля. В них не было и следа прежней самоуверенности, ни тени гордой речи о своих заслугах; напротив, Артемий Петрович унижается, кланяется, старается заискать расположение, увёртывается, часто повторяется, путается и старается, в то же время, затянуть в своё дело самих следователей, сделать из них как будто своих бывших соучастников. Унижение доходит до того, что он становится на колени и умоляет о милости.
– Делал я по горячности, от злобы и высокоумия, – каялся он и в то же время, отвергая свои прежние показания, говорил: – Беда моя, сам на себя наврал, надеялся на перо, что писать горазд.
Более всего Артемий Петрович старался заискать в Андрее Ивановиче Ушакове, Которого с глубоким принижением спрашивал: «Не прогневал ли чем-нибудь»? Это немудрено. Артемий Петрович знал силу Андрея Ивановича как самого искусного заплечного мастера.
Увёртливость и старание притянуть к ответственности самих следователей, конечно, не могли их на раздражать.
– Всё говоришь плутовски, – резко высказал старший из следователей, генерал Чернышёв, – как и наперёд, по прежним своим делам также не ответствовал и беспамятством отговаривался, но как в плутовстве был изобличён, то и винился.
Эта грубость теперь не раздражала Артемия Петровича и не вызывала с его стороны резкого отпора. Напротив того.
– Не поступай со мной сурово, – молил Волынский, – знаю я, что ты такой же горячий, как и я. Деток имеешь, воздаст Господь детям твоим!
После допроса 18 апреля изменилась система ареста в доме Волынского. По полученному в это число повелению императрицы на имя караульного офицера гвардейского подпоручика Каковинского предписывалось, под угрозою смертной казни, стеснить до крайних пределов свободу Волынского, запрещался доступ к нему не только посторонним, но даже и всем домашним, не исключая и детей; самого арестованного предписывалось запереть в одной комнате, в которой поставить бессменно двух солдат с ружьями, двери в другие половины дома запереть, оконные рамы заколотить, отобрать бумагу, никого посторонних не допускать к нему, за исключением только одного камердинера, с которым, однако же, не дозволять никаких разговоров. Кроме обвиняемого, такой же караул приставлен был к его детям и ко всем домашним людям.
Строгое содержание вызвано было новым оборотом дела. До сих пор все обвинения и допросы по ним касались только оклеветания хитроумных политиков, заключающегося в примечаниях к доношению, и побоях пиите – следовательно, таких преступлений, за которые не могло быть высшего уголовного наказания, но с 18 апреля тактика обвинения приняла более широкие размеры. Началось с того, что всё дело исследования было передано из особой комиссии в тайную канцелярию, на руки Андрея Ивановича, которому придали в помощь тайного советника Неплюева.
Конечно, Андрей Иванович не мог удовлетвориться цветочками, когда его желудок требовал более питательной пищи. Ещё тогда же, тотчас по окончании обыска в доме Волынского, он принялся за допросы советного слуги Василия Кубанца, зная, что с этого поля всегда можно снять какую угодно жатву. На первом допросе, произведённом легко, в виде опыта, Кубанец указал на участие конфидентов Волынского, а в особенности на Хрущова, обращавшегося с доверенным слугою грубо и с пренебрежением. Об этом показании немедленно же было доведено до сведения герцога Бирона, а через два дня состоялось от имени государыни распоряжение насчёт допроса Кубанца о других, сверх известных, преступлениях и противных поступках кабинет-министра и его взяточничестве по службе.
Андрей Иванович вполне обладал искусством пользоваться обстоятельствами и действовать на душу человека именно с той стороны, с какой она была доступна. К Кубанцу он отнёсся иначе, чем к большей части своих клиентов: он не запугивал его с первого же раза угрозами и пытками; напротив того, он ласково доказывал всю невыгоду держаться за бывшего кабинет-министра, которого песенка окончательно спета, и постепенно рисовал награды за показания против бывшего господина. Эта тактика имела полный успех. С 15 апреля начался ряд доносов крещёного татарина, безграмотных, бестолковых, но, тем не менее и именно по этим-то обстоятельствам, особенно важных. Кубанец доносил о ночных собраниях в доме благодетеля, о разных разговорах, об оскорбительных выражениях насчёт императрицы и Бирона, об отношениях господина к фрейлинам Анны Леопольдовны и о его проектах.
Для вящего поощрения Кубанца через несколько дней ему было объявлено от государыни полное прощение, с тем только условием, если им будут высказаны все вины Волынского. Поощрённый этим, Кубанец принялся писать доносы с какою-то лихорадочною деятельностью. Он беспрерывно припоминает новые обстоятельства, рассказывает целые разговоры и отдельные выражения и, наконец, в усердии своём дошёл до того, что объявил готовность рассказать то, о чём только возможно передать лично государыне наедине. Разумеется, от аудиенции с крещёным татарином она уклонилась, но приказала ему написать письмо, запечатать и прислать к ней.
Андрей Иванович очень хорошо понимал, насколько можно верить рассказам татарина, сколько в этих воспоминаниях лжи и клеветы, но ему не правда нужна была, а нужно было придать преступлениям кабинет-министра политический характер.
На основании доносов Кубанца Андрей Иванович начал говорить с Артемием Петровичем суровее, вопросные пункты не ограничиваются, как прежде, «доношением» или побоями пиите, а забираются гораздо далее: спрашивают, с какою целью сочинена родословная дома Волынского, о чём и с каким намерением велись переговоры с фрейлинами Анны Леопольдовны. В конце вопросных пунктов звучит тоже новая струна, грозно указывающая на будущее: «Если по сим пунктам ты именно о всём не покажешь, то с тобою поступлено будет, как с сущим злодеем».
С Артемием Петровичем начинают говорить тем языком, в тоне которого слышится полная безнадёжность на счастливый исход. Да и могло ли быть спасение с того момента, как дело перешло исключительно в руки Андрея Иваныча и когда допросы стали производиться в тайной канцелярии. 23 апреля Артемия Петровича перевезли для заключения в Адмиралтейскую крепость. Тяжело отозвался в нём этот подневольный переезд. Невесело было ему и в своём доме сидеть запертым в одном кабинете, грустные мысли не покидали и там болезненно возбуждённого мозга, но всё-таки этот кабинет с двумя солдатами и вся эта обстановка были для него невыразимо дороги. Жизнью веяло от стен, от мебели, жизнью доносился до его слуха домашний шум, хотя и подавленный. Измученный и нравственно истерзанный, он жадно прислушивался, не отзовётся ли где-нибудь голос его милых детей, и как рад, счастлив он бывал, когда услышит шелест платья старшей дочери, урвавшейся под каким-нибудь предлогом пройти мимо кабинета и обронить ему милое слово.
Описать мучительное чувство, с каким он отрывался от своего дома и переходил в отдельную арестантскую камеру Адмиралтейской крепости, – невозможно. Голые замасленные стены нового помещения, убогая мебель и каменный пол дышали мертвящею форменностью.
Какое значение имело переселение, Артемий Петрович понимал, но это его теперь не пугало. Им овладело отчаяние, какое-то отвращение к жизни, страстное желание как-нибудь скорее с собою покончить. «Но как и где найти средства»? – спрашивал он себя, обводя глазами своё тесное новое помещение. И вот он увидел в углу, в мусорной куче, гвоздь. Не сознавая отчётливо, как и на что пригодится ему этот гвоздь, Артемий Петрович, как кошка, бросился в угол, отыскал гвоздь и спрятал в карман, но и это не удалось. Его порывистое движение обратило на себя внимание стоявшего у двери караульного офицера, и тот тотчас отобрал находку. Душа Артемия Петровича, по собственному его выражению, мутилась.
Два дня только просидел Артемий Петрович в адмиралтействе; в последних числах апреля его перевезли на содержание в Петропавловскую крепость как государственного преступника. В новых допросах, данных ему в петропавловских казематах, ясно выражается обвинение в злодейских замыслах, в намерении изменить существующий порядок правления в государстве; требуются подробности, как возникли, каким образом развивались эти клятвопреступные замыслы, кто именно и в какой мере принимал в них участие, кто составлял проекты и распространял их в широкой публике для привлечения разного чина людей гражданских и военных, с каким намерением сочинилась родословная картина, с каким намерением произносились обвиняемым предерзостные и клятвопреступнические нарекания на персону её величества, какие именно рукописи и книги были уничтожены, когда ему был запрещён приезд ко двору?
На все эти вопросы Артемий Петрович отвечал сбивчиво и спутанно; под ловкими изворотами опытного Андрея Иваныча он то сознавался, то отрекался в одном и том же вопросе. Только в одном он постоянно и настойчиво утверждал – это именно в отрицании злодейских замыслов о ниспровержении существовавшего правления в государстве. В сочинении проектов оправдывался обязанностями своими как кабинет-министра и указал на соучастников в сочинении – Хрущова, Еропкина, Соймонова, Эйхлера и де ла Суда, но отрицал намерение распространять их в публике с укоризною правления для императрицы. Сознался также в предерзостных выражениях лично против Анны Ивановны, но объяснял их своею глупостью, раздражением или горестью, когда замечал в ней к себе немилость. Сознался также в осуждении пристрастия императрицы к иностранцам. Относительно книг и рукописей показал, что сожжено им было во время запрещения приезда ко двору только то, в чём не было нужды; сочинения Макиавелли, Докаллини и Юста Липсия взяты были из библиотеки Дмитрия Михайловича Голицына и что читали их не он один и конфиденты, но и люди посторонние: молодой князь Черкасский, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой и сенатор князь Василий Урусов. Что же касается до сочинения родословной картины, то в этом он отрицал всякое злодейское умышление, объяснив тем, что действительно считал род свой весьма древним, по честолюбию «забрав паче меры ума своего».
Настал май. Весеннее солнце оживило природу, тёплые, ласкающие лучи его заиграли на синих струях быстро катившейся Невы, забирались за железную решётку каземата Артемия Петровича, освещали его истомлённое лицо, но не оживляли надеждою. Напротив, чем ярче становились лучи, чем шумнее журчали воды, разбиваясь о стены тюрьмы, чем чаще и обильнее проникали струи мягкого воздуха в затхлую духоту его каморки, тем досадливее становилось у него на душе. Не жизнь и не радость ему приносила с собою весна, а какое-то озлобление, испытываемое почти всегда теми, у которых на сердце глубокое, непоправимое горе. В моменты воскресения, общего ликования природы, яркие краски режут ещё глубже, ещё сильнее растравляют болезненные раны.
А между тем дни шли за днями, и Андрей Иванович, наблюдавший зорко за нравственным состоянием арестанта, систематически располагал свои допросы. В половине мая он допытывался с новыми вариациями, с какой целью в предисловии генерального проекта, в статье об истории великих государей российских, Иоанн Грозный назван тираном и не упоминались в числе государей Фёдор Алексеевич, Екатерина I и Пётр II? К кому были найденные в бумагах анонимные письма? О чём были разговоры с фрейлиною Анны Леопольдовны? Давал ли неодобрительные отзывы о герцоге курляндском и что разумел он, сравнивая императрицу Анну Ивановну с неаполитанскою королевою Иоанною? В допросах обращались к Волынскому как к клятвопреступнику.
На эти вопросы Артемий Петрович отвечал, что Иоанна розного тираном не называл, а о Фёдоре Алексеевиче, Екатерине I и Петре II не упоминал ради сокращения, без всякого злого умысла, что были ли писаны анонимные письма к кому-нибудь – не помнит; что разговоры с фрейлиною принцессы Анны Леопольдовны, с Варварою Дмитриевною, касались партикулярных дел, именно определения её родственника; что герцога курляндского считал опасным для государства, о чём не раз разговаривал с товарищем своим князем Алексеем Михайловичем Черкасским и с графом Платоном Мусиным-Пушкиным, и что, по предерзости своей, действительно, сравнивал императрицу Анну Ивановну с королевою Иоанною – в чём и винился.
Но Андрей Иванович не унимался и снова через несколько дней спрашивал: с каким намерением Артемий Петрович называл Иоанна Грозного тираном и при этом добавил некоторые новые вопросы о том, какие разговоры были у обвиняемого с конфидентами, в особенности с Еропкиным, о цесаревне Елизавете Петровне и голштинском принце; с каким намерением составил найденную в бумагах Артемия Петровича родословную дома Романовых; с каким намерением говорил с графом Головкиным о престолонаследии после Анны Ивановны; зачем старался распространить сведения о своей родословной и, наконец, имел ли намерение сделаться, посредством возмущения, русским государем?
На этот раз Артемий Петрович сознался в обозвании Иоанна Грозного тираном, но объяснил это тем, что так «противники пишут, а вовсе не для поношения, чего и в мыслях не содержал», сознался в разговорах о престолонаследии после императрицы, но отрицал всякие разговоры с Еропкиным об Елизавете Петровне и голштинском принце, отрицал намерение распространить свою родословную и положительно отрёкся от всякого намерения сделаться государем. Только относительно сочинения родословной дома Романовых ответы Волынского носят на себе тот характер, какой желал им придать Андрей Иванович. Родословная Романовых была сочинена, по сознанию обвиняемого, в виду родства дома Волынского с великою княжною московскою Анною и в виду того, что так как дом Волынского не плоше Романовых, то, по свойству своему, преемниками российского престола могли быть правнуки обвиняемого, в случае пресечения фамилии императорского величества, так же как возведён был на престол Михаил Фёдорович.
21 мая получилось в тайной канцелярии повеление императрицы о пытке Волынского, а на другой день в розыскном застенке состоялась и сама пытка. Перед дыбою Артемия Петровича вновь допросили. На этих допросах он подтвердил прежние свои показания, по-прежнему отрицая разговоры об Елизавете Петровне и голштинском принце, а также и намерение сделаться государем посредством возмущения.
– Однако же это показывают на тебя твои же конфиденты единогласно: Хрущов, Еропкин и Соймонов? – допытывался Андрей Иванович.
– Пускай они при мне о том скажут, – говорил Артемий Петрович и просил поставить их перед ним очи на очи.
Артемия Петровича подняли на дыбу и дали восемь ударов. Пытка продолжалась полчаса, но до того умышленно утягчилась, что, по окончании её, правая рука Волынского оказалась неспособною к движению.
И после пытки он не изменил прежних показаний.
Между тем, одновременно с розыском над Артемием Петровичем, в тайной канцелярии на основании поданных Кубанцем доносов производились допросы конфидентам. Андрей Иванович ликовал, так как следствию было придано столь желаемое им направление: Волынский и его конфиденты сделались государственными преступниками. А доказательства? – в этом отношении он был спокоен… не могут же не найтись среди конфидентов такие, которые под пыткою, если не просто угрозою, не показали бы на себя и на других сколько угодно преступлений!
Вслед за арестом Артемия Петровича начались аресты и конфидентов, сначала только одного Хрущова, на которого главным образом указывал Кубанец, потом Еропкина и Соймонова, и, наконец, Эйхлера, де ла Суда, Гладкова и графа Мусина-Пушкина. Главных конфидентов прежде посадили в Адмиралтейскую крепость, а потом уже перевезли в Петропавловскую; к семействам их поставили караул.
Первым, ещё 18 апреля, допросили Хрущова, но его показания совершенно не удовлетворили Андрея Ивановича. Хрущов рассказал, что он действительно, по знакомству и по родству, часто бывал у Волынского, встречал там по вечерам разнообразную компанию, которая или приятно проводила время за картами, или за разговорами о партикулярных делах и деревенских нуждах. Но потом, на следующих допросах или под пыткою, он дал показания, вполне успокоившие Андрея Ивановича. Он положительно приписал Волынскому намерение через возмущение сделаться государем после смерти Анны Ивановны, а составление картины родословной и распространение в публике сведений о ней называл подготовительной работою.
Соймонов и Еропкин показали, что намерения сделаться государем Волынский не высказывал, но что такое намерение могло быть у него; что если бы он успел в том, то они были бы его сторонниками; что в собраниях читались проекты Волынского и высказывались предерзостные слова об императрице. Кроме того, Еропкин сознался в своём участии по составлению родословной картины, как он выразился, по глупости. На дальнейших допросах Еропкин говорил то же самое, с тем только добавлением, что вспомнил о разговорах с Артемием Петровичем, бывших ещё в Москве, о правах Елизаветы Петровны.
На основании этих-то показаний и состоялся допрос Волынского с пыткою.
После пыточного розыска поставлены были очи на очи: обвиняемый, Хрущов, Еропкин. На этой очной ставке все остались на своих показаниях; только Еропкин упрямо уличал Волынского в московских разговорах насчёт прав Елизаветы Петровны.
– Не помню, – уклонялся Артемий Петрович, – о ком я говорил тогда, но верно не о цесаревне, так как всегда считал её ветреницею.
Полученными результатами Андрей Иванович и помощник его Неплюев остались довольны. Они считали достаточно основательным указание на намерение Волынского совершить государственный переворот в свою пользу, и принялись за исследование вопроса – когда и какими средствами предполагалось провести это преступное намерение в исполнение.
На вопросы следователей по этому поводу все прежде арестованные: Хрущов, Еропкин и Соймонов – отозвались полным незнанием; точно так же показали впоследствии арестованные Эйхлер и де ла Суда.
Эйхлер сознался в посещениях Волынского, в разговорах с ним о герцоге Бироне, в чтении его проектов, в своих предостережениях относительно посещений бывшим кабинет-министром Анны Леопольдовны, чтобы не навлечь суспиций герцога, но о существовании намерения совершить государственный переворот не высказал ни слова. Ещё меньшего результата достигли следователи из допросов де ла Суда, который показал только то, что читал, с разрешения своего начальника, проект Волынского и посещал его семейство.
Следствие росло, принимая солидные размеры и захватывая собою всё больше лиц.
Следователи обратились было и к другим особам, посещавшим Волынского, но из этих лиц некоторые высокопоставленные: Румянцев, князь Урусов, Головкин – избавились вовсе от допросов, по повелению императрицы, а другие – князь Трубецкой, князь Черкасский и Новосильцев – ограничились одними показаниями, кто у себя дома, кто у императрицы. Но зато с особенным усердием следователи налегли на графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина[46]46
Сын сенатора, графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Граф Платон Иванович долго жил за границею и считался одним из образованных людей своего времени, в молодости любил кутить, но всегда отличался прямизною характера.
[Закрыть], человека резкого, честного, прямого, грубого и лично им неприятного.
Граф Платон Мусин-Пушкин лежал больной, в припадке подагры, когда явились к нему Андрей Иванович и Неплюев. Граф любил и уважал Волынского, хотя видел все его недостатки, разделял с ним ненависть к иностранцам-фаворитам, слышал подробно о производстве следствия и безошибочно предвидел, к чему оно должно привести. Он понимал, что, при неприязненных его отношениях к главному следователю, личное его спасение зависело от смысла его показаний, но правдивая душа не могла помириться ни с какими компромиссами, ни с какими отговорками эгоизма.
С суровою важностью встретив следователей, граф холодно спросил о причине посещения; его щетинистые брови спустились ещё ниже, и резче обрисовалась складка во лбу, между бровями. Сам Андрей Иванович, обыкновенно такой находчивый и развязный там, где чувствовал себя дома, смутился от упорного взгляда графа; в его объяснениях и чтении вопросительных пунктов невольно, через напускную наглую заносчивость, сквозило стеснение.
– Ближним согласником кабинет-министра Артемия Петровича я не бывал, – отвечал граф, следуя порядку вопросов, – но слышал от него о желании Бирона женить сына на принцессе Анне Леопольдовне; слышал также мнение, которое и сам разделяю, об опасности для государства от пристрастия императрицы к фавориту, в ком видел второго Годунова.
В дальнейших показаниях граф объяснил, что «доношение» Артемия Петровича он читал, но не одобрял примечаний, почему и советовал подать простую челобитную. Относительно же генерального проекта граф высказал, что всего проекта не читал, а слышал только отрывки и думал, что, по должности кабинет-министра, Волынский должен был заботиться об исправлении государственных дел, которых настоящее положение невозможно одобрять.
Последствием таких показаний было то, что графа заключили в Петропавловскую крепость, а к жене и детям его приставили караул.
Как ни усердно работал Андрей Иванович и как ни обманывал он себя, а в результат всё-таки далеко не удовлетворял его ожиданиям. Самый главный факт – преступное намерение совершить государственный переворот – не подтверждался ни одним из многочисленных показаний свидетелей, за исключением пыточных речей Хрущова да неясного, бестолкового доноса Кубанца; о времени же и способах совершения вовсе не поступило никакого указания.
Андрей Иванович снова прибегнул к обыкновенному своему средству – пытке, и в первых числах июня все конфиденты Волынского подвергнуты были розыску, с дыбою, беспощадно: Еропкину, как главному конфиденту, дано было пятнадцать ударов, графу Мусину-Пушкину – четырнадцать, хотя он ни в чём не обвинялся и собственно не был конфидентом, Соймонову – двенадцать и Эйхлеру – десять ударов, но, несмотря на жестокость истязания, все эти лица, сознаваясь в конфиденстве с Волынским, совершенно отказались от обвинения в замысле ниспровержения государственного порядка. Почему же не донесли они своевременно о винах Волынского? Все оправдывались боязнью навлечь на себя гнев кабинет-министра. И здесь граф Платон выделился от других, буркнув поывисто и грозно: «А не донёс потому, что не хотелось быть доносчиком».
Обманувшись в расчётах на податливость и слабость конфидентов, следователи принялись снова за Артемия Петровича. 7 июня ему производили новую пытку, прежде и после которой отбирали показания. Основою служил всё тот же излюбленный пункт – государственный переворот, с некоторыми только добавочными, второстепенными вопросами по новому поступившему допросу Кубанца о восхвалении Волынским польских порядков, о справках в календаре о летах герцога Бирона и о найденных в бумагах Артемия Петровича копиях с кондиций верховников. Как прежде дыбы, так и после неё, обвиняемый показал одинаково, что не виновен в злоумышлении на государственный порядок, а что польские порядки похвалял и что, действительно, имел у себя кондиции верховников. При этом допросе Артемию Петровичу дано было восемнадцать ударов…
Нетрудно было видеть, даже и не такому опытному сыщику, как Андрей Иванович, что новым битьём, новыми истязаниями, хотя бы и до смерти, невозможно было добраться до ложного самообвинения в главном пункте, а входить в исследование дел по казанским и астраханским злоупотреблениям, по мнению генерала Ушакова, не стоило труда. О бесполезности дальнейших розысков Андрей Иванович поспешил донести своему патрону, герцогу Бирону, и не далее как в тот же день получилось всемилостивейшее повеление о прекращении следствия и о докладе «в обстоятельном изображении всего того, что открыто».
Теперь началась канцелярская работа, но и в ней генерал Андрей Иванович не ударил лицом в грязь. Требовалось из ничего сделать многое, из мыльного пузыря воздвигнуть капитальное здание – и он сделал это. Его «Изображение о государственных тяжких преступлениях и злодейских воровских замыслах Артемия Волынского и союзников его графа Платона Мусина-Пушкина, Фёдора Соймонова, Андрея Хрущова, Петра Еропкина, Ивана Эйхлера, також о Иване Суде» может служить беспримерным образцом ловкой изворотливости.
Сочинённое им «изображение» разделено на две части: в первой говорилось о предерзостном и плутовском письме, поданном императрице в самое нужное военное время, о побоях Тредьяковскому и о служебных злоупотреблениях; во второй же части излагались преступления собственно государственные. Эта последняя часть и обратила на себя всё внимание следователей и здесь-то, в полном блеске выказался хитроумный генерал-сыщик. Вся сила обвинений составляет массу, в которой, при всём усердии, невозможно разобраться свежему человеку. Почти все обвинения выражаются неясно, неточно, туманно, какими-то полусловами, многие повторяются по нескольку раз, только одетые в другие формы, и все они изложены языком до крайности неясным. Во всём «изображении» видно усилие следователей затуманить дело до того, чтобы оно из мыльного пузыря представлялось чем-то веским. И действительно, в этом отношении они достигли своей цели. По их «изображению», преступления Волынского могли показаться современникам, в особенности женскому воображению, имеющими громадное и опасное значение. Обвинительных пунктов множество, но из этой массы можно формулировать следующие виды преступлений: осуждение существующих государственных порядков, объясняемых обвиняемыми неспособностью императрицы и пристрастием её к иностранцам; попытки к изменению этих порядков сочинением различных рассуждений и проектов; руководство вредными, противными самодержавию сочинениями Юста Липсия; желание поселить раздор в императорской фамилии, выраженное в тайных сношениях с двором Анны Леопольдовны; осмеяние высокопоставленных особ в частной переписке; приравнение своего дома с домом Романовых; привлечение к себе конфидентов и союзников для совершения государственного переворота, чему служило распространение сведений о проектах и картине родословной и, наконец, выраженное очень сбивчиво желание Волынского, что его потомки могут быть на российском престоле. К этим главным пунктам присоединялись второстепенные: имение кондиций верховников и денежные злоупотребления, которым, впрочем, и сами следователи не придавали особенного значения.








