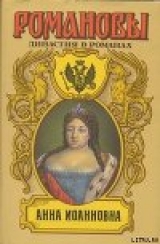
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 55 страниц)
Для характеристики Артемия Петровича необходимо упомянуть ещё об одном обстоятельстве. Вскоре после смерти Александры Львовны его доброжелатели стали настойчиво советовать ему новою женитьбою упрочить связи с сильными мира сего и указывали на дочерей Семёна Андреевича, но, к чести Артемия Петровича, он решительно отказался от этого предложения, не желая такой ценой покупать себе милости. «По мне, – писал он к покровительнице своей, княгине Черкасской, – душа моя и честь милее, чем весь свет».
В январе 1731 года Артемий Петрович, вместо Персии, самовольно переехал в Москву, где тогда находился двор.
Трудное время переживалось Артемием Петровичем в Москве. После опалы каждого гордо стоявшего и сильного человека всегда являются люди, желающие потешиться над упавшим, отвести на нём накипевшую прежде злобу, а у Артемия Петровича таких людей было немало. Вскоре после переезда Волынского в Москву явились взыскания купцов по займам его ещё в Персии. Этим взысканиям услужливые люди постарались придать вид лихоимства, объясняя все отношения наши в Персии при Петре Великом корыстными целями Волынского. Не успел он ещё оправдаться от этих обвинений, как поступили новые жалобы на беззаконные сборы бывшего губернатора от инородцев Казанской губернии, подстрекаемых вице-губернатором Кудрявцевым. Ввиду сложности и важности обвинения назначена была «инквизиция», то есть особая следственная комиссия, а сам Волынский был арестован.
Красноречиво и ловко Артемий Петрович опровергнул все возводимые на него обвинения, но враги не унимались. Казанский вице-губернатор обратился в сенат с представлением о присылке из сената особых чиновников для строгого расследования злоупотреблений, совершённых при бывшем губернаторе. Такое строгое исследование, направляемое местными врагами, грозило уже не одною опалою, и Артемий Петрович, по совету милостивцев, для предупреждения дальнейших преследований и прекращения начатых, решился на отчаянную меру: он повинился императрице во всех своих винах и обратился к её милосердию.
Как скоро дело перешло от кляузной инквизиции в руки высшей власти, спасение представилось более чем возможным. И действительно, хлопотами высоких покровителей, вызвавших к Волынскому участие самого Бирона, он, 28 сентября 1731 года, был помилован, причём повелено было закрыть инквизицию и прекратить все дальнейшие исследования. За этой милостью следовала другая: в ноябре того же года Артемий Петрович назначен был воинским инспектором.
С прошлым было покончено и доносам врагов подведён окончательный итог. Теперь Артемий Петрович получил возможность свободно оглянуться кругом, внимательно всмотреться в окружающую сферу, взвесить хладнокровно роли различных партий и верно наметить свою будущую дорогу. Богатые способности, обширный ум, ловкость и замечательный дар слова обещали ему полный успех… Он быстро стал подниматься всё выше и выше, переходя от одного назначения к другому. В половине 1732 года он получил место помощника начальника графа Карла Левенвольда – место, приблизившее его к самым сильным мира сего, чем, разумеется, он и воспользовался. Последствием этого назначения был ряд наград: в 1734 году он получил чин генерал-лейтенанта и снова знание генерал-адъютанта; в 1735-м, по смерти графа Левенвольда, – его место по конюшенной части, а в 1736 году – должность обер-егермейстера, поставившую его на вид императрице.
Говорят, что почести изменяют нравы, но с Артемием Петровичем случилось наоборот. Чем выше продвигался он, тем шире становился его кругозор, тем чище убеждения, и наконец, когда в 1738 году он достиг высокого поста кабинет-министра, то совершенно отдался святому делу служения родине.
Назначение на пост кабинет-министра, доставленное ему Бироном, возбудило зависть в высокопоставленных лицах. Нашлись из них такие, которые прямо высказывали всемогущему фавориту своё удивление, напомнив прежнюю небеспорочную службу Волынского.
– Я знаю, что он имеет пороки и недостатки, – серьёзно отвечал герцог, – но где найти между русскими лучшего и способнейшего? Все они так мало на что-нибудь годны, что выбирать из них невозможно.
В сущности же герцог поступил с дальновидным расчётом, надеясь, что новым благодеянием, после избавления от инквизиции, он сделает из Волынского преданное себе орудие, покорный противовес Остерману.
Артемий Петрович – не рыцарь без страха и упрёка, не идеальный герой, а человек по плоти и по крови, ошибающийся и увлекающийся, страстный и восприимчивый, но по природе честный и благородный. Находясь в среде до костей испорченного, эгоистического придворного круга, он не увлёкся его узкими интересами, напротив, он сблизился с кружком скромных тружеников, честных и образованных, стал сам, уже в немолодых летах, заниматься философскою литературою, изучать политические вопросы о мерах общественного развития и явился первым русским земским деятелем.
V
– Имею честь и величайшее счастье принести вашей великогерцогской светлости усерднейшее поздравление со вступлением на владельческий престол Курляндии и представить на ваше благоустроение мою всенижайшую преданность…
– Благодарю… Благодарю очень. Императрица довольна вами… и я также.
Поздравлял русский обер-егермейстер Артемий Петрович Волынский графа Бирона по случаю избрания графа и русского обер-камергера в достоинство владетельного герцога Курляндии.
Прекрасное раннее утро половины июня 1737 года. Ласкающий воздух, напитанный запахом распустившихся цветов лип, растворённый влажностью моря, вливался в открытое окно кабинета графа на его петергофской даче, ютившейся рядом с императорским дворцом.
Эрнст-Иоганн ощущал особенно приятное расположение духа и от этого живительного ароматного воздуха, и ещё более от полученного накануне известия о своём избрании, ставившем его наряду с коронованными главами Европы. Сидя в глубоком кресле перед своим роскошным письменным столом, он благосклонно оглядывал сидевшего напротив его в полунаклонном почтительном положении обер-егермейстера.
– Нельзя не завидовать курляндцам за такой выбор, впрочем, нельзя было и сомневаться, – продолжал Волынский полупросительным и полуутвердительным тоном.
– Да… выбор единодушный. Не удивительно! Мои верные курляндцы знают меня давно, во время ещё заведования моего делами… когда я был в Митаве…
– Конечно, конечно, ваша светлость… Хотя, как я слышал, домогались выбора принц прусский и Мориц саксонский?
– Они интриговали, но курляндцы очень хорошо понимают, что никто не сможет и не сумеет их защитить при случае так, как я!.. Притом же наша фамилия Биронов, как вот пишет мне наш посол в Париже Антиох Дмитриевич Кантемир[27]27
А. Д. Кантемир был русским послом в Лондоне с 1732 по 1738 год. С 1738 года до конца жизни (31 марта 1744 года) Кантемир был послом в Париже.
[Закрыть], из самых древних в Европе, происходит от французских…
Новый герцог сказал правду об единодушии, но не высказался о причинах этого единодушия. Курляндское рыцарство, с презрением относившееся к Бирону, когда он был секретарём вдовствующей герцогини, конечно, не могло воспылать к нему особенною любовью тем более, что система его действий в Курляндии проводилась совершенно та же, какая была и в России. Его шпионы там так же проникали повсюду, и имевшие несчастье заслужить нерасположение или подозрение русского обер-камергера точно так же странно исчезали с лица земли; заподозренного схватывали замаскированные люди и увозили в отдалённые русские провинции. Избрание произошло под сильным внешним давление двух дворов, польского и русского. Польский двор не мог желать избрания прусского принца да и вообще любого самостоятельного соседственного владельца из опасения усиления его значения; в его интересах было избрание курляндца, но желающих вступить на престол курляндский из местных дворов никого не оказывалось, по крайней скудости герцогского двора. Все дворцовые митавские имения были разорены и до того обременены долгами, что не было никакой возможности существовать без больших субсидий от соседственного двора. Но такими субсидиями мог пользоваться только Бирон. Давление русского двора в пользу Эрнста-Иоганна было ещё значительно. Тотчас же после смерти старого Фердинанда, последнего герцога курляндского из дома Кетлера, в Данциге, русский посланник при польском дворе Кайзерлинг отправился в Митаву и там не жалел ни слов, ни денег на убеждения. Независимо от того, русскому коменданту, генералу Бисмарку (родственнику Бирона) приказано было двинуть войско в Курляндию. Русские отряды заняли Митаву и находились наготове в ограде, кругом собора, где производилось избрание. Вследствие таких-то одновременно действующих влияний и состоялось единодушие, о котором теперь так внушительно говорил Бирон Волынскому.
– Государыня довольна вашими акциями, господин обер-егермейстер, и намерена послать вас на немировский конгресс, – продолжал между тем граф, заботливо очищая пылинки, засевшие под ногти его пальцев, украшенных драгоценными перстнями высокой ценности.
– Я не пожалею живота своего, ваша великогерцогская светлость, дабы угодить всемилостивейшей государыне, но крайне опасаюсь, будет ли благосклонен господин вице-канцлер.
– О, не бойтесь… любезнейший Артемий Петрович! государыня, конечно, отдаёт справедливость опытности и дарованиям господина вице-канцлера, но она руководится своими рассуждениями.
– Весьма многие трудности, ваша светлость, предстоит преодолеть на конгрессе… Политические комбинации…
– Я не мешаюсь в государственные дела, любезнейший, – перебил герцог, не желая портить своего приятного расположения духа скучными политическими соображениями.
– Это весьма сожалительно и огорчительно, что ваша великогерцогская светлость удаляется от рассмотрения политических конъюнктур, тем паче, что ваш всеобъемлющий разум мог бы более достойным образом…
– По моей глубочайшей преданности к императрице я стараюсь быть ей полезным моими советами, но принимать официи не намерен. Русские так подозрительны и неблагодарны.
– Не все, ваша светлость, далеко не все… – поспешил оправдаться Волынский.
– Конечно, не все, мой любезнейший, есть и между русскими люди, умеющие ценить и быть благодарными за те благодеяния, которые оказывают им иностранцы, но большинство, громадное большинство – народ невежественный, которому ещё нужно телесное вразумление, который не умеет понять, что сделали для него мы, его учителя и наставники.
В это время вошёл паж и доложил, что её величество государыня императрица изволит собираться на охоту и ожидает к себе его великогерцогскую светлость.
Тень неудовольствия пробежала по лицу фаворита, которую он даже не дал себе труда скрыть. Махнув рукою пажу в знак отпуска, он обратился к Волынскому, протягивая ему с покровительственным достоинством руку:
– Прощайте, господин обер-егермейстер, вы должны тоже сопровождать государыню на охоту. Между тем, я могу вас порадовать своим известием: государыня предполагает, и я тоже разделяю её мнение, назначить вас, по вашем возвращении, на место Павла Ивановича Ягужинского, кабинет-министром. Но помните… до тех пор, пока вам не объявит этого её величество, вы не должны знать…
С низкими поклонами, почтительно прикоснувшись к руке фаворита, Артемий Петрович спешил удалиться для личного осмотра всех приготовлений к охоте.
«Наконец-то я буду там, где и должен быть по своим и дарованиям… Глупец! Он думает меня облагодетельствовать и сделать из меня покорное орудие… Наглец!» – думал про себя Артемий Петрович.
Лето 1737 года Анна Ивановна, по обыкновению, провела в Петергофе.
Это было самое очаровательное место из всего финского побережья, бывшее и в то время почти таким же, как и в настоящее, за исключением только некоторых деталей. Правда, нагорный петергофский дворец, начатый постройкою в 1715 году, был ещё не отделан, не было знаменитой статуи Самсона, раздирающего льва[28]28
Постройка каменного дворца, задуманного Петром Великим после своей свадьбы с Екатеринушкою, поручена была первоначально архитектору Леблану, после которого постройкою заведовал граф Растрелли-отец, но окончательная отделка последовала уже в царствование Елизаветы Петровны. Что же касается до фонтана Самсона, то этот фонтан, поставленный при Екатерине, имеет символический смысл. Самсон, раздирающий пасть льва, указывает на полтавскую победу в день св. Самсония, причём лев знаменует Швецию, в государственном гербе которой, действительно, изображается лев.
[Закрыть], но в общих чертах было то же, что и ныне, те же бассейны, фонтаны, гроты, статуи. Немало Пётр Великий положил своего мозольного труда на петергофскую почву.
Заботясь об обеспечении за собою новоприобретённого поморья и лично наблюдая за укреплением Кронштадта на острове Котлин, Пётр Великий распорядился постройкою, на том месте берега, откуда отправлялся на остров, двух светлиц и съезжего двора, а рабочие и окрестные жители построили деревянную крепость во имя Благовещения, в которой государь нередко читал апостола. Местоположение полюбилось Петру: прямо за его любимым морем точно выходили из воды новые твердыни, за которыми, в неясной дали, очерчивались берега Финляндии, а вправо – в лесной зелени – вырезались постройки нового города, его создания; всё чаще и чаще стал наезжать сюда Пётр, и скоро на самом берегу моря построилась «попутная палатка» – Монплезир.
Пётр, по натуре своей, не мог отдавать делу только половину себя. Задумав сделать из выбранной местности свою летнюю резиденцию, он принялся за работу с обыкновенною энергией. На пустынном берегу неугомонно застучали топоры и молоты, завизжали пилы. Петергоф сделался его излюбленным местом. Здесь часто пировал он со своими птенцами и с иностранными посланниками; часто после сытного обеда и отдыха он, как и гости, одевался в фартук и отправлялся в сад работать вплоть до вечера: кто копал заступом, кто чистил скребком или киркою, кто подстригал ножницами – для всех была работа. Не довольствуясь местною флорою, Пётр выписывал растения для предполагаемого парка из дальних мест: в Амстердаме были куплены липовые деревья, из Ревеля и Данцига были привезены барбарисы, розовые кусты и вётлы, из Швеции яблони, сорок тысяч ильмовых деревьев, из Москвы клёны, из Ростова шесть тысяч буковых деревьев. По мере того, как хорошел Петергоф, росли и развивались затеи новатора. Явились прожекты различных прешпектов, аллей и фонтанов. Пётр поручил русским, находившимся за границею для обучения, прилежно собирать планы и фасады замечательных заграничных парков, сам занимался проектами и писал инструкции. Большая часть его проектов тогда была приведена в исполнение. «Доделать кашкаду другую, – писал он в одной из своих инструкций, – грот и в оном стол с брызганием и орган, буде можно, так же в бассейне фонтанку; по уступам у обеих кашкад статуи и горшки, грот маленький вверху, на одной стороне прохода, а в другой что иное, по рассуждению архитектора; у сих двух мест, также у большого грота, сделать водотечение, когда понадобится, чтобы входы закрыла вода. Перед большою кашкадою, на верху, сделать историю Еркулову (Геркулесову), который дерётся с гадом семиглавым, называемым гидрою, из которых будет идти вода по кашкадам. На верху, у малой марлинской кашкады, делать телегу Нептунову, с четырьмя морскими лошадями, у которых изо рта пойдёт вода и будет литься по кашкадам».
Хотя история Еркулова и не осуществилась, а вместо неё явилась статуя Самсона, но, тем не менее, всё это почти исключительно труды Петра. Тысячи народа работали без устали над водопроводами кашкад, и к августу 1721 года вся система кашкад была уже готова, а через пятнадцать лет, при Анне Ивановне, Петергоф мог казаться чем-то волшебным.
VI
Шум, крик и беготня со всех сторон. Оживился обыкновенно пустынный лес, примыкавший к петергофскому парку, где находился зверинец для летней забавы скучающей императрицы. Впрочем, не ради своей забавы, не от скуки она устраивала при дворе своём дорогие разорительные праздники и увеселения, вечера и собрания[29]29
При Анне Ивановне выписаны были итальянские певцы и основалась итальянская опера, на которую были потрачены значительные суммы.
[Закрыть]. Полюбив глубоко, всем существом своим, она только и жила этим чувством, сделавшимся для неё источником постоянной сердечной тревоги. Она сознавала свои недостатки, свои немолодые годы, не выдающуюся красотою наружность, понимала, насколько теряла она в присутствии молодых красивых женщин и естественно, всеми средствами старалась отдалить от них любимого человека. С какой мучительною ревнивою подозрительностью смотрела она, когда он подходил к цесаревне и говорил с нею, сколько страдания вытерпело её бедное сердце, как оно то заливалось широкою волной и билось, то холодело при каждой улыбке его, при каждом приветствии его цесаревне. А между тем необходимо было закрывать себя, не давать проникать в свой внутренний мир всем этим тысячам глаз, жадно следящим за нею, подмечающим каждое её движение. И она насиловала себя, заставляя лицо нервно передёргиваться улыбкою, когда ей хотелось бы рыдать; из головы выжимать благосклонные приветствия, когда ей хотелось так избавиться от этого беспощадного надзора. Да, в сущности, и напрасны были её труды, бесплодна постоянная ломка себя, постоянное принуждение, подтачивающее жизненные силы, – её тайны давно уже все знали, все подглядели, до самого тайного уголка. Напрасно одевалась она набожностью, строгими принципами нравственности, называла распутством свободное обращение женщин на празднествах своих придворных, куда не допускала своего Эрнста-Иоганна, – все понимали лучше её самой, откуда, почему и зачем такие строгости.
На большой прогалине петергофского леса выстроен был киоск с остроконечною крышей, обнесённый кругом решёткой. Сюда собрались: императрица, цесаревна Елизавета, приглашённая как любительница охоты, племянница государыни, уже восемнадцатилетняя принцесса Анна Леопольдовна, недавно приехавший племянник императора австрийского, принц Антон Брауншвейгский, намеченный жених принцессы, герцог курляндский с супругою, обер-егермейстер Волынский и весь придворный штат, живший в Петергофе.
Императрица казалась в хорошем расположении духа. Сидя у решётки, она, подозвав к себе обер-егермейстера Волынского, благосклонно сообщила ему о назначении его на немировский конгресс и добавила:
– Я думаю, Артемий Петрович, ты привезёшь к нам молодую жену. Польки, говорят, умеют кружить головы таким молодцам, как ты.
– Образ персоны вашего величества будет ограждать меня от искушений и поощрять к непосильным трудам по службе, – нашёлся Артемий Петрович, вообще не ходивший в карман за словом.
– Служба твоя и преданность нам, – приветливо улыбаясь, говорила Анна Ивановна, – мне известны и… – но в это время взгляд её упал на оживлённо разговаривавших и стоявших поодаль, у самой решётки, цесаревну и Эрнста-Иоганна. Неудовольствие пробежало по лицу императрицы, она вдруг замолчала и начатая мысль осталась не высказанною. Как ловкий придворный, Артемий Петрович, разумеется, не заметил смущения государыни, занявшись с серьёзным вниманием разбором превосходной отделки любимого ружья Анны Ивановны, выписанного ею из-за границы.
– Как ты находишь моё ружьё, Артемий Петрович? – снова обратилась к нему государыня, успевшая оправиться и по-прежнему ласковая.
– Магнифично, ваше величество, но желалось бы, чтобы наши отечественные изделия достигли такой перфекции.
– Вот будешь охотиться, Артемий Петрович, с польскими панами, – снова переменила разговор императрица, как бывает всегда, когда мысль занята совершенно другим, когда поддерживаемый разговор только скрывает другой, невысказываемый вопрос, когда бессознательно и даются вопросы и выслушиваются ответы.
Не успел ещё приготовить какого-нибудь кудреватого ответа находчивый говорун Артемий Петрович, как императрица уже предупредила его вопросом, высказанным вполголоса:
– Видишь вон там принца? – и она взглядом указала на стоявшего подле принцессы Антона Брауншвейгского. – Как его находишь?
Несмотря на находчивость, Артемий Петрович затруднился отвечать на неожиданный вопрос.
– Я не знаю принца, ваше величество, и… судить…
– И судить-то нечего, он весь тут… – перебила государыня с заметным раздражением и сдвигая брови. – Нечего сказать, удружил граф Рейнгольд! выискал женишка!
– Но если ваше величество не желаете… то…
– Мало ли чего я не желаю… да и не всё так делаешь, как желаешь. Вон Андрей Иваныч говорит о разных конъюнктурах.
Между тем встревоживший государыню разговор цесаревны с герцогом курляндским был в действительности самого невинного характера.
– Государыня желала доставить удовольствие вашему высочеству, зная, как вы жалуете охоту, – говорил герцог, подходя к цесаревне, стоявшей в стороне и задумчиво облокотившейся на решётку.
– Её величество по доброте своей не забывает меня, но я люблю не такую охоту.
– Почему же вам не нравится наша охота?
– Я не могу убивать беззащитных зверей, герцог, – с воодушевлением проговорила цесаревна.
– О, ваше высочество изволите любить опасности, борьбу…
– Нет, совсем не то, герцог, – спохватившись, заторопилась объясниться цесаревна. – Я не люблю и не желаю никаких опасностей, никакой борьбы ни для себя, ни для других. Но, видите ли… мне жалко убивать беззащитное животное. Раз, тоже на охоте, я случайно увидела последний взгляд… в нём было столько покорности, столько мольбы… до сих пор не могу забыть!
– Однако же, ваше высочество, вы сами же убиваете на охоте?
– Случается, герцог, но то совсем другое дело. Животное не беззащитно, оно тоже борется своими средствами, бежит, старается обмануть, увёртывается. Да притом как-то увлекаешься сама, невольно забываешься…
Цесаревна вспомнила свои охоты в Покровском и оживилась. Всегда красивая и привлекательная, в моменты воодушевления, с этим живым румянцем, проступавшим сквозь нежную атласистую кожу, с правильно очерченными, несколько пухлыми губками и в особенности с этими большими выразительными глазами, которые обдавали избытком жизни, в эти моменты она казалась очаровательною. Герцог невольно поддался обаянию этой красоты и жадно осматривал весь роскошный бюст её, освещённый красными лучами солнца.
Невольно смутившись от этого взгляда, девушка инстинктивно оглянулась на императрицу и угадала её неудовольствие.
– Однако, герцог, мы отдалились от других и точно сочиняем какие-то заговоры. Пойду утешать бедную кузину принцессу. Посмотрите, как она убита, точно будто бы её кто-нибудь преследует, а как было она похорошела!
Теперь, в свою очередь, смутился незастенчивый Эрнст-Иоганн. Слова цесаревны, сказанные без умысла, он понял намёком на ту систему паутинного шпионства над цесаревной и принцессою, которой он окружил их. С оскорблённым самолюбием воротился он к императрице.
Принцесса Анна Леопольдовна в последнее время значительно похорошела. Из худенькой, бледненькой, забитой девочки, какой она была при приезде тётки в Москву, теперь вполне сформировалась миловидная девушка. В организме каждой девушки замечается такая быстрая перемена; казалось бы, никаких видимых изменений нет: те же черты, иногда даже неправильные, без всякой внешней перемены, вдруг становятся совсем другими, вдруг принимают особое выражение, привлекательное и необыкновенно симпатичное; те же глаза, но другое выражение, заставляющее забывать и неправильность очертаний и странный цвет их; те же губы, но другая улыбка. Иная жизнь разлита по всему трепещущему телу и магнетическим током переливается по всем нервам. Эта странная метаморфоза наступает, когда девушка глупо полюбит.
Молоденькая, восемнадцатилетняя Анна Леопольдовна полюбила, и полюбила глубоко – Линара, саксонского посланника при дворе Анны Ивановны, несмотря на значительную разницу лет. Линару в то время было за сорок, но это был мужчина сохранившийся, красивой наружности, любезный и ловкий, выделявшийся в среде русских, ещё не достигших европейской элегантности. Мудрено ли было увлечься ей, девушке, до сих пор никем не замечаемой, вниманием такого видного сердцееда того времени, и притом в пору, когда природа сама окрыляет новое чувство, когда любить становится насущной потребностью.
Но любил ли её Линар, как она любила его беззаветно, – неизвестно. Вероятно, и он увлёкся, конечно, не безумною страстью юности, а подогретым чувством, на закваске удовлетворённого тщеславия внушить любовь девушке такого высокого общественного положения, будущей наследнице престола, и притом так бережно охраняемой. Может быть, и сам он невольно поддался обаянию свежести и неиспорченности первого девственного чувства. Когда и в каких формах пустило в обоих их взаимное чувство, они оба не могли бы определить себе, даже он сам, при всей своей опытности в таких делах, так это чувство было чисто и естественно. Весь обмен их объяснений ограничивался тайными пожатиями рук да несколькими словами, высказанными урывками и украдкою от сотни глаз и ушей, без устали наблюдавших за ними.
Вскоре они нашли новое средство для передачи чувства. Подкупленная ли любовью к своей воспитаннице или просто считая возникшие отношения невинными и бесследными, как обыкновенная шалость молодости, воспитательница принцессы, госпожа Адеркас, сама стала посредницею в передаче писем. До нас не дошла эта переписка, и нам невозможно заглянуть в душу молодой девушки, но и сохранившихся данных её печальной судьбы слишком довольно для безусловной и полной к ней симпатии. Расцветшее счастье продолжалось недолго. Домашние шпионы подстерегли тайну, донесли обо всём герцогу, а тот императрице. Гроза разразилась и убила улыбнувшееся будущее. Графа Линара отослали к аккредитовавшему его правительству с хитрою и замысловатой нотою, произведением находчивого ума Андрея Ивановича; госпожу Адеркас выслали в Германию, со строгим запрещением въезда, а над принцессою удвоился караул шпионов. Наконец, для довершения несчастья, страдающей девушке объявили, что она должна смотреть на принца Антона как на будущего мужа.
Принц Антон-Ульрих Брауншвейгский обладал наружностью, лишённой всякой возможности нравиться женщинам. Малорослый и тщедушный, с реденькими светлыми волосами, незначащими светло-серыми глазами, с чертами, не оставляющими в памяти тех, с кем встречался, решительно никакого следа; он, к несчастью, и своими душевными качествами, робостью и трусливостью не мог произвести выгодное впечатление на женское воображение. Понятно поэтому, что должна была чувствовать к нему девушка, которой воображение ещё так живо ласкал образ дорогого человека, смелого, умного и в сравнении с принцем идеально-прекрасного.
В юности, не испорченной преждевременным развратом, нервы восприимчивее, ощущение живее и всякое горе кажется таким бесконечным, безысходным несчастьем. Девушке опротивело всё окружающее, ей хотелось бы бежать от всего, от себя самой, выплакать свою жгучую скорбь, а между тем ей приказывают быть довольной, весёлой и любезной с ненавистным женихом.
Позади невесты стоит этот жених с видимым желанием разговориться, в бесплодной пытке ума выжать какой-нибудь общий, интересный для них сюжет, но такого сюжета не выискивается, да притом же прямо обратиться конфузно. Только чаще обыкновенного моргает он глазами, краснеет и переминается.
«Что за трусливый выродок из мужского рода», – мелькнуло в голове цесаревны, подошедшей к принцессе.
Испытавшая и пережившая первые весенние впечатления распускающейся жизни, цесаревна Елизавета сочувственно относилась к горю кузины. Всю историю любви принцессы и Линара она знала во всей подробности. Если у герцога курляндского были шпионы и подкупленные слуги, то и у цесаревны были люди, не менее, если не более деятельные, только не из корысти, а из преданности. Домашний медик её Лесток выказывал удивительную сметливость. Толкаясь во всех слоях общества, он ловко и из верных рук получал сведения о всех сокровенных тайнах двора и приближённых к нему лиц. А преданные гвардейцы?! Они видели в ней матушку свою, дочь Петра, память о котором свято ими чтилась. Постоянно забегая к ней в домик за разными нуждишками: кто с просьбою дитя окрестить, кто с благословением на брак – они высказали перед нею весь запас своих знаний, а знать они могли многое, содержа караулы во дворце, от прислуги дворцовой, от разных знакомцев, по собственным наблюдениям, так как от них обыкновенно никто не таился.
Цесаревна, конечно, не имела особенных причин любить принцессу Анну, уже по одним натянутым отношениям к её тётке, наследницею которой считали принцессу, но у неё было мягкое сердце. Притом же страдания от любви с испокон веков более всех других видов страданий вызывают сочувствие женщин. И ей теперь так захотелось ободрить принцессу, утешить её хотя бы добрым словом.
– Кузина, вы верно больны? у вас такой болезненный вид? – спросила она тем мягким, участливым тоном, которому женщины умеют придать особенную симпатичность.
– У меня голова болит, – отозвалась принцесса, не оборачиваясь, чтобы не встретить лица принца Антона, и не отрываясь от неопределённого выражения взгляда, как будто остановившегося на каком-то отдалённом, невидимом для Других предмете.
Елизавету забирала злость на девушку, та злость, которая выливается тысячами булавочных уколов.
– А вы, принц, верно, никогда не страдаете головою? – вдруг спросила она, обращаясь к Антону-Ульриху.
Принц сконфузился, побагровел до белков глаз, хотел что-то сказать, заикнулся и едва-едва с усилием собрался выговорить:
– О, да… ваше высочество, никогда… решительно никогда…
– Я в этом уверена! – и цесаревна осталась очень довольна хотя таким ничтожным уколом. – Вам не нужно было приезжать сюда, – снова она обратилась к кузине.
– А разве меня спрашивают когда-нибудь? Приказано… и я должна… О, как я завидую вам! – отвечала Анна Леопольдовна отчаянным голосом, в котором слышались едва подавленные слёзы.
– Не могу ли я вам быть чем-нибудь полезною?
– Вы? нет, цесаревна, ничем… Помолитесь обо мне… Да сами берегите себя… Вы сами можете быть в таком же положении…
– Я? Никогда, – гордо отвечала цесаревна. – Я дорожу своей свободою и сумею её защитить… да если бы и вы, кузина…
В это время подле них раздался ружейный выстрел. Молодые девушки вздрогнули.
– О, не беспокойтесь, ваши высочества, это ничего… это выстрел… её величество изволила… – поспешил успокоить их принц Антон, довольный собою, что, наконец, успел-таки высказать такую длинную речь.
Началась охота. Вспугнутые животные выбегали на прогалину, где и встречали смерть. Императрица, стоя у решётки с ружьём в руках, ожидала первого появления жертвы. Позади её стоял обер-егермейстер Артемий Петрович, осматривая предварительно приготовленные, заряженные ружья и подавая новое после каждого выстрела. Первый выбежавший заяц не успел добежать до половины прогалины, как был убит. Императрица, по справедливости, могла назваться хорошим стрелком, попадая в птиц на лету или убивая зверей, определяя заранее место своей цели. Она пристрастилась к стрельбе с первых же лет своего пребывания в Митаве, охотясь в привольных для охоты лесистых местностях Курляндии, и эта страсть не покидала её до самой смерти. В комнате её, во дворце, как в Петербурге, так и в Петергофе, всегда стояло несколько заряженных ружей, из которых она стреляла в пролетающих птиц. Это бывало летом, в зимние же месяцы часто приготовлялась другого рода забава. В галерее Зимнего дворца устраивалась мишень для стрельбы стрелами из лука, в чём упражнялись, следуя примеру императрицы, и многие из придворных дам. Разумеется, чаще всех дам и мужчин попадала в цель сама императрица, и это было справедливо. Она отличалась верным взглядом. Играя, например, на биллиарде, что было тоже одной из любимых её забав, она почти всегда выигрывала партию, даже без всяких подставок и угождений со стороны партнёра.








