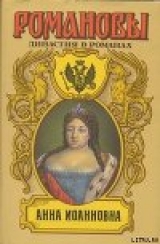
Текст книги "Анна Иоановна"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 55 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава IЯЗЫК
Но знаешь? эта чёрная телега
Имеет право всюду разъезжать:
Мы пропускать должны.
Пушкин
Утром вышли наши цыганы с постоялых дворов, где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезёнными на игрище.
Дворец, государыня, золотые кареты, прекрасная, разряженная княжна – всё это ещё кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце её росло от восторга; она шла наравне с палатами; она мечтала, что с Мариорицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей и что её слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастие и величие уронить в прах! Для этого стоит ей только вспомнить слова камер-лакея: «Не тронь её, братец! Видишь, как она похожа на молдаванскую княжну; точно мать её или старшая сестра!»
«Вдруг из княжон в цыганки! Каково так упасть?» – повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь её горю. Только ему одному поверила она частью свою тайну: душа его для тайны Мариулы как крыша гробовая – раз заколоченная, не открывается ни для кого.
Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу; наконец придумал способ.
Надо знать, что Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы, таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии и Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей, обманывал кого и где мог и попал было под гвоздь хотинского кадия[82]82
Кадий – судья.
[Закрыть]. Случилась при этой беде Мариула, знававшая его прежде и бывшая в милости у хотинского паши, и Мариула спасла его. Обязанный ей своею волей и благосостоянием, он с тех пор не покидал её и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно: в тучном старике не могли узнать прежнего молодца…
Статистика низших рядов общества, от полатей до подклета, в городе и в округе, была ему известна как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуге, которую Василий хотел оказать своей куконе, метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в Рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она ещё здравствует, он повёл к ней Мариулу.
Вот повернули цыганы на большую прешпективу. Такое громкое название дано было улице, которая тянулась, с перехватами пустырей, от Луговой линии к Аничковой слободе. Тогда Петров город переводился с острова этого имени большою частью на Адмиралтейскую сторону, и потому прешпектива застраивалась нарочитыми домами. А каковы были эти нарочитые дома, можно судить по лучшему из них, комедиантскому театральному дому, деревянному и с крышею из дёрну, воздвигнутому, как сказал древний описатель Петербурга, для отправления трагедий, комедий и опер. Образчик этого великолепного храма Талии, Мельпомены и прочих существовал ещё несколько лет тому назад в подмосковном селе Кускове. Другие дома, более скромной наружности, выбегали, однако ж, по вызову правительства на большую прешпективу и своими новенькими черепичными или гонтовыми крышами свидетельствовали, что и они достойны показаться в большом свете и стать в указанную линию. Деревянный Гостиный двор в два яруса, с бесчисленными мелкими арками, как стойлами, отстраивался на том месте, где стоит нынешний. Он примыкал ещё тогда к берёзовой роще, уступившей ему часть своего достояния, но сохранившей другую, большую часть к стороне Аничковой слободы, как бы убегая от наступчивых, бойких горожан к жителям более спокойным. Но и тут людность столицы не дала долго отдыхать утеснённым гамадриадам, завела рынок посреди рощи и в скором времени святотатственно посягнула на последние, кое-где мелькавшие деревья, осенявшие хижину старого инвалида морских баталионов. Где теперь и Аничкова слобода, и гордый комедиантский дом, и домики, чопорно выходившие на большую прешпективу, чтобы похвастаться своими черепичными кровлями, как набелённые и разрумяненные купчихи выходят в праздничный день к своим воротам на людей посмотреть, а более себя показать? Где всё, о чём теперь говорили! Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравнённыхуравненных, стали на пепелище первобытного Петербурга, как холодные, великолепные памятники, воздвигнутые наследственною обязанностью над прахом любимых народных поэтов.
Люблю воображать себе этот первобытный Петербург, но только летом, когда закат солнечный набрасывает на него фантасмагорический отлив. Живописно красуется он со своими палатами, важно поглядывающими свысока, и толпою мазанок, постепенно пробивающихся в знать; со своими полуголландскими-полурусскими домиками, над которыми строители истощили независимые, безотчётные затеи, словно хотели ими сказать: «Всякий молодец на свой образец». Одни кровли домов – уж богатая жатва для взора, любящего везде отыскивать поэзию. С какою негою раскидывается солнышко по мураве их, на которой время подобрало оттенки зелёного, жёлтого, ржавого и дикого цветов! Последние лучи как хорошо графят розовые черепичные крыши (кое-где в два-три этажа, словно две-три шляпы треугольные, одна на другую нахлобученные, кое-где стрельчатые, минаретные или наподобие голубятен)! Как поигрывает солнечный луч в яблоке адмиралтейского шпица, будто в золотом шарике, который вертится поверх скачущего водомёта! Как искрится в крестах Божиих храмов, большею частью деревянных, и выбивает огненный сноп о лужёное железо высоких палат! А крыльца разнохарактерные то прячутся на двор, то чванливо подбоченили здания или выступают на улицу; а кораблики с веющими флагами на воротах; а мельницы с вычурными колпаками и ходулями на берегу Васильевского острова, кивающие Зимнему дворцу и смотрящиеся вместе с ним и Меншиковыми палатами в одно зеркало Невы; а подле этих палат свита мазанок, ставшая в ранжир под именем Французской слободы; а Нева без мостов, по которой то и дело снуёт флотилия раскрашенных лодок или из которой вырастают мачты, как частый тростник на озере, и, наконец, рощи и луга посреди этого города – всё это разве не живопись, не поэзия?..
Но зимой, и особенно зимой 1739/40 года, не желал бы я быть в первобытном Петербурге. Это Голландия и Сибирь вместе, одна призванная, другая осёдлая, с изумлением сошедшиеся у Финского залива; они косятся друг на дружку и силятся выжить одна другую. Разумеется, что в морозы наша русачка берёт верх. Даже и на именитой прешпективе она является самовластною. Множество пустырей; дома, будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах и ставшие один от другого в стрелковой дистанции, точно после пожара; улицы только именем и заборами, их означающими; каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бироновские ужасы: незавидная картина!
Только к концу большой прешпективы, около Гостиного двора, русский торговый дух оживляет её. Бойкие сидельцы при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масленую головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпевают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречают и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. «Что вам угодно? Барыня, сударыня, пожалуйте сюда! Что покупаете? Господин честной, милости просим! Что потребно? Железо, мёд, бахта, платки, бархат, парча, дёготь, бумага!.. Образа променивать!.. Меха сибирские! Икра астраханская! Сафьян казанский! Ко мне, сударыня, у меня товар лучший! – Не слушайте, он врёт… у меня… – Ей-Богу, уступлю за бесценок… с убытком, только для почину… с лёгкой руки вашей…» И готовы разорвать прохожего. А вздумай он войти в лавку, как продавец в убыток запросит с него в пять раз дороже, чем товар стоит. Жеманные барышни в разноцветных бархатных шубах, в платочках, обвязавших по-русски головы, причёсанные по-немецки, с большими муфтами, расхаживают по рядам, как павы, и бранятся с купцами, как матросы. Разрумяненные купчихи в парчовых кокошниках и полушубках чинно кивают, как глиняные кошечки, не шевеля своего туловица и едва процеживая сквозь губы свои требования. Кое-где важный господин в медвежьей шубе и, наперекор северной природе, в треугольной шляпе, венчающей парик, очищает себе натуральною тростью дорогу между стаей докучливых сидельцев, предоставляя последи нахалов-слуг разметать влево и вправо эту мещанскую челядь. Воловьи и подъезжие извозчики то и дело шныряют около Гостиного двора с отзывом татарских времён: пади! пади! Там кричат: «блины горячи!», «здесь сбитень!», «тут папушники!», бубенчики звонко говорят на лошадях; мерно гремят полосы железа, воркуют тысячи голубей, которых русское православие питает и лелеет как священную птицу; рукавицы похлопывают; мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, бряцанье.
Эти предметы, эта суета торговая новы для наших цыган; на всё они заглядываются, всего заслушиваются.
Вдруг откуда-то раздаётся сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Всё следом его молкнет, всякое движение замирает, пульс не бьётся, будто жизнь задохнулась в один миг под стопою гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряжённый до возможного, заменил все чувства; он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни: всё прислушивается…
Опять раздаётся возглас, волнуется, всходит будто со ступени на ступень, ближе и ближе; уж можно слышать в нём слово: «Язык!»
– Языка ведут! Языка!.. – повторяют с ужасом сотни голосов.
Слово «Язык» стонет в обоих этажах Гостиного двора, по улицам, слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек – его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал, в свой, чужой дом, сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь, на извозчиков; лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность. И в несколько мгновений большая прешпектива, Гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая.
Только на площадке против Гостиного двора видны два человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного, стоят на одном месте. Эти два человека наши цыганы.
Оборачиваются…
На них, прямо-таки на них, идёт, сопровождаемое пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Так, по крайней мере, кажется издали.
Цыгане думают бежать, но куда? Уж поздно, их может тотчас настигнуть верховой. Да ещё их ли нужно? Они за собой ничего не знают. Не хотят ли спросить их о чём?.. В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя.
Чудовищное существо ближе, ближе к ним; уже в нескольких шагах. Можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О! этот человек – существо ужаснейшее. Недаром упреждает его бегство и опустошение. Он равнозначителен чуме, трусу, наводнению. Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое слово и дело, оно ведёт к допросу, пытке и казни, оно мертвит прежде смерти: не менее ужасно, чем голос крокодила, раскрывающего пасть, чтобы поглотить свою жертву. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали: «Язык».
Что ж такое был Язык? – Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде, нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались для исполнения своих видов корысть и властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд.
Язык подошёл к испуганной цыганке и оговорил её роковым «словом и делом». Её окружает конвой; полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним. Трясясь от страха, потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на неё беда, она хочет что-то сказать, но губы её издают одни непонятные, дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, она следует за ужасным оговорителем.
– Возьмите и меня, – кричит её товарищ, которого с нею разлучали, – коли она в чём оступилась, так я с нею половинщик. Спросите её сами, я не отхожу от неё день и ночь; без меня она не зарежет цыплёнка.
– На тебя не показывает Язык, – сказал полицейский чиновник, – нам тебя не нужно.
– Вы должны и меня с нею взять; я на себя показываю.
Цыгану возразили убеждениями прикладов.
– Бейте меня, мучьте меня, – продолжал кричать Василий, – растерзайте моё тело по кусочку, выньте мою душу по частям, я не отстану от своей куконы.
И несмотря на угрозы и скорое исполнение их, он последовал за своей подругой и госпожой.
Глава IIДОПРОС
А что, пытали? – Да! – Чем? кипятком, клещами?
– Словами!..
Но что пред ними зуб клещей, в огне смола
И всё, что выдумал ад в сердце человека!..
Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шёл Язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала выехать ему навстречу вельможная карета.
Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль её была о Мариорице.
«Милое дитя моё, – твердила она про себя, – не дадут мне злые люди насмотреться на твоё счастие… Ещё б только увидать тебя пристроенную за богатого, знатного Волынского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж? Я и теперь сделала всё, как мать, может быть, и то, чего б не сделала другая… Кабы ещё к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей!.. Хоть бы одну слезинку на лицо матери прежде, чем закрою очи!.. Нет, нет, страшно и подумать, что ты увидишь в цыганке мать свою, страшнее, чем смерть, на которую, может статься, меня теперь ведут! Я свила твоё благополучие высоко, высоко; не снесу его в грязь, не дам стоптать людям… Пускай казнят меня: на плахе прошепчу твоё дорогое имечко, буду молить Бога только о том, чтобы он при тебе заступил меня!..»
Цыганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу и шла спокойнее.
Мысли за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове её; вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней и всю её обхватило… сердце её то кипело, как разожжённая сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли её тайну?.. Может быть, сходство? Ужасное сходство!.. Не ведут ли её к допросу об этой роковой тайне… О! Никакие пытки не заставят её проговориться. Что ей муки? лишь бы о Мариорице помину не было. Неизвестность колебала её душу из стороны в сторону; смерть, смерть в груди бедной матери. Она торопилась, она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорей к развязке, и по временам молила Бога сохранить от беды только одну драгоценную голову.
Мариулу привели в один из мазанковых домиков, позади Летнего сада, принадлежащих к службам герцогским. При входе сдёрнули с неё шубу. Василия остановили у наружного крыльца: здесь он решился дожидаться своей куконы, хоть бы замёрзнуть. Через огромную нечистую переднюю, где стояли дрова, скамейка в инвалидном состоянии и непокрытое ведро с водой, ввели Мариулу в другую большую комнату другого содержания, но не менее мрачную. Продолговатый стол занимал средину этой комнаты по наклону пола, столь эластического, что, ступив на один конец доски, можно было заставить прыгать всё на ней стоявшее. Окна, запушённые на вершок морозом, пропускали в это домовище синеватый цвет. Кое-где по потолку свисла паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль чёрных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный Кювье по слоям пыли, их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, – так это зерцало, стоявшее на вощанке, посреди стола; но и этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своею тканью, и бесчеловечие, поместившее разные орудия пытки в боковой комнате, в которую дверь оставлена была, как бы с умыслом, полузакрытою. Это была полицейская канцелярия при доме герцога.
Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного допроса. Вид особ, представившихся её глазам, не более был утешителен. У стола на судейском месте сидел худощавый старик отвратительной наружности: рыжие космы падали беспорядочно на плечи, голова его, вытянутая, иссохшая, имела форму лошадиной, обтянутой человеческой кожей, с глазами гиены, с ушами и ртом орангутана, расположенными так близко одни от другого, что, когда сильно двигались челюсти, шевелились дружно и огромные уши и ёжились рыжие волосы. Глаза его то, останавливаясь неподвижно, принимали мёртвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонд, или схватывали без пощады слабую душу и держали её над бездной. Он был одет весь в красно-коричневое, даже до шёлковых чулок; богатые кружевные манжеты, закрывая кисть его руки, возбуждали подозрения, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него, сбоку стола, сидел молодой человек лет двадцати пяти, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было ни кровинки: мутные, безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то изученную таинственность: он весь похож был на недоговорённый смысл, означенный несколькими точками. Он держал нехотя перо в руках и смотрел более на бумагу перед собой, нежели на живые предметы, его окружавшие. Первый был достойный клеврет Бирона, обер-гофкомиссар Липман, второй – домашний секретарь их обоих и племянник последнего, Эйхлер, которого он воспитывал как сына и любил – для себя. Едва умея подписывать своё имя, Липман употреблял это живое орудие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле хотя в нём. И потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу; место кабинет-секретаря было у племянничка на мази.
Чудное это желание не умирать после себя на земле!.. Часто целое потомство, целый народ, человечество пожинает на том поле, которое засеяло самолюбивое или возвышенное чувство одного человека.
Под одну сторону зерцала поставили Мариулу, по другую – Языка: её, красивую, опрятную, в шёлковом наряде, по которому рассыпались золотые звёзды (мать княжны Лелемико унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато), её, бледную, дрожащую от страха; его – в чёрном холщовом мешке, сквозь который проглядывали два серых глаза и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор.
Начался допрос. Прелюдий уж хорошо объяснял, каков будет самый концерт.
– Смотри, цыганка! – сказал грозным голосом рыжеватый судья. – Уговор лучше денег: говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя.
Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулы, словно прошли по нём пилой.
– Не ведаю за собой ничего, – сказала она, собрав силы, – но о чём спросишь, господин, на всё готова отвечать.
(«Лишь бы не о Мариорице, – думала она, – о! об этой не заставит меня сказать полслова и то, что вижу в боковой комнате».)
– Ещё прибавка к нашему условию, если сознаешься скоро, в чём тебя обвиняют, то мы держать тебя долго не станем. Теперь к делу!
– Слушаю, господин!
– Вот видишь этого урода в мешке: он погубил несколько душ и доказывает, что ты дорогою из Москвы сюда была в коротких связях с его атаманом, который под именем малороссиянина Горденки пробирался в Питер, чтобы ограбить казну.
«А, – подумала цыганка, догадываясь, к чему подбирались допросчики, – слава Богу! Дело не о моём детище; после этого всё пустяки, вздор!..»
Тяжёлый камень свалился с груди её; блистающие радостью глаза и улыбка на устах ей изменили.
– Только? – невольно спросила она своего судью.
– Разве этого мало? Дружба с атаманом! Это ведёт вместе с ним на плаху. Язык, твоя очередь! Говори ж, что ты доказывал на неё. Как её зовут? Какие были у ней плутовские замыслы с атаманом?
Человек в мешке начал свой донос, искусно сочинённый, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обинуясь сказал бы, что это был он.
И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль Языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях с тем, которого хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами, – цыганку, умевшую понравиться и Волынскому, с которым она после смотра оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса? Не перешёл ли этот письменный доказчик в третьи руки, к врагу герцога?.. Личность его светлости с этой стороны не обезопасена; а кто не знает, что личность временщика идёт впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плечи два-три злодеяния!.. Скрутив её таким образом, можно её допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать: всё в воле герцога.
Повести это дело к желанной цели было поручено, как мы видели, хитрецу Липману.
– Правда, – отвечала с твёрдостью цыганка, – меня зовут Мариулой, правда и то, что малороссиянин – Бог знает, кто он такой, – полюбил меня за моё будто лукавство, часто говаривал со мною и…
– И передал тебе?.. – спросил, дрожа от нетерпения, Липман. – Ну, голубушка?
«Понимаю, – сказала про себя Мариула, – понимаю и всё открою. Что мне до чужих дел! У меня только одно дело на свете…»
– Велите выйти этому мешку, – примолвила она вслух, обратясь к судье, – я знаю, что вам надо.
Спокойствие и твёрдость, с которою она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допросам. Гроза, собравшаяся на лице обер-гофкомиссара, начала расходиться. Он дал знак Языку рукою, тот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твёрдостью:
– Вам надобна бумага Горденки, так ли?
– Да, да, моя голубушка! Бума… га, которую… но ты… догадлива, ты всё знаешь…
– Нет, господин, я ничего не знаю.
– Как ничего?.. – вскричал грозно допросчик. – Проклятая цыганка! Не ты ли сама?..
– Я не знаю, что в бумаге; но она…
– Ну?
Липман при этом вопросе приподнялся невольно со стула; глаза его вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть её тайну.
– Где? – прибавил он нетерпеливо.
– У меня, и со мною теперь, – отвечала цыганка.
Если б она сказала другое, старичишка растерзал бы её по клочкам; обрадованный ответом, он готов был расцеловать её.
Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, оборотилась к Липману спиной, вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом:
– Она ли?
Заворотив свои манжеты, Липман схватил трепещущей рукой пакет, сломил на нём печать и, передав его секретарю, задыхаясь, спросил также лаконически:
– Она?..
Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал её, кивнул утвердительно и, зевая длинною зевотой, отвечал:
– Она! – а потом стал пристально читать её.
Пока роковое слово не дошло до ушей старика, он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения; но ответ произнесён, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании:
– А!..
Не иначе произнёс бы это восклицание алхимик, найдя философский камень; вероятно, не иначе произнёс его Колумб, увидя первый берег открытого им Нового Света.
Тут лукавая Мариула, посвящённая Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся до Бирона, умела, не путая в них кабинет-министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага, как Горденко – атаман, что ли, она не ведала, – умолял, в случае смерти его, подать эту бумагу матушке-царице.
– Я обещала, – говорила она, – между тем у меня было на уме: коли Бог приберёт его, так запечатанный лист в печь, а то, статься может, напляшешься с ним, что и чертям до слёз.
– Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника; а то жаль было мне славной бабёнки. Зато и голова у тебя цела, да ещё жди милостей от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России – что я говорю, в России? – в подсолнечной! Барин добрый, щедрый, стоит только знать его.
– Как же, батюшка, – отвечала Мариула, – про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идёт…
Молодой человек едва-едва усмехнулся; но и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать.
– Теперь ещё два вопроса, – сказал Липман, – и если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю: ты с богатою обновой.
– Спрашивайте, господин!
– Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?
– Не видала.
– Не проговаривался ли он об ней?
– Никогда.
– Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?
– Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как – не пояснил мне.
– Теперь последний вопрос: о чём говорила ты наедине с Артемием Петровичем Волынским вчера, у него в доме?
Дух занялся у цыганки; бледнея и запинаясь, она отвечала:
– Ничего, господин… право слово, ничего…
– Гм! Ничего! Но ты бледнеешь и дрожишь?.. Ничего?.. Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или…
– Признаться, господин великий… божусь вам Богом, это нейдёт к вашему делу… пустячки…
– Если это пустячки, так зачем скрывать их?
– Я поклялась…
– Эй! Заплечный мастер! – закричал Липман.
Вошёл палач.
– О, когда дело дошло до этого, пытайте меня: не скажу!
При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку.
Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием её; наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки:
– Не ожесточайте её! Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волынского, если б их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство… просили её помощи… ведь вам уж сказывали… Любовное дело? Не так ли? – прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя её голосом и взором.
– Да! Больше не ждите от меня словечка, – отвечала Мариула.
– Давно бы так, голубушка, – подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав знак рукою палачу удалиться, – понимаю, понимаю… невеста хоть куда!.. ба, ба, ба, да она в тебя словно вылита!.. Не живала ли ты уж в Молдавии, у какого-нибудь господарчика?
– Полноте шутить, – отвечала с сердцем Мариула.
Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю.
– Что ж? Доброе дело? – продолжал иронически старичишка, – жених хоть куда! Богатый, знатный… свахе будут хорошие подарки…
Жених! Невеста! Слова эти стучали, как молот, в сердце бедной матери.
– В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное… смотри!.. – прибавил Липман значительно, погрозясь и показывая на губы.
– Умрёт в груди моей, – отвечала цыганка с твёрдостью, оправившись от своего испуга.
– Хорошо, я доволен! Да, да, ещё одно дельце?
– Приказывайте.
– Малороссиянин, атаман не атаман, назови его как хочешь, пропал…
– Так что ж, сударь?
– Малороссиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменён потом Горденкою, теперь налицо… Вот видишь, если узнают, что он пропадал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе, начнутся допросы… пойдёт путаница, в которую – долго ли до греха? – и тебя втащут… Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело… тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла… теперь разумеешь…
– И что за Горденко такой, и не ведаю…
– Те, те, те! Эка разумница!
– А подруга малороссиянина?
– О ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогою только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела, – всё под присягою сказали.
– И я тоже не прочь!
– Смотри!.. Знаешь, с кем будешь иметь дело!.. Живую зароем в землю…
– Тяните из меня по жилке клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволя болтать на свою голову? Может, ещё и пригодитесь на чёрный день.
– О, как же! Как же!.. Экое сокровище!.. Ну, не останешься, милочка, без награды от самого.
И, подражая самому, Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губами, так что в аду сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидиавольской улыбке, если только тамошние зрители могу любоваться игрою здешних собратов-актёров.
Этим кончился допрос. Мариула вместо ожиданной напасти понесла с собою лишний серебряный рублёвик да ещё уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав её живою и весёлою.








