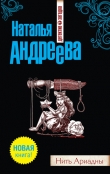Текст книги "Диктатор мира"
Автор книги: Андрей Ренников
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
VI
В этот день в Петербурге вспыхнули серьезные беспорядки. Огромные толпы народа с одиннадцати часов утра запрудили все главные улицы. На углах вокруг ораторов стали образовываться непроницаемые кольца из слушателей.
Городовых, именем конституции просивших не нарушать порядка, не слушали. Бессильны были патрули. Ничего не могли сделать отряды конных жандармов.
К часу дня распространилось известие, что озлобленная толпа рабочих, разгромив базар на Петербургской стороне, перешла Троицкий мост, направляясь к Мариинскому дворцу, где заседал Земский Собор. Над Невским проспектом стали реять многочисленные летательные аппараты, к которым были подвешены гигантские плакаты: «Вся власть Диктатору!», «Долой народных избранников!» Один из запасных батальонов, по ошибке не расформированный после недавней войны с Китаем, вышел на улицу, смешался с манифестацией. С огромными белыми знаменами, на которых было начертано: «Граждане, подчиняйтесь эдикту!», «Большая Охта изъявляет покорность», «Да здравствует Диктатор мира!» – шли процессии за процессиями.
За Ариадной на автомобиле заехала взволнованная Наташа.
– Со мною уже пять дам, Ади, – торопливо говорит она, объяснив вкратце цель своего посещения. – Хотя ты и не состоишь членом «Лиги прав женщины», но мы тебя проведем вечером в спешном порядке… Единогласно. Поедем? Мест в автомобиле двенадцать. Огромный… Нам нужно заполнить… Согласна? Прежде всего – к Николаевскому мосту… Там задержали манифестацию горничных… Мы должны образумить их, Ади! Мы должны успокоить их, Ади!.. Ведь если прислуга не перейдет на нашу сторону, ты представляешь, что будет? Не перейдут матросы. Не перейдут пожарные… Городовые дрогнут. Солдаты… Мы потеряем представительный строй, Ади! Мы потеряем гарантии, Ади! Ади, что же ты смеешься? Не хочешь? Ади! Неужели ты не наша? Неужели ты за него?.. Ади!
– За Диктатора? Да, Ната. Конечно. Я – за Диктатора.
– За узурпатора? За насилие над земным населением? Ади, подумай, что ты говоришь! Ади, постыдись! Ну, что же, едем? Послушай, ведь мы же, в конце концов, подруги! Одевайся… Потом будем спорить! Принципиально!
– Нет, Ната. Я ведь сказала тебе. Ясно, кажется.
Корельский зашел к Ариадне позже – около пяти. Предложил проехаться по городу.
– Лучше сиди дома, – тревожно уговаривает дочь Софья Ивановна. – Куда на улицу в такое время? Слышишь, крики, гул. Еще подстрелят.
– Не беспокойтесь, Софья Ивановна, – возражает Корельский. – Нигде никто не стреляет. Я буду осторожен, в случае чего… Обещаю.
До угла Каменноостровского и Большого проспекта кое-как добрались, нередко останавливаясь и пропуская процессии. Но через площадь нельзя и думать проехать. Живой стеной стоит густая толпа. Посреди, над ней, парит в воздухе на легком автоптере какой-то рыжий молодой человек, размахивает руками, выкрикивает:
– Граждане! Мы не имеем нравственного права повиноваться! Граждане, мы не имеем социального права подчиняться! Граждане, протестуйте! Граждане, объединяйтесь!
– Бей провокатора! – раздается в ответ несколько голосов. – Бей! Бей! – гудит площадь. В автоптер летят палки и шапки. Молодой человек поднимается выше, кричит что-то. Поднимается еще выше, опять кричит. И, потрясая кулаками, скрывается, наконец, за ближайшей крышей. А изможденная женщина в белом платке машет возле Ариадны костлявой рукой и неизвестно по чьему адресу вопит, вращая головой во все стороны:
– Правильно! Правильно!
– Дорогие друзья! – говорит, стоя на грузовом автомобиле, какой-то почтенный господин, тщательно выбритый, с золотым пенсне на носу. – Я понимаю ту нервную атмосферу, которая создалась среди вас благодаря необычным условиям двигательного и чувствительного паралича, созданного неизвестным таинственным насильником…
– Ты сам – неизвестный!
– В наш век гигантского прогресса во всех сторонах социальной жизни, мы не в силах повернуть колесо истории назад, как того требуют эдикты № 1 и № 2. Анализируя государственные правовые нормы настоящего времени и считая, что формальный правовой момент в благоустроенном государстве всегда гармонически связан с содержанием жизни, мы должны неизбежно прийти к заключению, что требование незнакомца чистейший нонсенс. Нас, конечно, можно подвергнуть столбняку, каталепсии, вызвать паралич. О, да. Но что отсюда следует? Что мы должны отказаться от идеалов общественности? От светлого будущего? Нет, друзья! Нам не по дороге с Диктатором! Будем терпеть. Будем лежать. Будем спать. Один час, две недели, год, пять. Не в этом дело…
– В этом!
– Не в этом дело, а…
– В этом! В этом! Никита, тащи его с машины!
– Пять лет! Я те полежу, бездельник!
– Спи сам, черт!
– Довольно!.. Довольно!..
– Братцы! – вскакивает на автомобиль какой-то парень в картузе. – Послушайте меня! Им, этим господам, хорошо говорить! Им, барам, хорошо поспать годик, другой! Он лежит, а проценты текут! А нашему брату? Рабочему? Мастеровому? Где у нас проценты? Где у нас капиталы? Для него, в канцелярии, на заседании, столбняк – как с гуся вода. Впадет – и спит. Никакого различия! А как мне, маляру? Или штукатуру и каменщику? С четвертого этажа – трах на улицу? Шею ломать? Жизнь губить? Я предлагаю исполнить приказания господина Диктатора! Они свое дело понимают! Они нас не обидят! В честь его сиятельсгва, уважаемого Диктатора мира, ура!
– Уррра!.. – гремит на площади. – Урра! – несется по улицам. – Ура! – осторожно кивает из окна соседнего дома какой-то интеллигент с тревожным лицом.
Заседания в этот день шли повсюду: в «Клубе мануфак-туристов-прогрессистов», в «Союзе возрождения социализма», в «Лиге борьбы с новым средневековьем», во всех профессиональных, политических, научных и спортивных объединениях. В «Американской гостинице» спешно был назначен банкет «Франко-русско-славянского общества», на котором должен был обсуждаться вопрос о помощи со стороны России Парижу, Праге, Белграду и Софии от угрожающего союзным столицам столбняка. В Городской думе постановлено было экстренно образовать для борьбы с двигательным параличом санитарно-медицинскую комиссию. Что же касается Земского Собора и ответственного перед ним кабинета министров, – то совместное заседание с правительством открылось в половине одиннадцатого и сразу же приняло бурный характер.
Крайними правыми уже в самом начале заседания был поставлен вопрос о доверии. До сих пор, около двух лет, все вопросы решались в Соборе в строгой очереди – то левым блоком, то правым. Благодаря равному числу депутатов в обоих блоках, перевес всегда давали три представителя одной из многочисленных новых православных сект – секты «Братьев-молчальников». По уставу секты, вступавшие в нее члены не должны были заниматься мирскими вопросами; но суровый закон 1943 года о принудительном избирательном праве не делал ни для кого из российских граждан исключения. Сидя молча в Соборе, не обмениваясь мнениями и не выступая с речами, фракция «Братьев-молчальников», чтобы не обидеть никого, давала свои голоса в четные числа месяца – левым, а в нечетные – правым. Сегодня, 22-го, следовало ожидать, что молчальники будут голосовать с левыми и поддержат правительство. Но вопрос о доверии, однако, неожиданно не получил разрешения: от баллотировки молчальники воздержались. И когда депутаты шумными криками справа и слева потребовали, чтобы воздержавшиеся мотивировали свой отказ от голосования в такой ответственный для жизни государства момент, старший брат-молчальник взошел на трибуну, поднял взор к небу, кивнул головою налево, кивнул направо, махнул рукой и спустился вниз при негодующем шуме парламента.
Не получив, таким образом, ни большинства, ни меньшинства, правительство к трем часам пополудни заявило устами министра-президента о своем уходе в отставку и отбыло. На площади возле Мариинского дворца весть об этом прокатилась в несметной толпе гулом грозного одобрения. Толпа стала напирать на дворец. Отряд конной полиции едва сдерживал озлобленную массу, по всей площади громче и ярче раздавались призывные крики:
– Вперед, братцы!
– Распустить их!
– Да здравствует Диктатор мира!
– Заседание российского парламента продолжается, – торжественно говорил, между тем, во дворце председатель Собора после того, как члены правительства покинули свои места. – Господа народные представители! В настоящий момент судьба России в наших руках. От мудрости нашей зависит спасти отечество от грозящей опасности или ввергнуть его в пучину бедствий, бросив под ноги неожиданного мирового тирана. От городов и земств мною уже получены со всех концов необъятной родины многочисленные приветствия от городских дум, земских управ, различного рода общественных организаций. Они вдохновят нас на дальнейшую работу. Разрешите огласить?
– Просим!.. Просим!
– От московского городского самоуправления:
«Московская городская дума, придерживаясь славных традиций своего великого прошлого, горячо протестует против насильственного акта в виде эдиктов № 1 и № 2, попирающих все права человека и гражданина, сводящих на нет достижения Великой французской революции. Гордая российская общественность никогда не примирится с чьими бы то ни было попытками посягнуть на суверенную волю русского народа. Народные избранники, вся Россия смотрит на вас! Будьте сильными до конца, будьте смелыми до последнего шага, Москва с вами! Городской голова Иван Лодочкин».
– Урра!..
– Послать благодарность!
– Просим!
– От тверского губернского земства: «Только республиканский строй, основанный на высших началах гуманности, справедливости, прогресса, морали, науки, техники, литературы, поэзии, музыки, спорта и эмансипации женщин может привести нашу дорогую родину к светлому и счастливому неизвестному будущему. Не уступайте насилию! Председатель губернской земской управы князь Тиг-ровский». Из Гомеля от Союза аптекарских учеников: «Мы, аптекарские ученики города Гомеля, заслушав на общем собрании возмутительные эдикты узурпатора, категорически, всем существом протестуем и требуем немедленного прекращения насильственных действий против вселенной. Председатель союза Абрам Ципельман». От харьковского совета присяжных поверенных…
– Просим огласить, кто за Диктатора! – раздался вдруг возглас с крайней правой. – Профессора и студенты согласны на роспуск!
– Не мешайте председателю читать!
– Просим огласить! Это нечестно!
– Оскорбление председателя! Недопустимо!..
– От кустарей прочтите! От кустарей!
– Прошу высокое собрание… – звонит председатель.
– Прошу…
– Долой!
– Позор! Позор!
– Долой!
К половине десятого вечера зал заседания превратился в бурно-кипящий котел из человеческой массы, потрясавшей руками, стучавшей пюпитрами, что-то кричавшей. Председатель непрерывно звонил, приставы сновали по залу, стараясь не допустить резких эксцессов. И в это самое время на площади, глухо рычавшей ввиду приближения зловещей ночи, судьба народовластия была решена. Бодрым, привычным шагом к площади подошел гвардейский экипаж в полном составе для изъявления покорности Диктатору мира, и осмелевшая толпа ринулась во дворец, проломив тяжелые двери.
– Долой народную волю! – кричал бравый радиотелеграфист, изменивший сегодня утром своей партии и ставший во главе проникшего во дворец вооруженного отряда.
– Немедленно распуститься!
Этот крик гулко раздавался вокруг, так как депутатов в зале уже не было. Только за центральными тремя пюпитрами спокойно сидели три брата-молчальника и молча смотрели на вошедших.
– Депутаты? Составляй телеграмму! Живо!
Младшие братья закивали в ответ головами, радостно показывая руками на старшего. А старший поднялся на председательское место, достал из кармана карандаш, бумагу, посмотрел счастливыми глазами на зияющие депутатские места, облегченно поднял глаза кверху, перекрестился и написал:
«Его Мировому Величеству Диктатору Мира.
От имени двухсотмиллиониого населения России изъявляю покорность.
Фаддей Чубуков, депутат бугурусланский».
VII
Жуткие дни наступили в западной Европе.
Представительные учреждения, существовавшие повсюду в виде уступки правящей социалистической партии старым европейским демократическим принципам, в вопросе о подчинении эдиктам таинственного Диктатора слились с социалистами в общем порыве негодования. Были забыты принципиальные несогласия, оппозиционные настроения, расхождения во взглядах на ограничения права собственности, права торговли, на национализацию крупных предприятий, которую социалистические правительства из года в год проводили в порядке систематической постепенности.
День 22-го мая прошел тревожно во всех столицах. Как и в Петербурге, всюду были многочисленные митинги, заседания, собрания. Огромные толпы манифестировали на улицах. Многочисленные ораторы – на автоптерах, на автопланах, в аэробусах, на улицах, на подземных дорогах – призывали народ сплотиться, не уступать насильнической власти узурпатора.
Но, в противоположность Петербургу, где против народных избранников выступили рабочие, армия, флот и монархически настроенная молодежь, – здесь, в Европе, уличная толпа вела себя сдержанно, неопределенно, не высказываясь ни за Диктатора, ни против него. В Берлине произошло несколько несчастных случаев из-за давки автопланов возле Рабочего дворца; в Париже оказались растоптанными несколько человек на центральном рынке, куда парижане с утра бросились закупать пищевые продукты.
К двенадцати часам ночи ни один европейский парламент не сдался. Рейхстаг и Рабочий Государственный совет закрыли совместное заседание в час дня, постановив оказывать пассивное сопротивление насилию. Французская Палата депутатов, совместно с Рабочим сенатом, вынесла резолюцию о передаче вопроса на арбитраж Лиги Наций. Что же касается английской Палаты общин и Палаты рабочих, то члены обоих учреждений днем спокойно разошлись по домам, а к позднему вечеру вернулись обратно в палаты, в глубоком молчании расположились на своих местах, без пяти минут двенадцать погасили свои трубки и, пропев: «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом», – впали в глубокий сон.
Прошло две недели. В Петербурге – оживление, жизнь идет своим чередом. Интеллигенция быстро приспособилась к новой политической конъюнктуре. Крайние левые, лишенные возможности заниматься политикой, принялись за составление мемуаров и собирание архивов; крайние правые, лишенные той же политической возможности, стали свободные часы посвящать детальному изучению российской истории, географии, этнографии.
В России укрепилась твердая власть, население вернулось к обычной мирной трудовой жизни. А в Европе – смятение. Глубоко спят столицы, глухо ропщут провинции. Каждый день, в час пополудни по гринвичскому времени, оживают Берлин, Париж, Лондон, Рим. Пользуясь двухчасовым перерывом, многие бегут вглубь страны, захватив что можно из домашнего скарба. В аэробусах, на железных дорогах, начинающих действия к этому времени, места берутся с боя, пассажиры сидят на крышах вагонов, висят, ухватившись за подножки поездов-цеппелинов.
Идти пешком решаются немногие. Район паралича не ограничивается только территорией столиц. На полтораста километров вокруг – все города и села испытывают участь центра: каждый день впадают в сон, каждый день возвращаются к жизни только на два часа. Постепенно пустеют столицы, наглухо заколачиваются оставляемые жильцами квартиры. Но сотни тысяч – все же упорно держатся, не желая оставлять громоздкого имущества, продолжают переносить бедствие, лихорадочно снуют по улицам, стараясь успеть в перерыве закончить самые необходимые свои дела. Бойко торгуют магазины, базары. Спешно жа-рять и варят хозяйки, чтобы накормить детей и мужей. На французских бульварах происходит торопливый флирт с расчетом на прекращение к трем часам дня. На площадки лондонских спортивных обществ слетаются молодые люди, делают быстрые физические упражнения, перебрасываются мячами и несутся обратно, чтобы поспеть домой к началу паралича.
Наиболее состоятельные обитатели столиц, имеющие собственные летательные аппараты, пытались вначале приспособиться к новым условиям. Отлетая после часа дня далеко за пределы зловещей зоны, они возвращались в город значительно позже трех часов, когда все уже было погружено в сон. Но уловка оказалась бесцельной. Как бы в предвидении этого, ежедневно, в разное время, на столицы добавочно направлялась неожиданная волна столбняка, не изменявшая состояния уснувших, но повергавшая в сон всех вновь прибывших в столицу. И обстоятельство это не только ликвидировало попытки обойти наказание, но сразу остановило наплыв на спящие города праздных любителей зрелищ, сократило налеты газетных корреспондентов.
На третьей неделе сдались все небольшие державы, за исключением Швейцарии. Изъявили покорность и согласились на условия обоих эдиктов: Чехословакия, Румыния, Дания, Швеция, Норвегия, Югославия, Болгария, все южноамериканские республики. Греция, признавшая Диктатора уже в конце первой недели, в начале второй, благодаря смене правительства, отказалась от данного слова; в конце второй – снова признала, к началу третьей опять отказалась и окончательно согласилась подчиниться только на пятой неделе. Париж, Лондон, Берлин, Рим, Вашингтон продолжали сопротивление. Правительства, для руководства политической жизнью, перебрались в провинциальные центры; но члены палат, советов и сенатов оставались в столицах, опасаясь своим переездом навлечь столбняк на новые места и вызвать этим взрыв негодования во всей стране.
Однако, пока европейские и американские народные избранники упорно пребывали в состоянии оцепенения, научная мысль в провинциальных городах лихорадочно работала над раскрытием тайны неведомого мирового тирана. Из наблюдений над находившимися в параличе столичными гражданами было строго установлено, что явление это аналогично каталептическому состоянию во время гипноза и получается от действия на организм какого-то неведомого физического раздражителя. Установлено было также, что излучение неизвестной энергии, приводящей к каталепсии, происходит в направлении с юго-востока на северо-запад; случай с Миттенвальде, где северо-западная часть города была погружена в сон, в то время как юго-восточная оказалась незатронутой, с очевидностью доказывал это. Кроме того, знаменитые французские психофизиологи Жан Мартэн Леско и Альфред Бите, засыпая на противоположных окраинах Парижа и отмечая момент потери сознания при помощи самопишущих приборов, нашли, что действие неизвестного раздражителя постепенно начинается в юго-восточной части города и передвигается на северо-запад, охватывая всю столицу только по истечении нескольких секунд, а именно: minimum – 3,1545 сек., maximum – 7,0024.
Приблизительно те же результаты относительно направления радиотелеграфной волны были получены немецки-мн физиками Гуго Мерцем и Беннэ Мейером, сделавшими по способу Штольцмана одновременные засечки во время получения эдикта № 2 на радиостанции в Ганновере и в Мюнхене. Как и французские психофизиологи, Мерц и Мейер утверждали, что местопребывание самозваного Диктатора находится на юго-востоке от Европы, а именно – в Тихом океане, около Марианских островов. Но в то время, как радиотелеграфная волна шла в Берлин по линии – Фюр-стенвальде, лаборатория «Ars», Киев, Тибет, Формоза, Марианские острова, – каталептическая волна двигалась на Париж со стороны островов Фиджи, нигде на востоке не пересекаясь с направлением Марианские Острова – Берлин. Возникший на этой почве спор между французскими и немецкими авторитетами был горяч и упорен, так как нельзя было допустить, чтобы узурпатор власти телеграфировал с Марианских островов, а производил каталепсию с островов Фиджи, отделенных друг от друга более чем на 4000 километров. Не много ясности внесла в этот спор и примирительная прагматическая гипотеза английского психолога Джемса Купера, согласно которой самозваных диктаторов было два.
VIII
Настроение у Софьи Ивановны весь этот месяц было радостное, праздничное. Несмотря на свои 65 лет, она участвовала в торжественных крестных ходах, устроенных петербургским духовенством по случаю принятия императором всей полноты самодержавной власти, ходила встречать царя, переехавшего из Ливадии в Петербург и принятого восторженной столицей с небывалым энтузиазмом.
В связи с событиями Ариадна, как будто, тоже немного повеселела. Все, что произошло, вполне совпадало с ее мечтами о восстановлении былого могущества России, о возвращении родины к прочным историческим традициям. В личной жизни Ариадны за это время произошло также несколько приятных событий: генерал Горев устроил ее дик-тофонисткой в Главный штаб; Корельский, раздражавший своей назойливостью и прозрачными намеками на нежные чувства, улетел по делам в Париж. И, наконец, что, может быть, самое главное – она несколько раз наедине говорила с Владимиром, который сам вызывал, долго задерживал у телефона, жаловался, что настроение у него сейчас почему-то тяжелое, подавленное.
Говорили о политике, о посторонних вещах… Но по тону голоса видно: действительно грустит. Действительно тоскует… А это так хорошо!
После службы, за вечерним чаем, Ариадна читает вслух газеты. Софья Ивановна слушает. Часто просит разрешения присоединиться к ним во время чтения и Владимир Иванович. Никогда еще в печати не бывало сведений столь любопытных, сенсационных, захватывающих. Во Франции, Германии и Англии, в связи со столбняком, стали выходить новые газеты: «Le Sommeil», «L’homme dormant», «Ka-taleptische Zeitung», «Sleeping News». И все, что печаталось в них, было жутко, загадочно, таинственно.
Однажды вместе с Владимиром читали вечерний выпуск «Крестьянина». В отделе, посвященном заграничной жизни, была помещена заметка под заглавием: «Страшная смерть в Тихом океане». В ней говорилось, что около середины июня японское товаро-пассажирское судно «Сим-бун», вышедшее из Нагасаки в Австралию, не пришло согласно своему расписанию в Сидней и, ввиду свирепствовавшего в районе Каролинских островов тайфуна, считалось погибшим. 22 июня, однако, английский крейсер «Уор-кер», подходя к острову Эндербери в Полинезии, встретил «Симбун», качавшийся на волнах в открытом океане без признаков управлений. Оказалось – вся команда и все пассажиры судка были мертвы. Никаких признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Матросы найдены почти в том положении, в каком находились во время работы. Окоченевшие пассажиры сидели за столом в кают-компании, некоторые найдены утонувшими в холодном бассейне во время купания, большая группа приняла смерть в зале фонокинематографа во время демонстрации фильмы…
– Может быть, Диктатор? – испуганно прерывает дочь Софья Ивановна. – Дальше не говорится, Адик?
– Сейчас… Погоди.
Ариадна смотрит в газету, отыскивает место, на котором остановилась, внезапно бледнеет.
– Я так и знала… Арестован!..
– Кто арестован? Что с тобой? Адик!
– Штральгаузен!..
– Штральгаузен? – с любопытством переспрашивает Владимир Иванович. – За что? Интересно! Прочтите, Ариадна Сергеевна… Если не очень расстроены.
– Расстроена? Да, мне, конечно, неприятно. Мы с доктором большие друзья.
– Ну вот еще, друзья! Читай, Адик, читай. В чем дело? А?
Огромная корреспонденция… Из Франкфурта на Одере. Вначале – подробности ареста. 25 июня, около 4 часов дня, на своем аэроплане после почти полуторамесячного отсутствия вернулся в лабораторию «Ars» доктор Штральгаузен. Вид у него был измученный, жалкий; на вопросы помощника и служащих отвечал рассеянно, бессвязно; по прибытии тотчас же отправился к себе в кабинет, заперся на ключ.
Милиция прибыла через двадцать минут на служебном аэробусе из Франкфурта и окружила лабораторию, заняв все входы и выходы. Отвезенный во Франкфурт, Штральгаузен был подвергнут допросу, держал себя сначала презрительно-спокойно, затем вдруг в резком припадке заявил, что его никто не смеет задерживать, так как в его власти уничтожить население всего Земного шара и, наконец, разрыдался, заявив, что никакого отношения к Диктатору мира он не имел и не имеет.
Улики против Штральгаузена оказались, однако, очень серьезными. В следственном материале, собранном за последний месяц, находилось, между прочим, указание, что еще в ноябре прошлого 1949 года, недалеко от лабораторий «Ars», в местечке Шлабен, местные жители с удивлением наблюдали у себя ежедневно, в разное время дня и ночи, странное нервное недомогание, временами переходившее в состояние легкого паралича. Известие это, сообщенное франкфуртскими газетами, не обратило на себя достаточного внимания остальной периодической печати. Однако, ныне свидетельскими показаниями установлено, что именно в эти дни доктор Штральгаузен без всякого повода посещал Шлабен, вел беседы в местными жителями, интересовался всем, что касалось их жизни.
Отсутствие арестованного во время появления эдикта № 2 и нежелание дать ответ о своем местопребывании в последние полтора месяца усугубляло подозрения властей. Под сильным конвоем доктор Штральгаузен был перевезен из Франкфурта в Мюнхен, где находится в настоящее время бежавшее из Берлина германское правительство. Но, к всеобщему удивлению, после секретного допроса, произведенного самим Прокуратором республики, арестованный был немедленно освобожден и, в сопровождении германского верховного Комиссара по морским делам, вернулся в лабораторию «Ars». Всю ночь с 26-го июня на 27-ое верховный Комиссар провел в кабинете доктора. А 27-го июня, рано утром, сев в свой аппарат, доктор снова внезапно исчез, окутав весь прилежащий к лаборатории район газом небулином, чтобы избежать погони аэропланов многочисленных газетных корреспондентов.
В начале июля в Петербург вернулся Корельский. Очевидно, обиженный чем-то, он зашел к Ариадне только через несколько дней после возвращения и пробыл недолго, всего около часа.
– Ну, как в Европе? – спрашивает Софья Ивановна. – Я читала, что Испания приняла условия. Говорят, большие междуусобия были?
– Да, в Мадриде ежедневно шел бой на улицах, – сухо отвечает Корельский. – Просыпались к часу дня, схватывались за оружие и дрались, пока не засыпали… А что у вас нового, Ариадна Сергеевна? Я, между прочим, вызывал вас несколько раз по нашему телефону. Но почему-то никогда не заставал.
– Да, я теперь служу. Возвращаюсь только к шести. Устаю.
– Все-таки служите? Охота вам! А мне предстоит на днях опять поездка. На тайный съезд европейских физиологов в Лейпциге. Будем обсуждать возможные меры борьбы с каталепсией. Этому насилию, действительно, нужно положить конец.
– Конец? – обидчиво удивляется Софья Ивановна. – Совершенно напрасно, дорогой мой. Нужно, наоборот, благодарить Бога, что все это началось, а вы говорите – конец.
– Насколько я помню, вы стояли раньше за абсолютизм, Глеб Николаевич… – говорит Ариадна, насмешливо взглядывая на Корельского. – Откуда вдруг такая перемена? Ведь не так давно это было…
Корельский краснеет.
– Да, это было, Ариадна Сергеевна. Но я стоял не за подобное возмутительное обращение с людьми. Я предполагал естественный внутренний переход к самодержавию, а не насильственный, извне. У человечества, согласитесь, все-таки должно быть какое-то достоинство.
– У человечества? – восклицает Софья Ивановна, не дав Ариадне возможности возразить. – Никакого! Я вам скажу, миленький: теперь, в наше время, даже отдельный человек и тот часто не понимает, где у него достоинство, а где простое свинство. А вы… ишь куда хватили: человечество! Нет, нет. Дай Бог ему здоровья, Диктатору. Молодчина он!
Когда Корельский ушел, Софье Ивановне стало неловко, что спорила она слишком решительно, пожалуй даже, несколько резко. И стала упрекать Ариадну:
– Ты слишком холодна с ним, Адик. К чему такой насмешливый тон, пренебрежение? Я понимаю, он может тебе не нравиться. Да. Я сама сильно разочаровалась. Но не забывай, сколько он сделал для нас тогда, в Берлине. И при переезде сюда. Нужно быть вообще снисходительнее, Адик, терпимее.
– Что же делать, мама, если он мне противен? Я официально с ним вежлива… Достаточно этого.
– А в Народный дом отказалась идти? Пойди, Адик, Бог с ним! Тем более, сама хотела, а одной все равно неудобно… Провожатый будет.
Ариадна улыбнулась, ничего не ответила. Но когда на следующий день вернулась со службы, Софья Ивановна объявила, что Корельский через час заедет.
– Ведь я же отказалась вчера? – хмурится Ариадна. – Как же так?
– Ты не сердись, Адик… Но знаешь, виновата, в сущности, я. Я сказала, что ты не идешь со мной к Горевым и согласна послушать ораторию… Адик, не делай таких глаз! Мы обязаны быть вежливыми с теми, кто к нам хорошо относится… Ну, Адик… Прости! В последний раз, честное слово! Ведь вот язык… Сама не знаю, кто меня тянул? Ах, Господи, Господи!..
На территории Народного дома, в глубине, там, где некогда была обширная пустая площадь, отведенная под балаганчики, рестораны, открытые сцены, бараки для танцев, теперь красуется величественное здание с громадными залами, с зимним садом, с аудиториями для устройства докладов и диспутов. Тут помещается специальный театр без сцены для слушания европейских радиоконцертов и радиозаседаний; здесь находится темный зал под названием «Шумы Земли», куда передаются звуки радиотелефона со всех концов земного шара, где в ослабленном виде можно услышать одновременно жуткий гул земных столиц, прибой морей, свист ветров, песни, музыку, богослужения, рев народных скоплений, крик о помощи с тонущих в океане судов.
Тут же, в центре здания, и специальный амфитеатр для духовных собраний. Днем обычно происходят диспуты про-поведвиков всевозможных религиозных сект, отчасти недавно возникших, отчасти возродившихся из глубин первых веков христианства. По вечерам – идут духовные концерты, охотно посещаемые петербургскою публикой.
Корельский, к неудовольствию Ариадны, взял отдельную ложу. Глухие перегородки отделяют ее от соседних; впереди, над барьером, тяжелые портьеры, спускающиеся в обе стороны, подхваченные наверху шнуром с массивною кистью.
Она чувствует: сегодня будет что-то решающее. Он готовится говорить… Видно по напряженному выражению лица, по неприятной задумчивости глаз. Но отчасти хорошо. Чем раньше, тем лучше. Пусть узнает раз навсегда. Пусть услышит, если сам до сих пор не догадывается.
– Последний раз! – твердо решает про себя Ариадна. Она отодвигает от Корельского кресло, садится ближе к барьеру, осматривает огромный круглый зал театра. Со всех сторон, выше и выше, – притихшие слушатели, тысячи застывших фигур. Скоро начало. Идет оратория «Верую».
Наверху, где обрывается последний ряд, – вместо плафона – круто поднимающийся к центру гигантский балдахин, скрывающий хоры и места для оркестра. Постепенным закатным угасанием меркнет свет. Яркими звездами просвечивают сквозь балдахин многочисленные огоньки невидимых оркестровых пюпитров.