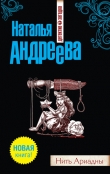Текст книги "Диктатор мира"
Автор книги: Андрей Ренников
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
VI
Обычай делать визиты первого мая получил давно распространение во всей Европе. Не только правящие социалистические круги, но оппозиционная демократия и даже непримиримые тайные роялисты и члены нелегальных противоправительственных лиг восприняли первомайский обычай. Ариадна в этот день с утра принимала визитеров и до изнеможения варила в электрическом кофейнике кофе, сама принося, унося и промывая стерилизатором чашки. Как известно, декретом Прокуратора республики уже три года как воспрещено гражданам пользоваться трудом наемной прислуги.
Чтобы избежать визитеров, Софья Ивановна с полдня отправилась в город, намереваясь, между прочим, зайти к баронессе Остерроде взять одолженный ей номер поваренного журнала «Автокулинар». За время отсутствия Софьи Ивановны у Ариадны перебывало визитеров немало. Залетал председатель союза кельнеров, Herr Шмидтен, изящный молодой человек, рассказавший о всеобщем увлечении Европы новым шампанским «Универсаль», приготовляемым из искусственного алкоголя и антрацита. Были Herr Брандт, простодушный глава рабочего союза «Мясные консервы», Herr Кунце, чиновник комиссариата воздушных дорог, знакомый Бениты; было еще много других: доктор Штейн вообще пользовался симпатией и демократических кругов и правительственных сфер, как лидер партии правого социалистического центра в Рейхстаге. И круг знакомств его был довольно разнообразен.
От баронессы Софья Ивановна вернулась в сопровождении Штральгаузена. В это время Herr Кунце, пересидевший других визитеров, мучил Ариадну своими рассуждениями о современном искусстве и подробно передавал содержание серьезных драматических пьес, которые видел в последнее время.
– Ну, и что же? – равнодушно смотрела Ариадна на пестрый галстух Кунце. – Кончается все хорошо?
– Если бы хорошо, Gnadige! Но в том-то и дело: содержание великолепно, а финал глуп. Стоило тратить деньги на одну женщину, чтобы жениться потом на другой? Рецензент «Arbeiter Tageblatt» прав, что такие пьесы демора-лизующе действуют на хозяйственные способности зрителя… Конечно, пьеса, если и привлекательна, то только трюками. Удивляюсь, например, как этот Альберт, возлюбленный Минны, бросаясь с потолка зрительного зала на сцену, не разбивается! А в цирке бываете?
– Нет… Несколько лет, кажется, не была…
– Очень жаль! «Circus Maximus» сейчас великолепен. Возьмите хотя бы осла Джимми, который решает задачи на составление уравнений с двумя неизвестными! А доктор Краген? Политический эксцентрик, как его называют?.. Удивителен! Кто угодно из публики дает тему, и он, представьте, сразу произносит блестящую парламентскую речь. С цифрами, с аргументами, с историческими справками. И для какой угодно партии. Кстати, может быть, соберемся сегодня вместе? Жалеть не будете, Gnadige!
– Нет, благодарю… Как-то нет настроения…
– А в «Рабочий дворец»? Сегодня – пантомима «Роман в фаланстере»… Погодите, что еще дают? Я помню репертуар: в Opernhaus'е «Капиталист-скиталец»… В оперетте Тиргартена «Превращение элементов». В оперетте Куно «Машина Мюнхгаузена». В драматическом в Шарлоттен-бурге, кажется, мелодрама «Дитя металлиста»… В фоно-кино-Паласе – «Загадочный девятиугольник…» В фоно-киноКазино…
– Здравствуйте, доктор, – обрадованно произнесла Ариадна, прервав вдохновенные перечисления молодого человека. – Мама, была у баронессы?
– Да. Мы вместе оттуда. Взяла журнал…
Не добившись согласия, Негг' Кунце грустно откланялся. Софья Ивановна отправилась на кухню. И Ариадна осталась в гостиной с доктором.
– Вы простите, что я против правила, – печальным, несвойственным для него тоном проговорил Штральгаузен.
– Теперь пять минут четвертого, а ведь в три все визиты без приглашения кончаются… Но я бы хотел, Frau Ариадна, сегодняшний вечер обязательно провести у вас. Мне, в общем, очень нехорошо…
Он был неузнаваем. Где обычная самоуверенность? Снисходительность? Покровительственное отношение к собеседнику?
– Ну конечно! – дружески произнесла Ариадна. – Вы ведь знаете, какое удовольствие доставляют ваши беседы… А что с вами? Неприятность какая-нибудь?
То, что всегда так не нравилось в нем, – сейчас как будто исчезло. И ей представилось: если бы он был всегда таким… Простым… Гениальный ум при отсутствии рисовки, при искренности, при интересной внешности…
– Неприятность? – поднял он на нее грустные глаза. – Я сам не знаю… Да, конечно, неприятность. Даже больше: горе. Нет, нет! – вскочил вдруг он, страдальчески улыбаясь. – Счастье! Я пойду дальше! Я сделаю больше! Но только…
Он сел. Сидел долго молча, опустив голову, не двигаясь. Затем посмотрел на нее… Совсем не тем взглядом, который ей всегда бывал так неприятен. В этом взгляде сейчас – как будто надежда на что-то, тоска в то же время…
– Вы понимаете, Frau Ариадна, – заговорил он наконец, – несмотря на то, что меня всюду так ценят, оказывают знаки внимания, уважения… Мне некому даже открыться. Некому рассказать о том внутреннем, что происходит в ответственные минуты. У меня нет друга! А когда голова кружится… Когда вдруг или блеск… Или неудача… Вроде смерти… Провал на всю жизнь… Когда… Например…
– Доктор… Что с вами?
– Нет, нет. Сейчас пройдет. Нет, нет.
Он закрыл глаза, виновато улыбаясь и мягко проводя ладонью по виску, точно успокаивая его. Что случилось? Ариадна никогда не питала к Штральгаузену большого расположения. Но сейчас он был так несчастен… Так подавлен… Горем? А, может быть, радостью? Действительно, ведь он одинок… Замкнут… Она об этом раньше не думала…
– Вы не хотите? – спросил вдруг он тихо, с искривленным лицом, которое сделалось таким детским, беспомощным. – Вы откажетесь? Нет?
– В чем дело? Доктор…
Ариадне стало страшно.
– Вы рассмеетесь? Вот, если я скажу: будьте другом. Моим… Навсегда…
– Мы ведь и так, доктор…
– Нет, нет. Совсем. Чтобы бежать. Бросить все. Я прокляну это… Лабораторию. Славу. Не надо ничего… Не нужно больше. Материя… Энергия… Ужасные волны… Пусть будут прокляты! Душа есть, Ариадна, есть!.. Вот, у вас – у вас… Я ее вижу… Большая. Неизвестная. И у себя… нашел. У себя! Сегодня… Весь мир берет у меня волны… Материю. А кому – она? Хотите, Ариадна? Возьмете?
– Доктор…
– Не полюбите? Нет? И не смейте! Я неискренен. Да! Не все говорю! Да, да! Скрываю. Честолюбие… Тщеславие… Прогнил в них… Насквозь. И души, может быть, нет. Ну, отлично! Ясно. Прощайте!
– Доктор… – протянула руку Ариадна, – вы хороший, славный… Когда вы успокоитесь, тогда…
– Не полюбите?
– Доктор… Не надо этого…
– Не надо?.. Да, да… Да, пора. Ведь, теперь четверть… Извините – задержал. Прощайте, Frau Штейн!.. Очень рад был… До свиданья!
Наступал вечер. Сгущались сумерки. Ариадна сидела в мягком кресле у окна, при свете электрического городского солнца дочитывала недавно вышедшую в свет книгу Штральгаузена. Уже около месяца, как он поднес ей этот экземпляр, снабдив его длинным витиеватым автографом.
Но до сегодняшнего дня она успела прочитать только предисловие президента Академии наук, введение самого автора и несколько первых глав. Называлась книга: «Колебания от нуля до бесконечности» и, судя по первым главам, была как будто сухой, специальной. Но со второй части начинались любопытные мысли. В главе «Новые виды энергии» Штральгаузен развивал предположения о том, что человеческий организм в скрытом виде воспринимает все колебания эфира в обе стороны от светового спектра. Если сотни биллионов колебаний нами ощущаются, то почему не ощущаются десятки биллионов? Биллионы? Миллионы? Осязание, быть может, и есть то ощущение, которое соответствует одной из групп этих волн? Внутренние органы тела, быть может, тоже специфически реагируют на эти низшие эфирные волны, точно так же, как глаз реагирует на световую группу лучей? А если так, то нельзя разве предположить, что и все наши аффекты, и все настроения, и ощущения здоровья и ощущения слабости – результат воздействия невидимых физических раздражителей? Этих неизвестных лучей ниже световых и выше световых – до бесконечности.
Аппарат, над созданием которого, судя по заявлению в книге, работает теперь автор, должен дать возможность получить все эти колебания в постепенной градации. Нет сомнения, утверждает Штральгаузен, что после опытов с воздействием подобного аппарата на живые организмы можно будет добиться грандиозных открытий. Определить, какие колебания приводят мертвую клетку к жизни, какие вызывают стремление к питанию, к размножению. И, быть может, будет найдена та группа, подобно колебаниям света, которая производит иннервацию, возбуждает нервную ткань, разрушает ее, дает в конце концов то, что мы называем мыслью?..
– Аппаратом вызывать мысль!.. – задумалась Ариадна, опустив книгу на колени. – Аппаратом оживлять мертвую клетку… Возбуждать и разрушать нервную ткань… Как смешно было читать это хотя бы десять лет назад, до открытия Штральгаузеном искусственного уничтожения материи!
А между тем… Странно, что могло его сегодня так взволновать? Она, конечно, давно замечала… Старалась делать вид, что не видит…
– Прости, дорогая, что опоздал, но это проклятое официальное положение…
Ариадна обернулась. Голос Отто! Разве пришел?
– Отто!..
В ответ ничего. Ариадна с тревогой встала, прошла в переднюю, заглянула в кабинет, в спальню.
– Мама, ты слышала?
Она стояла возле кухни, дверь которой выходила в конец передней. У электрической плиты что-то месила и лепила Софья Ивановна.
– Что, Адик?
Софья Ивановна низко нагнулась, с интересом разглядывая тесто.
– Ты слышала голос мужа?
– Да. Он в гостиной?
– Нет его! А что ты слышала?
– Не разобрала. Как будто извинялся, что поздно… А что?
– Ничего… А где твой аппарат?
– Владимира Ивановича? Тут… На полке… В чем дело? Разве Оттомар не вернулся?
– Нет…
Софья Ивановна удивленно посмотрела на дочь, повернулась, усиленно стала искать что-то на столе.
– Не понимаю в таком случае, Адик. Вот, может быть, у окна… Пролетал? В окно крикнул?..
– Ты думаешь? Может быть…
Успокоенная Ариадна вернулась в гостиную. Сумерки кончились, но она не зажигала пока электричества. В открытое окно, выходившее на улицу, видны соседние площадки и крыши домов, высится вдали обвитый электрическими лампочками купол Рабочего дворца, горят вертящимися фонтанами фейерверка верхушки бывших фабричных труб. И наверху воздух – в бесшумной огненной буре. Распадаются бледные луны, падают разноцветные звезды, взад и вперед мчатся молнии, ударяя среди визга и хохота в аппараты, украшенные световыми гирляндами.
Шум и говор повсюду – в небе, на улицах, на крышах с площадками. И среди хаоса электричества и гула человеческих жизней – сверху и снизу неотвязная музыка, скачущий мотив модного танца «Dog-Love».
– Ну, иди ко мне… – произнес сзади Ариадны обиженный голос баронессы Остерроде. – Я прощаю…
– Сознаешь, что глупо? – рассмеялся Штейн. – Ну, то-то же!..
Ариадна обернулась. Со страхом оглядывала пустую комнату.
– Если ты будешь так со мной разговаривать, я опять замолчу! – снова послышалось громко рядом. – Сядь сюда… Поцелуй руку!
– Только руку?
– Пока. Значит, домой не заезжал?
– Нет.
– А к Frau Гомперц?
– Тоже.
– Клянешься?
– Какая смешная! Конечно, клянусь.
– В таком случае, можешь сюда… И сюда. Погоди, какой нетерп…
Слова оборвались. В гостиной, разрезанной на яркие части ближайшим солнцем, трепещут в прорывах огни фейерверка. Тень какого-то аппарата прочертила на полу черный угол, исчезла. Наверху звуки «Dog-Love» сменились веселым маршем.
– Мама!
Ариадна выбежала, столкнулась в передней с Софьей Ивановной. Вслед за матерью она подошла к двери гостиной, остановилась, смотрела внутрь осветившейся комнаты, следила за тем, как Софья Ивановна внимательно осматривала стены.
– Оставь, Отто… Довольно!..
– Еще… Любимая… Родная…
– Ты с ума сошел!.. Мы сейчас будем ужинать…
– Не хочу… Не хочу… Не хочу…
Софья Ивановна быстро повернулась к столу. Приложила ухо. Подняла круглую зеленую пластинку с неглубоким выпуклым дном.
– Нашла!
Она с суровым лицом подошла к дочери, вырвала пальцами тонкую мембрану, смяла в комок, брезгливо бросила на пол.
– Проклятые изобретения!..
А Ариадна стояла в дверях – застывшая.
– Это он! – не отрывала она взгляда от страшного комочка на полу. – Это он… Ужас… Ужас…
– Кто он? Скажи?..
– Штральгаузен!
Ариадна опустила голову на плечо матери. Долго вздрагивала. С тех пор, как уехал Владимир, она плакала в первый раз.
VII
На следующий день Ариадна с матерью переехала на Engelsstrasse в огромный новый городской дом, где сдавались по дешевой цене отдельные меблированные комнаты.
После смерти мужа Софья Ивановна получала ежемесячную пенсию, на которую, хотя и скромно, но можно было жить вдвоем. Кроме того, покойный Ганс Мюллер завещал жене свой небольшой пятиэтажный железобетонный дом с садом на одной из окраинных улиц Дрездена…
Они обе твердо решили переехать после ликвидации имущества в Петербург. Уже ни что больше не связывало с жизнью в Берлине. И Корельскому, принявшему в судьбе Софьи Ивановны и Ариадны искреннее теплое участие, не пришлось долго их уговаривать.
Вообще, Корельский теперь был неразлучен с ними. Помог переехать, устроиться, брал на себя все неприятные хлопоты, организовал дело спешной продажи дома, а по вечерам ежедневно проводил время с дамами, приходя к ним или приглашая куда-нибудь в загородные сады.
– Числа девятого или десятого можете переезжать в Петербург, – заявил он в один из ближайших дней. – Только что вернулся из Дрездена, наладил все. На восьмое число условился с покупателями, что вы, Софья Ивановна, лично приедете.
– Восьмого? Отлично. А как идут поезда?
– К чему поезда! Мы полетим, Софья Ивановна. Это быстрее и проще.
– Ну, нет. Я поеду. Ведь до Дрездена верст триста лететь, не меньше. И потом, дорого стоит. Мы не пролетарии, миленький!
– Мы с мамой вам так благодарны за все, Глеб Николаевич… – добавила Ариадна, видя, что Софья Ивановна, не поблагодарив, сразу перешла к делу.
– Благодарны?.. – удивленно посмотрела на Ариадну старушка. – А как же иначе? Ах, да. Вы, профессор, не обижайтесь, дорогой, что я иногда так… Без формальностей. Ведь вы теперь у нас совсем свой!
– Конечно…
Корельский улыбнулся, взял руку Софьи Ивановны, поцеловал.
– Хороший вы!
Ариадна тоже стала привыкать к Глебу Николаевичу. Будучи сама скрытной и замкнутой, она тем не менее ценила в людях простоту и искренность. А Корельский именно казался таким.
– Кстати… В Петербурге мой друг, приват-доцент Паль-мин, уже подыскивает вам комнату, – вспомнил Корель-ский. – Я говорил утром по телефону. К сожалению только, теперь там нелегко найти помещение.
– А что?
– Сейчас пересмотр конституции… Съехалось много народа. Ораторы, лидеры, представители… Банкеты везде, заседания.
– Нечего людям делать! А в какой части ищет? Только не на Васильевском, голубчик. Не люблю я Васильевский: скучный, однообразный.
– Ну, это, может быть, было когда-то, – рассмеялся Ко-рельский. – Теперь вы Васильевского острова не узнаете. Такие небоскребы! А где хотите? В старой центральной части, конечно, нечего думать. Там никто и не живет: все – учреждения, конторы, канцелярии. Если угодно, попрошу взять в Лесном, или на Лахте. В Белой части тоже недурно.
– В какой Белой?
– Очень хорошее место. Разве не встречали в газете? Новый центр, прекрасные улицы… Между прежней Новой деревней и Озерками.
– Новой деревней? Ах, да. Вспоминаю, читала. Да, да, не узнать мне, действительно, Петербурга! – вздохнула старушка. – Ведь Гостиный-то двор в наше время какой был? Всего в два этажа. А теперь, шутка ли сказать, – двенадцать!
На следующий день Корельский зашел за Софьей Ивановной, чтобы отправиться вместе к нотариусу. Ариадна осталась одна, села у окна, стала вышивать на платке метку.
…Как это все неожиданно! Налетело, разрушило… Освободило. Почему сама раньше не сделала? Ведь было так ясно и без того… Чужие, совсем чужие! Слава Богу, он вел себя благородно. Без сцен, без оправдания… Когда прощался, на глазах были слезы. Очевидно, любил. Да она потому и терпела. Не все ли равно? Жизни не было… С тех пор, как с Владимиром кончено, – все кончено. Какие глупые бывают концы! Может быть, и она неправа? Ведь он мог и не придавать обидного смысла словам, с которых все началось… «Я твоему сознанию верю, а инстинкту не верю. Ты можешь изменять…» Это теперь она другая… А тогда? Тогда, действительно, дразнила… Виделась с Отто… К чему?
Ариадна вздохнула, повернулась в кресле, взглянула на стол.
…Так близко, так жутко… Всегда рядом, будто вместе… Если бы только знать наверно – такой ли, как раньше!.. Должно быть – как у всех: утихло, заглохло… Сделалось просто воспоминанием – ничем больше… Но почему этот, сверкающий?.. Неужели для мамы? Они часто ведут беседы. Она молчит… За все время сказала несколько слов. А если для этих слов и прислал? Чтобы услышать? Почувствовать близость? Нет, нет… Не такой… Только забыв, может возобновить. Все прошло, исчезло. Теперь, наверно, другая… Вместе. Всегда. Смотрит ей в глаза, как смотрел… Улыбается… Два года смерти из-за него. Впереди – то же самое… А он упрекал: «Говоришь, что навсегда, вечно. У тебя вечности надолго не хватит…»
Ариадна подошла к столу, села, придвинула аппарат.
– Владимир!..
Пальцы обеих рук обхватили металл, голова опустилась. Взгляд застыл среди блестящих колец. Искаженное чужое лицо смотрело оттуда.
Холодный… Безжизненный… Кончено. Кончено. А раньше, когда-то!.. Все для нее. Улыбка… Взгляд… Каждое слово. В последний раз, перед ссорой… помнит: в Швейцарии. Было холодно. Между двух озер, среди зелени, проскользнул Интерлакен. По дороге на Эйгер полз игрушечный поезд… Вблизи вершины Юнгфрау, над ледником, в который смотрят из каменной глыбы окна станции «Eis-meer» – предложила: хочешь на небо? Вверх, вверх, вверх – без конца – пока работает винт! Там, вместе, смерть… Вдвоем… Выше всех. Все равно – ты разлюбишь. Все равно – счастье кончится…
Над Юнгфрау стоял аппарат… Они рядом. Молчали. Ледяною тропою уходили вершины, одна за другой, в обе стороны с прова лами к глубоким долинам. И тихо, тихо, без конца: твой, твой, твой… Мой? Теперь? Прежний? Владимир!..
В руках прозвучал нежный орган.
– Я слушаю. Глеб, ты?
Ариадна вскочила. В лице – хлестнувшая кровь. Тяжело дыша, поднявшись на цыпочки, застыла. Пряча за спиною руки, стала тихо, крадучись, отходить.
– Софья Ивановна?.. Вы у телефона?
– Софьи Ивановны нет.
– Это вы, Ариадна Сергеевна? – голос Владимира затуманился. – Вы вызывали?
– Я? Нет… Да… Я прибирала стол. Зацепила… Простите.
– Ах, вот что… Значит – как же?.. Закрыть? Или…
– Как хотите. Закройте…
– Хорошо! До свиданья.
Телефон щелкнул. Ариадна подбежала к окну. Закрыла глаза, частым дыханием схватилась за воздух.
…Зачем не остановила? Зачем?
Она стояла. Долго. Без движения. Затем быстро повернулась, подошла к телефону, нажала рычаг.
– Софья Ивановна?
– Нет, я.
– Ариадна… Сергеевна?
– Да, я. Я хочу… Поговорить…
– Со мной? Очень рад.
– Расскажите… Что-нибудь… Вообще…
– О себе?
– Нет… Не о себе… Не обо мне. О постороннем. О Яве… Я буду сидеть. Вышивать… Хотите?
В ответ – долгая пауза.
Он начал как будто с улыбкой, с грустной шутливостью:
– Вот лежу сейчас на траве… Под большим манговым деревом. Аппарат возле меня… Красный муравей пытается взобраться, исследовать…
Скоро вечер у нас. Солнце смотрится в океан. От горизонта, я вижу, ко мне идет широкий сверкающий путь. Никогда люди не говорили мне, что я так велик. Что солнце свяжет меня с собою такою царской дорогой…
Океан там, внизу. За воздушными корнями манглий, научившихся бороться с приливами. Я люблю его по утрам, – ранним утром, когда царь явских вулканов, великан Смеру, играет солнечным диском, долго держит его за спиною, уверяя прибрежные острова, что солнце погибло. В тихий день так нежна голубая вода – океан может не доказывать величия серьезностью: ему верят без этого. Тихо плещет волной, точно рябью пруда. Как дитя, шепчет у берега, перебирая песчинки.
Надо мной, под ветвями манго, вьются чудесные бабочки. Хотите знать, как их звать? Papilio Blumei. Золотистозеленые, с тонкими крылышками, с лазурно-голубыми подвесками. Мы давно познакомились. В прошлом августе, когда я приехал, они показали опушку, у которой в чаще деревьев снежными гроздьями зацвели орхидеи. Трудно этим деревьям жить в такой тесноте. И все-таки на ветвях приютили чужие корни… Согласились отдать последние силы, чтобы цвела красота.
Здесь друзей у меня много… И так покойно душе! Каждый день, ровно к полдню, когда круглый бамбуковый стол под питосфорумом заполняется завтраком, на звон тарелок приходит из парка застенчивый Аноа, маленький буйвол. Появляется за ним со своим клыкастым мужем бабируза…
Мы все завтракаем молча. Все уважаем мысли друг друга. Самое главное понимаем без слов. О пустяках говорить не желаем. И когда после этого через парк идем на берег посмотреть, что принес на волнах океан, хитрый Аноа отстает среди зелени. Делает вид, будто он садовод…
Вот теперь здесь, под деревом, я один. Целый день Аноа не было: очевидно, не в духе. Но наверху, надо мной, на широких листьях другие друзья: муравьи. Мохнатые, красные. Мои коллеги, ученые, называют их oecophylla. Как oecophylla называют ученых – не знаю. И каждый день вижу их настойчивый труд, вижу, как из манговых листьев они лепят на ветвях целый дом в виде огромного шара… Я заметил: они притягивают листья, как акробаты, челюстями поднимая друг друга. Я узнал: клей для постройки получают от своих же личинок, щекоча их усами.
Да, какая культура!.. Хоть бы когда-нибудь человек научился для общественной работы находить цемент в самом себе. Хоть бы челюсти его хватали ближнего не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить дворцы!..
Иногда, во время блужданий у берега на своей скромной лодке, вижу сифонофоры… Вы не устали, Ариадна Сергеевна? Я – о постороннем…
– Говорите!
– Может быть, теперь… вы?
– Видите сифонофоры. И что же?
– Вижу часто… На голубой водной поверхности… Флотилия красноватых стеклянных шаров. Каждый шар – это парус. Его соткали, скроили медузы, плывущие под ним дружной семьей. И у них там, внутри, водолазный колокол. Аппарат для нагнетания воздуха. Кто из нас может соткать из себя парус? Без станка, без орудия, без пролетариата?
Много знаю теперь я того, о чем не думал раньше. Это у них, у скромных и мудрых, нужно учиться. Аргиронита-паук уверяет: для уютных жилищ можно лепить кирпичи из своего тела и воздуха… Пурпурная улитка показывает: смотрите, как нужно воздвигать неприступные крепости!.. Электрический скат говорит: я презираю ваши электрические станции, батареи, аккумуляторы…
Да, сколько знанья. Сколько уменья… Какая культура! В наших человеческих бедствиях, как я вижу, всецело виноват преступный ужасный питекантроп. Живя здесь, когда-то, на Яве, положил он начало проклятию человеческой жизни. Это он первым испугался солнца и света. Гроз и бурь. Воды и воздуха. Он бежал, чтобы скрыться… Схватился за чужую одежду. За рычаг, колесо. И никогда нам уже не защитить себя от внешнего мира без мрачной взаимной вражды. Без рабства, без противоречий, без тупика, в которых рушатся цивилизации во все времена, у всех народов… Я каждый день вижу в кокосовой роще семьи яв-ских летающих лягушек, добившихся того, что у них выросли, наконец, крылья-перепонки… И мне стыдно… Лягушки могут, если захотят. Мы – не в силах. Без посторонних предметов, аппаратов, орудий – ничто. Бездарнее лягушки. Ничтожней моллюска…
– Я знаю, вы это говорили в насмешку… – тихо произнесла Ариадна.
– Над чем?
– Над просьбой… О постороннем… А между тем…
– Между тем?
– Это было так хорошо… Скажите: почему ваш голос теперь – среди какого-то гула? Я слышу глухие удары…
– Это прилив… Океан шумит.
– Океан?
Молчание.
– До свиданья, Владимир Иванович.
– Спокойной ночи…
Аппарат замер.