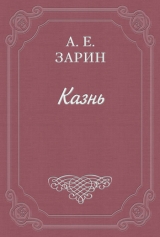
Текст книги "Казнь"
Автор книги: Андрей Зарин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– Ну, тогда я уж к нему пойду! – и Силин с равнодушным видом повернул к выходу.
– Ну, миленький, ну, дорогой! – Стремлев взял его под руку. – Ну, Бог с вами! Пишите! Только, – он умоляюще посмотрел на него, – уж в» Листок» не ходите!
– Э, шут с ним! – ответил Силин. – Ну – с, так я сяду! – и он положил шляпу.
– Садитесь, садитесь, – засуетился Стремлев и многозначительно прибавил: – Возмущения побольше! Упадок нравственности и прочая.
Силин кивнул головой и опустил перо в чернильницу. Часа через полтора он вышел из редакции, весело улыбаясь.
– Ну, сделал! – сказал он сам себе. – Теперь к сестре, обедать, потом с Лапой повидаться для нового запаса… Ах, если бы каждую неделю такой случай!..
VIII
Только к утру приехал судебный следователь, Сергей Герасимович Казаринов, длинный и тощий, с белокурою головой, на которой волосы росли почему‑то клочьями, в синих очках на остром и тонком носе. Он вертел беспрерывно головою, словно вывинчивал ее из плеч, и при этом нос его будто нюхал воздух.
Его сопровождал письмоводитель Лапа, постоянно имевший вид только что проснувшегося человека. Если его спрашивали, он сначала подымал голову и осматривался, словно ища глазами спросившего его человека, потом в свою очередь спрашивал: «А?» – и на вторичный вопрос уже собирался с ответом.
Казаринов был возбужден. Он давно сетовал на прозаичность своих дел (помилуйте, в пьяной драке Аким Степана зарезал, или Матренин любовник в ревности ее ножом полоснул! Разве это интересно?), и теперь убийство Дерунова, казалось, давало ему случай отличиться.
– А, Яков Петрович, Николай Петрович! И вы тут? – обратился он к Весенину. – Знакомые все лица! Ну, что без меня тут сделали?
Пристав доложил, что он составил протокол предварительного осмотра места и положения трупа, полицейский врач установил убийство и сделал осмотр трупа.
– А, а! – сказал следователь. – Проверим! Труп убрали? Нет? Вот и он? Откиньте‑ка парусину! Ох, был человек, и нет! Ну, займемся. Яков Петрович, вы устройте меня!
Яков провел его в свою контору, Лапа развернул портфель, и Казаринов начал предварительное следствие.
Сначала он заподозрил в убийстве Якова Петровича, потом его прислугу, потом Весенина и, наконец, Николая.
– Вы пришли поздно? После господина Весенина? Да?
Николай с видимым раздражением отвечал на вопросы. Яков следил за ним с нескрываемой тревогой.
– И когда вы пришли, трупа не было?
– Я же сказал!
– Да, да! Я и забыл… Ну, а где же гуляли все время? По дождю? В непогодь?
Николай передернул плечами.
– Везде был! В городе, на Волге, в горах.
– И вас везде кто‑нибудь да видел?
– Вероятно!
– Ведь вы же разговаривали с кем‑нибудь, а?
Николай хотел что‑то ответить, но, видимо, раздумал.
– Ни с кем! – сказал он.
– Ни с рыбаком, ни с мещанином каким‑либо. Но вы, вероятно же, ели, пили?
– Не ел, не пил!
Следователь пожал плечами. Подозрение его усилилось.
– Ну, а костюмчик, в котором вы ходили, вероятно, промок? – вкрадчиво спросил следователь. – Вы, вероятно, его сбросили?
– Наверное!
– И, вероятно, дома.
– Не на улице же!
– И вы позволите на него взглянуть? А?
– Сделайте одолжение, – ответил Николай и в раздражении громко закричал: – Лиза, принеси мою одежду, что я вчера снял!
– Но позвольте, – вмешался взволнованный Яков, – после его прихода ушел мой письмоводитель, вот при нем, – он указал на Весенина, – если бы был труп, он бы вернулся, поднял крик!..
– А – а! – протянул следователь, и в его уме Николай тотчас очистился от подозрений, а Грузов стал несомненным убийцей.
– Не надо пока! – отодвинул он принесенный прислугою костюм. – А где же ваш письмоводитель?
– Он, вероятно, скоро придет. К девяти часам!
Следователь кивнул и вдруг обратил свое внимание на принесенный костюм. Это была светлая суконная тройка и вышитая сорочка. Ее правый рукав, как и подкладка пиджака, был залит кровью.
– А что это, Николай Петрович? – спросил следователь.
– А вот что! – Николай быстро отвернул рукав рубашки и почти сунул к носу следователя свою руку, от запястья до локтя которой почти во всю длину проходила глубокая царапина. – Садился в лодку и о багор разодрал.
Следователь быстро закивал головою.
– Так, так! Но вы позволите? – и он указал на отложенные вещи.
– Сделайте одолжение!
– Занесите в протокол: рубашка и пиджак! – сказал следователь Лапе.
В это время на пороге конторы показался Грузов.
– А, – воскликнул следователь, – господин письмоводитель. Ваше звание? имя? отчество? фамилия? жительство? Так! Скажите, вы ушли от господина Долинина после возвращения его брата?
– После, – ответил Грузов, подходя к столу.
– Часу?..
– Во втором, в начале, – ответил Грузов.
– Так, так! А где вы шли?
– У нас один выход; вот тут!
– Через дорожку, в калитку? Так! И трупа не видели?
– Нет! – ответил Грузов.
Подозрение таяло. Следователь нахмурил белые брови.
– И ничего подозрительного? Крика? Стона?
– Ничего!
– А вы лично знали, что убитый должен был прийти к господину Долинину?
– Яков Петрович при мне получил от него записку. Но мы его уже не ждали.
– Почему?
– Поздно!
– Да, поздно! А еще кто‑нибудь знал про его намерения посетить господина Долинина?
– Уж этого не знаю! – Грузов развел руками и отошел от стола. Следователь устало выпрямился.
– Ну, пока все! – сказал он. – Яков Петрович, может быть, чайку?
– Сделайте одолжение! – Яков поспешно встал. – Я велел приготовить завтрак. Господа, милости просим!
За стол сели он с братом, Весенин, следователь, Лапа и пристав с доктором. Следователь разговорился.
– Вы меня извините, Николай Петрович! У меня система. Все (он указал рукою на всех, не исключая даже Лапы) у меня в подозрении – и я с этого начинаю. Это ни для кого не обидно. Мало – помалу лица передо мной оправдываются, и остается один (он поднял указательный палец), знаете, как в математике: с помощью исключения третьего! Ха – ха – ха! Возвращаясь домой, он спросил Лапу:
– Что вы думаете, Алексей Дмитриевич?
– А?
– Я говорю, что вы думаете об убийстве? Есть подозрения?
Лапа, будто проснувшись, раскрыл широко глаза и ответил:
– Надо навести справки, много справок, много…
Контора нотариуса Долинина приняла прежний вид. Спустя два часа Сухотин с Весениным совершили в ней крупную сделку, и Яков Петрович скрепил их договор. Грузов писал бумаги; Лиза гремела на кухне посудою; часы монотонно тикали в столовой. Николай куда‑то ушел, и сердце Якова, отчасти успокоенного, все еще тревожно сжималось. Он провел, как и Николай, бессонную ночь и успел увериться в его невинности, но тревога за него не покидала его сердца. Николай в одну ночь побледнел и осунулся. Он все время говорил с Яковом, как безумный. То радовался и убеждал, что Дерунов понес заслуженную казнь, то с ужасом и слезами думал о том, как перенесет эту весть Анна, что она заподозрит его. Потом говорил, что знает убийцу, и снова отказывался от своих слов. Едва уехал следователь и был убран труп, Николай оделся и вышел из дома.
Яков не мог заниматься.
– На сегодняшний день мы закроем контору, – сказал он Грузову, – можете идти, Антон Иванович.
Грузов стал убирать бумаги.
– А завтра?
– Завтра наведайтесь. Сегодня я уж утомился очень. Не спал… волнения…
«Странно, – подумал Яков, когда Грузов ушел, – на этого человека смерть Дерунова не произвела никакого впечатления. Словно он знал о ней еще вчера. Фу, какие скверные мысли!.. Дерунов был плохой человек…»
Грузов, наклонив голову и приседая в коленях, медленно брел по улицам, раскаленным полдневным солнцем. Путь ему предстоял немаленький.
Если пройти всю Московскую улицу, которая оканчивается оврагом, и перевалить за него, то очутишься в предместье города – «на горах». В этом предместье улицы не мощены и в жаркие дни уподобляются песочнице, а в дождливые – чернильнице; домишки в нем все деревянные, перекошенные, изредка с мезонином и балкончиком; селятся здесь торгующие на базаре мещане, владельцы домов, извозчики и в качестве жильцов – бедные конторщики, люди темных профессий, мастеровые и фабричные. Нравы здесь буйные и полное господство демократичного стиля, так что франт, появившийся на улице в модной шляпе, рискует обратить свое украшение в одно воспоминание. Днем по улицам шумной ватагой бегают ребятишки, гоняя какую‑нибудь несчастную собаку или отбившуюся от дома свинью; вечером и в тихую летнюю ночь сидят веселыми группами удалые мещане с девками и под визг гармони какой‑нибудь голосистый тенор выводит:
Она, моя милая,
Сердце мое вынула;
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула!
После чего хор весело подхватывает припев:
Алон, камбалон
Вдвоем, втроем пропоем!
Причем девицы стараются как можно пронзительнее визжать, и потом все раскатываются веселым смехом. А из раскрытых окон трактира» Зайдем здесь» льются томительные звуки старого, рассыхающегося органа, играющего» Дунайские волны».
В этом предместье, на краю одного из оврагов, как раз наискось от веселого трактира, в собственном домишке проживал Антон Иванович Грузов со своею матерью. Мать его была благообразная старушка, с лицом красным, как малина, и сморщенным, как печеное яблоко, с совершенно квадратной фигурою и толстыми короткими руками.
– Антоша! – воскликнула она, хлопая руками по бедрам, словно курица крыльями. – А обед‑то еще и не сварился!
– Я сегодня раньше, маменька. У нас история, – ответил сын, опускаясь в глубь дивана, потому что на диван сесть нельзя было, до такой степени сиденье его ушло вниз.
– А что же случилось, Антоша?
– У нас Дерунова убили!
– Ах ты Боже мой! – старушка опять хлопнула крыльями. – А кто же убил, Антоша?
– Да я – то, маменька, откуда знаю? – рассердился Антоша. – Вы лучше вот что: мазь приготовили?
– Как же, Антоша.
– Так дайте мне, я покуда ею до обеда усы помажу.
Старуха вытащила из печки жестяную кастрюлю с какой‑то мазью и сказала:
– А я бы, Антоша, тебе керосином советовала. От керосина волос скоро растет!
– Ну, и без вас знаю! Пробовал я этот керосин. Одна вонь!
И, перейдя к стенному зеркальцу, он захватил указательным пальцем изрядную порцию из кастрюльки и тщательно намазал ею верхнюю губу, отчего у него тотчас появились усы, но какого‑то странного серого цвета и жесткие, как жгуты.
– Теперь я до обеда прилягу, мамаша, – сказал он, идя в соседнюю каморку, – а вы загляните к Косякову. Скажите, чтобы он не уходил из дому, меня бы подождал. Дело есть! Так и скажите!..
– Хорошо, Антоша! Спи, голубок!
Грузов скрылся, и скоро из‑за деревянной перегородки раздался его богатырский храп…
Спустя два часа, выспавшись, смыв серую мазь с лица, плотно пообедав, Грузов приоделся и уже взял шляпу, но спохватился, зашел за ситцевую занавеску, где стояла постель его матери, и запустил руку под тюфяк.
– Антоша, что ты там ищешь? – спросила старушка, убирая со стола после обеда.
– Не ваше дело, мамаша! – закричал Грузов. – Сколько раз я просил вас не спрашивать о том, чего вы никогда не поймете! Пожалуйста, не лезьте сюда!
– Ну, ну, не пойду, Антоша, – испуганно ответила мать.
Через минуту Грузов вынырнул из‑за занавески, что‑то старательно упихивая в боковой карман пиджака, и сказал:
– Я теперь уйду, мамаша. Если бы кто пришел, скажите, что в трактире. Я там буду. Косякову‑то сказали?
– Как же, как же, Антоша!
Антоша надел шляпу и, нагнув голову, шагнул за двери и очутился в сенях, заставленных ведром для помоев, кадкой с водою, лоханью, корытом и всякой рухлядью, без которой не может обойтись кухонное хозяйство. Обойдя корыто, швабру, он крепко стукнул в дверь с другой стороны сеней, за которой и жил Косяков.
Никодим Алексеевич Косяков снимал комнату в домишке Грузова и состоял, таким образом, единственным квартирантом Грузова, а – попутно – и единственным его другом. Судьба, несомненно, хотя и не без его участия, немало поглумилась над Косяковым: она произвела его на свет балованным ребенком богатых родителей; потом, сделав его сиротою, помогла ему рано ознакомиться с» прелестью бытия», после чего, ранее благосклонно ему улыбаясь, вдруг нахмурила свое чело и начала трепать, встряхивать и метать несчастного Косякова во все стороны. Будучи безусым корнетом армейского драгунского полка, он прокутил в три года все наследство родителей, кроме нерушимого благословения, и бросил полк, увлеченный девятипудовой помещицей; оставленный ею за коварную измену с более воздушным созданием, он ухитрился сделаться управляющим у соседа помещика, который имел непобедимое влечение к всевозможным тяжбам. Прослужив у него два года, Косяков внезапно был лишен его доверия и покровительства, неосторожно взяв с соседнего кабатчика малую мзду за пропуск апелляции по делу своего патрона, – после чего судьба уже безжалостно начала его отделывать, как суровый родитель, разочарованный в своем детище.
Мытарил Косяков по письменной части по всем уездным экономиям, служил в городе в управе, был канцеляристом при полиции и, наконец, всюду претерпев неудачи и гонения, занялся свободной профессией ходатая по мировым учреждениям.
Грузов вошел в кухню, загороженную огромной русской печью, в черной пасти которой сиротливо жались друг к другу два муравленых горшка, спотыкнулся о брошенные на пол сапожные щетки и остановился на пороге большой комнаты, надвое разделенной выцветшей кумачовой занавеской. В углу под образами стоял комод, накрытый скатертью, на котором красовалось круглое зеркало; под окном стоял небольшой сосновый стол с банкою чернил, из которой торчала ручка пера, с кипою бумаг и рыжим портфелем; дальше стоял стол побольше, с шестью деревянными желтыми стульями, а в углу комнаты – небольшой столик и подле него глубокое вольтеровское кресло, не менявшее обивки и не знавшее починки, вероятно, со времен Екатерины; в этом кресле сидела женщина в грязном ситцевом капоте, с распущенными волосами. Когда‑то она была красавицей, но теперь лицо ее пожелтело и сморщилось, нос заострился и только большие, черные глаза с лихорадочным блеском сохранили еще прежнюю красоту. Но и в них, вместо былой гордости, отражалась какая‑то пугливость. Грузов кивнул ей головою.
– Никодим Алексеевич дома?
– Здравствуйте, здравствуйте! – затараторила в ответ женщина. – Дома, дома! Спит, спит! Вы подите туда, подите.
Она подняла руку, желтую и тонкую, и указала на занавеску.
– Только он сердитый сегодня, ух! – прибавила она. – Бранился, бранился и говядины мне не нарезал! Да! Вы разбудите его!
– С кем это ты, сорока? – раздался из‑за занавески заспанный голос. Женщина выразительно посмотрела на гостя.
– Это я, – отозвался Грузов, – вставай, что ли!
– А, ты, Антон! Сейчас! Что у тебя за дело такое?
– После! – ответил Грузов, садясь на стул в ожидании. За занавеской заворочались. В то же время голос говорил без умолку:
– Ладно, подождем! А моя‑то сорока какую штуку сегодня удрала. Пришел этот каналья Сиволдаев, что за буйство судился; где, говорит, Никодим Алексеевич? Ушел! А где бумаги? Сорока‑то ему: поищите на столе! Он нашел свое условие, взял его и ушел. Так пятнадцать целковых и свистнули. Ищи ветра в поле!
– Я ничего не могла сделать, – жалобно захныкала женщина, – купи мне длинную палку, я их бить буду. Я ему кричала, кричала…
– Хорошо, сорока! Я сказал, что три дня не буду тебе мяса резать, и – баста! А в другой раз… Ну, идем! Я готов!
И Косяков вышел из‑за занавески.
Это был мужчина лет сорока, довольно полный, внушительной наружности, с расчесанными густыми баками и с медным пенсне на носу, которое вздрагивало от резких движений его головы.
– Вот и я! Здравствуй! – сказал он. Грузов поздоровался с ним.
– Ты сиди смирно, сорока, – сказал наставительно Косяков женщине, – до моего прихода. Я приду и уложу тебя в постель. Вечером тебе Антонина Васильевна чаю принесет! Ну, идем!
– Дай хоть руку на прощание, – снова захныкала женщина, – не сердись на меня! Я не буду! – прибавила она жалобно.
Косяков протянул ей руку; она жадно поцеловала ее несколько раз и взглянула на него молящим взглядом. Он смягчился.
– Ну, ну, сорока, я простил уже! Завтра нарежу мяса, только в другой раз… – и он погрозил ей пальцем.
– Ты принеси мне камней, я кидать в них буду!
– Ладно, а теперь будь умницей. Сиди смирно. На тебе карты, гадай! – он быстро взял с комода карты, положил их перед женщиной и погладил ее по голове.
– Ну, идем!
– Идем! – отозвался Грузов.
– Прощайте, прощайте! Я нагадаю вам счастья! – кивая головою, сказала им вслед женщина.
– Постой, я на минуту! – произнес Косяков, когда они вышли в сени, и прошел к матери Грузова. Грузов вышел на улицу, и Косяков через минуту догнал его.
– Ну, Антонина Васильевна обещала и чаем напоить ее, и посидеть с нею, – сказал Косяков с облегченным вздохом.
– Тяжело? – спросил Грузов.
Косяков махнул рукою.
– И не умирает! – проговорил он с досадою. – Удивительно! Сидит, ест, пьет – и хоть бы что. Сохнет только. Будь деньги, я бы ее в больницу, на покой, отдельный нумер, сиделка – и с рук долой!
– Будут! – уверенно сказал ему Грузов. Косяков с удивлением взглянул на него.
– Здесь! – повторил Грузов и с таинственным видом ударил себя в грудь.
Они перешли улицу и вошли под гостеприимную сень трактира» Зайдем здесь». Для бражного веселья был еще ранний час, и в пустой зале, положив головы на грязные скатерти, крепко спали двое половых.
Грузов толкнул одного из них, отчего тот вскочил, испуганно метнулся в сторону, поправил для чего‑то скатерть, отмахнул мух грязною салфеткою и, наконец, вперил взор, полный готовности, на двух посетителей.
– Особняк, – приказал Грузов, – чаю, флакончик и закусить!
Половой метнулся как угорелый. Грузов степенно пересек залу и вошел в крошечную комнату, отделенную от общей драпировкой. Косяков послушно следовал за своим приятелем, не спуская с него недоумевающего взгляда. Они молча уселись и молчали, пока половой, извиваясь станом, с грохотом ставил чайную посуду, с показной живостью вытер рюмки и скрылся; молча выпили по три рюмки, и наконец после четвертой Грузов разрешил это молчание, энергично спросив Косякова:
– Друг ты мне?
– Друг! – не замедлил ответить Косяков.
– И если я к тебе с доверием, ты – могила?
Косяков только кивнул головою. Грузов постучал ножом по тарелке и сказал половому:
– Еще флакон.
Половой исполнил заказ и скрылся, а Грузов придвинулся почти вплотную к своему другу, наклонил голову и понизил голос:
– Слушай! Если к тебе приходит вдруг господин и говорит, к примеру, что вот, дескать, один господин принесет векселя другого господина для протеста и вы, дескать, пожалуйста, задержите их денька на два, на три, и вот вам сейчас синенькая, а там красненькая… Ты что? а?
– Взял бы! – убежденно ответил Косяков, но Грузов, очевидно, ждал ответа на другой вопрос. Он тряхнул головою и внушительно произнес:
– Начинаешь подозревать? Чуешь?
– Ну, понятно, – смущенно ответил Косяков, ровно ничего ни понимая.
– И ежели при этом два креза и один так, шантрапа? – добавил Грузов и, чокнувшись, опрокинул в рот рюмку. Потом, закусив, вытерев губы рукою и нагнувшись еще ближе к Косякову, он продолжал: – И потом вдруг убийство…
Косяков вздрогнул и отшатнулся, но Грузов ухватил его за рукав и шипел сиплым шепотом:
– И ежели ты идешь и вдруг – труп… самого креза…
– Дерунова? – с ужасом прошептал Косяков.
Грузов с укоризною взглянул на него.
– Не называй имени. К чему имя? И вдруг, я говорю, труп; ты нагибаешься, смотришь, и вдруг конверт; ты…
Косяков, казалось, стал понимать.
– Беру конверт и иду домой, – подхватил он. Грузов одобрительно закивал:
– Ты берешь конверт, идешь домой, раскрываешь его и вдруг находишь…
– Деньги! – воскликнул Косяков, и глаза его загорелись. Грузов отрицательно качнул головою.
Глаза Косякова потухли.
– Что же? – спросил он.
– Векселя! – ответил Грузов, подняв палец. Лицо Косякова не могло скрыть разочарования.
– На пятнадцать тысяч векселей с бланками креза! – повторил Грузов, поднимая палец еще выше, и спросил: – Ты что бы сделал?
– Снес бы в полицию и сказал, как нашел их, а то еще худо будет! – уныло ответил Косяков.
– И глупо! – сказал Грузов. – Пойми: с бланками креза, другого, и те самые, о которых хлопотал шантрапа! Понял?
Косяков промычал в полном отчаянье. Лицо Грузова приняло вдохновенное выражение. Схватив руку своего друга, он сжал ее и, придерживаясь облюбованной формы выражения, заговорил:
– Глупо! Было бы умнее, если бы ты рассуждал так: зачем крезу, вместо того чтобы просто давать жене своей деньги, ставить на ее векселя свои бланки, чтобы их из сорока процентов учитал другой крез, убитый? Было бы умнее, если бы ты подумал, что тут что‑то не того… А?
Грузов лукаво прищурился, а Косяков уже одобрительно промычал, и лицо его стало светлеть. Он начинал понимать суть дела.
– А потом ты вспомнил бы, что в этот день утром, а потом вечером к тебе прибегал тот шантрапа, дал тебе синенькую, обещал красненькую и все доподлинно знал о векселях, совсем чужих для него. Было бы умнее, если бы ты вспомнил об этом да подумал: о, да тут нечисто! Откуда шантрапа все знает, чего он заметался, зачем жене креза векселя писать, а самому бланки ставить, а?..
– Подлог! – воскликнул Косяков.
– Было бы умнее, – войдя в азарт, продолжал Грузов, – подумать: отчего этот крез упал, сраженный как раз на дороге к нотариусу, когда нес эти векселя?..
– Подлог и убийство! – воскликнул Косяков, стукнув по столу, но лицо его тотчас опять посмурнело. – Он бы унес векселя.
– А если внезапный шум и он испугался?
Грузов торжествующе глядел на Косякова, а тот глубокомысленно смотрел на прихотливый узор на скатерти, оставшийся от разлитого раньше пива.
– Но что же в этом толку? – произнес он, подумав.
Грузов, казалось, ждал этих слов. Он опять ухватил своего друга за рукав и заговорил:
– Было бы умнее, если бы ты раньше подумал, чем произнести эти слова. Если бы ты подумал, то сказал бы себе: этому шантрапе очень важны векселя, да и жена креза была бы рада их сжечь, да и оба они дрожат теперь, как овечьи хвосты. Ты бы вспомнил, что у тебя есть друг, и сказал бы: меня этот шантрапа знает, и меня уже допрашивал следователь, мне неловко держать их у себя; но у меня есть друг, и он сперва напишет письмо шантрапе, потом увидится с ним, потом станет торговаться. А потом, – оживляясь, шептал Грузов, – он то же сделает и с женой креза и обогатит и себя, и друга. А векселя отдал бы для безопасности ему, другу!
Лицо Косякова в третий раз просветлело и глаза загорелись, как у голодного волка при виде мяса.
– Ей – Богу, я так бы подумал! – воскликнул он. – И другом этим был бы…
– Ты, Никиша, – торжественно заключил Грузов.
– Антоша! – и Косяков от избытка чувств охватил голову Грузова и прижал ее к своему подбородку, отчего пенсне свалилось с его носа.
– И вот тебе они, – сказал Грузов, освобождая свою голову и вынимая из кармана пачку, завернутую в газету, – спрячь!
– Я под сорочку положу их! – объяснил Косяков, принимая пачку и пряча ее.
– Куда хочешь, Никиша. А теперь слушай!..
И они начали совещаться, причем теперь Косяков уже показал больше опыта и сметки, нежели Грузов.
Комнаты трактира давно наполнились гостями. Орган, не уставая, хрипел марши, вальсы и попурри; среди звона посуды раздавались смех, говор и визгливые женские возгласы, а Грузов с Косяковым все шептались, не слыша пьяного гама.
Приблизительно в эту же пору усталый Лапа вернулся домой и, избегая встречи со своей пленительной хозяйкой, осторожно пробрался в свою комнату, по дороге позвав к себе Феню, с которой он давно жил душа в душу.
Она вошла к нему, вся розовая от радости его видеть.
– Приуготовь, Фенюшка, самоварчик, – сказал он ласково, – да приди со мной посидеть. Что, старуха угомонилась?
– Полегли и она, и барыня. Я мигом!
Феня скрылась. Лапа переоделся в байковый халат с синими разводами и полулег на диван.
Минут через десять Феня внесла самовар, посуду и, заваривая чай, стала оживленно передавать события дня.
– У нас своя история, – рассказывала она, – барыня‑то молодая вчера от мужа бежала. Он у себя заперся, узнал про ее шашни‑то…
– Захаров? – лениво спросил Лапа.
– Он самый!
– А что за шашни?
– Не знаете? Я же говорила вам, – сказала с укором Феня, – она с Деруновым, с этим самым, – Феня понизила голос, – путалась. Вчера он приходил сюда, билет ей принес и деньги, чтобы по Волге ехать…
Лапа полулежал на диване в полудреме, почти не слушая Феню, но тут вдруг встрепенулся, раскрыл полусонные глаза, сел и, запахивая халат, переспросил:
– Дерунов? Вчера?
– Вчера, как вы спали… Вот чай; сахар сами положите… Ну, а муж‑то ее у себя заперся. Нынче Луша, горничная у них, пришла и говорит: «Все запертый сидит, порешился, верно». Мы ей говорим: «Сходи посмотри, а в случае чего полицию зови». Она и ушла. Только ушла, а через полчаса назад приходит, бледная вся и трясется. Он, говорит, отперся, и у него молодой Долинин сидит. Бегают они это по кабинету‑то и оба кричат. Один кричит: вы! Другой кричит: я! – и потом снова. Она и убежала. А потом мне и говорит: «Пойду снова, соберу вещи да и уйду от них. Ну, говорит, с ними! Еще греха наживешь…«Барин! Алексей Дмитриевич! Да что ж это вы так сидите: и сахару не положили, и чай простыл!
Лапа действительно словно замер. Он откинулся к спинке дивана и устремил неподвижный взгляд на карниз, где черным кружевом висела паутина.
При возгласе Фени он очнулся и рассеянно взглянул на ее оживленное лицо.
– А? Ты про что?
– Фу – ты, Господи, – воскликнула, смеясь, Феня, – я – то соловьем разливаюсь, а он спит!
– Я устал, Фенюшка. Сегодня работал много, – ответил Лапа, – и устал. Налей мне другой стакан чаю и сахару положи. Вот так, спасибо!








