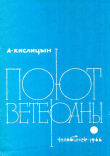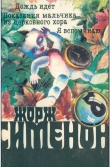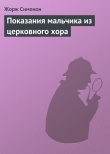Текст книги "Голос из хора"
Автор книги: Андрей Синявский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Баба. Кацапка. Такие вот титьки. Тамара.
Также – закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар кинжалом наносится в конце первой главы.
Еще речь должна быть душистой или лучистой. Чтобы к ней хотелось еще и еще вернуться. Чтобы фраза дышала тайным восторгом, азартом. Чтобы, читая, хотелось еще в нее поиграть.
Вот и вернулось все на свои следы, и снова метет февралем, заворачивая бушлаты, и, кажется, в десятый раз принимается таять, и сеять, и опять мести и крутить. Но кто-нибудь хлопнет дверью и объявит прокуренным голосом:
– Март.
Сыро, веско, непререкаемо так припечатает:
– Март.
И все повеселеют.
И кошка сидит на снегу, угревшись, и слушает свои животные токи.
14 марта 1968.
– Сердце бывало стучит, как скорострельный пулемет. А сейчас – как рыба: тук, тук...
– Я был молодой, физически здоровый, ничего не боялся.
– У тебя еще в штанах кудахчет!
– А он, сука, дубаря секанул утречком!
– Баба выбей окна.
– Дед освободился особо опасным рецидивистом.
(Дед – кличка)
– Кую пиковый туз!
– Бей в глаз – делай клоуна!
(Прибаутка в драке)
– Невыносимые наши удары им отразить было нечем!
– Прижали нас к карбид-заводу...
– Пурды-пурды.
(Иностранный язык)
Точные определения:
– Бюст Пушкина во весь рост.
– Три богатыря: Минин и Пожарский.
– Я достиг своего фиаско!
– Голова не болит ни грамма.
– Человека два медсестры.
– Во-первых, три причины.
– До кости мозгов!
– Вся автобиография жизни.
– Продукты не принимают за исключением деньги.
– Я получил сумму в разрезе 120 рублей.
– У тебя буржуазная жила в голове.
– Воет, как кобыла.
– Он, сука, длинный, как заяц.
(И я подумал, что зайцы в самом деле непропорционально длинны.)
– И всякий человек для него – Коля.
(О сумасшедшем)
– Все одеты в шляпах.
– Стоит мне поговорить с человеком полчаса – и я о нем составлю беспринциндентную резимю.
– Этот неморально устойчивый человек.
– При наличии отсутствия энергии.
– Все это иллюзорный обман.
– А я стою – как вон та бухгалтерия.
– Стоит повар – будка: 40 на 90.
– У меня невменяемость на 45%.
– Сторублевая Катя.
– Чтобы из этого не получился какой-нибудь Сыктывкар.
– На мне – хаки-брюки, хаки-бушлат, хаки-шапка.
(В побеге)
– Трава против нервной системы.
– Солидные хлопцы – Пушкин и Гете...
– Четыре языка знает: немецкий, французский и английский этот самый.
– Смотрю: сидит баба-капитан.
– Судьиха.
– Девушка из Баку.
– Молодая баба с 42-го года.
– Чан-кай-ше.
(Чайхана)
– Итальянский танец кампанелла.
– Где-то в Харькове или в Одессе – вот в этих местах...
– Командировочка не доходя реки Индигирка.
– Каком песня – таким мотив.
И после каждого стишка в альбоме было написано слово: "Конец".
Постоянные эпитеты:
– Тупой, как валенок.
– Темный, как махорка.
– Псы кудлатые! Козлы вонючие!
– Окозлел.
– Ты не лошадей!
– Силаускас!
(В подражание литовскому)
– На выкинштейн.
– Голый васер.
– Что ты вертишься, как змей на огне?
– Бесхребетный полузмей.
– Калики-моргалики.
– Устал, как конь.
– Я работал, как лев, возле этого деда.
– Морская колбаса.
(Треска)
– Ну, мне хаванину принесли. Покушать то есть.
– Пустой шараш-монтаж, ловить нечего.
– Обрыв Петрович, драп-марш.
– Бессвязный дурак.
– Прокаженная морда.
– Полкаши в папахах.
– Укроп Помидорович.
– Асфальт Бетонович.
– Ломом подпоясанный.
– Студент Прохладная Жизнь.
– Фуцан, дико воспитанный, – ни украсть, ни покараулить.
С нарастающим вдохновением:
– Я им говорю
ну что?!
Блядво.
Педерастня.
Гондовня.
Но иногда слово повергает меня в отчаянье. Уж на что кошка отвлеченное существо, так он и кошке ласковым голосом норовит сказать пакость:
– Ну иди сюда, проститутка.
Слова его, прилепляясь к вещам, превращаются в язвы. Он заражает ими все, к чему ни притронется. Назвать вещь значит для него – обругать.
Иерархия навыворот:
– Вы примите, пожалуйста, книжонки и я этот стульчик возьму.
Эту печку складывали с такой матерной бранью, что, постояв полгода, она разваливалась. Вещи, когда их делаешь, не любят ругани.
Мужчина ругается, чтобы обругать, оскорбить. Женщина ругается, для того чтобы произнести – губами – непотребное слово.
– Да ты хоть выругайся – проще будет!
Не легче, а проще. Свой брат. Средство фамильярной общины. Ругань как создание дома, уюта, семейной атмосферы. Ругань – как тело души.
Бедный эстонец. Попав в лагерь, он принял русскую ругань за норму языка. В больнице у старичка вышел конфуз.
– Ну как здоровьице?
– Куево, доктор.
Католик-поляк – надзирателю: – Ты меня не тревожь, чтобы я в праздник свой не ругался!
– Я еще плакать не умел по-русски.
Пропавших коров обычно кличут какими-то мыкающими, по-утробному взывающими голосами. Чувствуется попытка найти с гулёной общий язык.
Иностранные слова в русском языке. Аэроплан, электричество. Стыдиться ли нам этих слов, тем более чураться ли их? Не в том дело, что вошли, но в том, что, войдя и прижившись, отозвались для русского уха полнее и многозвучнее иных исконных. Простенький, доморощен-ный, общеупотребительный теперь "самолет" меньше говорит нашему сознанию, нежели заимствованный "аэроплан". Ну что такое самолет? В ряду подобий – самокат, самовар, самогон – наименее яркое слово, ничего не говорящее, кроме сообщения пустой голове: сам летает. В сочетании "ковер-самолет" еще куда ни шло, а так – не слово, обглодыш. И как значителен рядом по смыслу аэроплан! Это – целая эра плана, европа плавания, парящие, распластанные крылья и закрученный вихрем винт-аэро; мы понимаем его чужеродность, на этом неестественном аэ глотку свихнешь – и все-таки, раскорячив пасть, из нёба-неба исторгнешь, выдавишь горлопана во внешний воздух, в смерч. И – айра (тарайра!), вихляясь, подтанцовывая плечами, дрожание планок, хрупкость конструкции (аппарат аэроплан), на переборках, растяжках, и крепкость и пустота каркаса, дребезг в тверди, стрекотание, заглатывание воздухом, облаком, соплом – и на арапа – раплан.
Электричество. Опять это выворачивающее, растягивающее рот до ушей, заезжее – Э, пере-ходящее в наше плавное еле-еле, или-или, скользит, пока не встретится ктри – включатель, взрыв, щелканье, зажглась тонкая проволока – трик-трак, ич-ич (птичий щебет), – и это сочетание начальной мягкости с внезапной яркостью спички, с искусственной химией, на спинах количеств вступает в строй всевозможных "э" – энергий, эпох, экономик (сюда, сюда электричество).
Эти непроизвольные ассоциации уха сродни народной этимологии, однако не настолько буквальны и не так наивны; случайно перекликаясь, они вправляют чужое слово в родимый ряд, приращивают и прививают, – цветет.
Получилось: калоши (галоши) более в духе русского языка, чем мокроступы. Они точнее: тут и около, и ложь, и ложка, и лошадь, и шел голышом. Более дальняя связь у К. Чуковского калош с крокодилом тоже возможна и законна: и те и другие водятся в воде, ползают по грязи, мокрая, прикинувшаяся подошвой невидаль.
Дирижабль – в первую голову жаба. Потом: дери, держи, жиры и жиды. Был – дилижанс, а стал – дирижабль.
Но мне почему-то еще в дирижабле слышится Симферополь.
"Лесенка" Маяковского, помимо очевидных ритмических и архитектурных проекций, двигав-ших рукою строителя, вызвана к жизни стремлением вдохнуть энергию в текст путем его особого, бросающегося в глаза, экспонирования. Любая речь, в принципе, расположенная подобным оборазом, читается с нажимом и начинает походить на стихи. Но от этого непрестанного нажимания она в конце концов устает.
В "Записках охотника" Тургенева об охоте почти ничего не рассказывается. Охота нужна, чтобы барин встретился с мужиком. Где им еще было встретиться? То же делал Некрасов. Охотник тогда заменял спецкорреспондента: вылазка в жизнь. До него контакт ограничивался встречами на постоялом дворе, и все совершалось под звон колокольчика. С ямщиками тоже беседовали. Но сколько можно путешествовать из Петербурга в Москву и обратно? Барин вылез из коляски и взял ружьецо. Ситуацию предвосхитил Пушкин в "Барышне-крестьянке".
Попался томик Лескова. Очень нравится его взлохмаченная и рыщущая, как собака, в разные стороны фраза. Она почти полуграмотна и торчит. "Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка". Такая корявость! – "против всяких законов архитектоники и экономии в постройке рассказа" ("Интересные мужчины").
У Лескова в "Головане" высказана мысль, об которую обломают зубы любители изображений с натуры. Мне-то она кажется крайне важной.
"Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу".
Именно потому! А еще рекомендуют рисовать то, что хорошо знаешь.
В этой фразе – гроб всякой преднамеренной точности и, может быть, основа общей психологии творчества, работающего, в сущности, всегда на незнакомом материале, который поражает и будит воображение. Оно-то, воображение, встав на дыбы, и натыкается на "сходство с натурой". То, что слишком знакомо, не удивляет и поэтому не поддается копированию. Искусство всегда для начала действительность превращает в экзотику, а потом уже берется ее изображать.
Танцуя отсюда, Лесков создает своей речью в первую очередь ощущение растерянности и неумения рассказать о случившемся и тычет слова как попало, с грубой неуклюжестью, надеясь, что эта мечущаяся в слепом недоумении речь в конце концов ненароком напорется на предмет и тот оживет и воспрянет в ее косноязычии – в "стремительной и густой дисгармонии". Как описать самоубийство, чтобы оно в итоге не было бы протокольным отчетом, но передавало бы весь ужас и бессмыслицу события? По-видимому, для начала следует избавиться от самой задачи описать его в точности. И вот он, отступя, растопыривает слова, как пальцы, и машет ими, так что в результате это открещиванье от рассказа становится лучшим способом ввести нас в курс и ухватить совершившееся беспомощным нагромождением речи, даже и не пытающейся ничего изображать:
"Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься пережитыми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть с какой-то высоты на человеческое малоумие и снова разлиться где-то в природе".
Отказался воспроизвести – и этим воспроизвел.
Удивительно слышать по радио "Славное море – священный Байкал" или "По диким степям Забайкалья ". Кажется, что тут особенного. Но как звучит это здесь и как это слушается!.
– Для меня даже спирт тяжел. Дайте мне тихое утро на углу леса! Выйду в поле и грохнусь в обморок.
– Клянусь свободой!
(Почти междометие)
Обращение к деревьям:
– Кормильцы!
– И не поймали?
– Где поймаешь! У них миллион дорог, а у меня – одна.
– В руках у меня – пугачевская пушка: ракетница с автоматным стволом. Свинцом заварена. Без мушки. Как дашь в лоб – глаза выскочат.
– Судья спрашивает: зачем же вы, свидетельница, показываете на человека, что он стрелял, когда вы сами не видели, да и вообще вас не было в это время?
Старушка отвечает:
– А я думала – мне пенсию дадут.
– В парикмахерской скосил глаз, а рядом, у соседнего зеркала, вижу, тоже бреется и давит на меня косяка.
(В побеге)
– Там оперативка – как паутина. И тайга. И зима. И населения – нету.
– Склонник.
(Склонен к побегу)
– Чувствую, на висках у меня капельки холодного пота.
– У меня очко сыграло.
(Были сомнения, внутренняя расколотость, несбыточная надежда)
– Выбери, говорит, свою звезду и иди. Масса железных дорог останутся слева.
– Беру велосипед и еду в другую сторону.
– Девчонка, с которой я таскался, кинулась мне на шею.
(В побеге)
– Смотрю – фалует, чтоб явился в прокуратуру.
– Волк и меченых берет.
(Поговорка)
– Вы, говорю, змеи, не вешайте мне лапшу на уши!
– Что вы мне нахалку шьете!
Врач говорит:
– Либо дураком тебя признать, либо здоровым – в любом случае вилы.
– И я сегодня сижу на вашей подсудимой скамье!..
– Все дивлятся на меня, як на тигра.
– Покажите же теперь ваше мужество!
– ...Чтобы работать и приносить пользу стране, где мой народ живет!
– Одна минута молчанки.
– И тем самым устранить из жизни.
– Но ихний образ у меня в глазах остался!
...Если в секции слишком шумно, надеваю ушанку. Это уже закон: чем человек ниже в умственном или образовательном цензе, тем в большинстве случаев он громче, крикливее. Это какая-то страсть производить в воздухе шум. Некоторые, даже рассказывая, надрывают горло, вопят. Точно хотят перекричать кого-то.
Радио не выключают. Говорят, под радио им крепче спится. Шумовой фон, вероятно, создает иллюзию жизни, полной смысла, событий. Или это способ заговорить пустоту, гложущую изнутри, как болезнь, попавшего в беду человека? В тишине они сошли бы с ума.
Как я жил вчера? Небо было очень звездным. Пришел ночью с работы и повесил в головах чистое полотенце. Как будто убрался к празднику. Бывает, от этой мелочи все в жизни зависит. Вот и полотенце – почти вымытая до блеска квартира.
21 апреля 1968. Пасха.
...Или просто тихо сидеть, отдыхая всем телом.
Любовь к ночи за избытком света. Слушание (подслеповатость) пейзажа.
– Одеться бы небом и как по ковровой дорожке – через запретку!..
Поверил в факт бессмертия от его повторения: сошло два раза в побеге, и в третий сойдет.
– Солдат не посмеет стрелять – у него рука отсохнет вместе с ружьем...
Мораль: за что даруется высшее благо? Возможно, за то, что птичек кормил, когда самому есть хотелось. И сам не помнил потом, когда же он их кормил.
Мне лист бумаги – что лес беглецу.
– Лес лучше поля: в лесу укрыться можно.
– А ты возьми палочку в руки и иди, и иди...
– Иди – там тебя ждет недописанная страница!
"Очарованный Странник" Лескова, возможно, написан в пику разочарованным дворянам Пушкина и Лермонтова.
– Напиши ей тогда, что я не умер. Что я просто – ушел.
Говорят: как звезд в небе. На самом деле звезд не так уж много. Их можно пересчитать по пальцам. Сколько в Большой Медведице? От силы семь. Но они видят друг друга и помнят: наперечет.
Одинокий брезгливец:
– Я бы мог несколько месяцев с вами интересно беседовать. Не переставая!
Смешно. Тетерева. Вслушайтесь лучше в свист ветра.
Живу одиноко и замкнуто. Прогуливаюсь вечерами, по полчаса перед сном. Приятно, когда никого рядом.
Это от тесноты. А пишут в книгах-журналах, что каждый человек нуждается в личном прос-транстве и, если всюду люди, можно заболеть. Невольно набрасываешь на ресницы невидящую сетку и, пользуясь рассеянным зрением, смотришь, но не видишь. Видишь только, что кошка вытянула ногу, как фабричную трубу, и вылизывает, – хорошо.
Всё как встарь, как в прошлом году: сижу за тем же столом под той же березой, и всякие сережки и семечки капают на бумагу, словно это было вчера. Скорость в распускании листьев, в повороте солнца на лето такая, как пускают в кино, когда хотят показать, что прошло столько-то лет, – не успел снег выпасть, и уже тает, и уже вишни цветут. Как-то даже жалко, что время так быстро течет.
10 мая 1968.
В музыке Моцарта, Гайдна сохраняется значение благовеста. Правда, у них он становится благовестом любви и весны. Когда до нас по радио долетает подобная музыка, то как-то не допускаешь умом, чтобы автор ее мог умереть.
Пока жду разгрузки, любуюсь на лес, подошедший близко к запретке. Такая осиянная плоть, фосфоресцирующая зернистость. Кроме Клода Лоррена, ничего не подберу.
Впадаю в пастораль. Но когда смотришь подолгу на один и тот же, навязчивый, манящий ландшафт, и он внезапно меняется на фоне неизменного быта и растет быстрее, чем мы живем, когда природа оказывается подвижнее человека и реагирует более внятно, сознательно, давая даже в этом ничтожном загончике столько пищи душе и глазу, что хочется ее непрестанно благодарить, – тогда возвращаешься невольно умом к одному и тому же дереву, и стремишься постичь это плотное, пучеглазое облако, и удивляешься его доброте и спокойному превосходству над нами.
Говорят, в Западной Германии самые интересные люди – полицейские. Они же всего человечнее и снисходительнее к нашему брату. Видимо, все же какое-то, по характеру и духу профессии, соприкосновение с фантазией, с чрезвычайным и экзотичным в быту делает их понятливее и живее для нас. Русский бродяга-пропойца, странствуя по Германии, по несколько суток (недель) регулярно отдыхал за решеткой. Накормят и, случалось, опохмелиться поднесут – на свои деньги. Как-то подобрали на улице. Камера-одиночка. Вдруг – добродушная, толстощекая рожа шуцмана в кормушке и кружка пива. В виде приветствия (рот до ушей):
– Смерть немецким оккупантам!
Единственные русские слова, какие знает.
– У немца была задача капитулировать Россию.
– Всю грудь оккупировало.
– Ауфштейн! – пошутил мужичонка, вбегая в курилку, но таким грозным тоном, что я ужаснулся: помнит! И рассмеялся ненатурально каким-то демоническим смехом. Удивительно, как ненависть разъедает сердца. Как ненавидящие слабы и беспомощны, как ненавидящие беззащитны...
О Гитлере:
– Его обращение погубило. Страшно погубило. Наш не любит, когда по морде.
– Жиды снятся?!
(Обычная шутка на тему стонов или криков во сне. Жиды приходят ночью душить и мучить спящего, который, надо думать, когда-то их ликвидировал. Конечно, не грех было тогда их убрать, но вот теперь они – снятся...)
...Сидит в камере мальчишка
Лет шешнадцати дитё.
– Ты скажи, скажи мальчишка,
Сколько душ ты загубил?
– Восемнадцать православных
И сто двадцать три жида.
– За жидов тебя прощаем,
А за русских – никогда!
Завтра утром на рассвете
Расстреляем мы тебя.
(Старинная песня)
Человек всегда и много хуже, и много лучше, чем от него ожидаешь. Поля добра так же бескрайни, как и пустыни зла...
– А если есть изверг – что хотите делайте, он все равно – изверг!
– Хватит ли у меня силы мужества кошку в топке сжечь?
– Я за свою идею не одного на тот свет отправил.
Русский человек только и делает, что искушает Господа каким-нибудь рацпредложением. То один вариант предложит, то другой по части устроения мира. Богу хлопотно с русским человеком.
– Всех, кто не в нашей компании, я бы уничтожил!
– Если б снял я тогда с него золотые часы, давно бы был на свободе...
– На мне два трупа.
– Дал ему руки замарать.
– Я ему говорю с той стороны (у брода): – Не ходи, Василий Иваныч. Стрелять стану. – А он – идет, смеется: не выстрелишь...
Что было делать?
– Ладно, отвечаю, о вашем деле я никому не расскажу. Но как вы могли, скажите, детей ведь, детей, трех-четырех лет, сколько их там оставалось, в детсаду?..
– Да дети-то были бесхозные!..
– Хочу, говорит, чтобы меня зарезали чистые руки...
– Ну а жалко было?
– Какая жалость, Андрей?
Убийца, даже праведный и несчастный, обязательно убьет "неправильно", "неуместно", не так и даже подчас совсем не того, кого намеревался убить. Труднее понять, зол ли убийца, или это больше – судьба, случай, стечение обстоятельств. Преобладающее чувство – "не я!" (а так получилось). Но не всегда ли у нас при самом плохом – "не я"? Не способен ли "добрый" на зло, любой добрый на любое зло, а все решает какой-то третий случай? И не потому ли – кто в мыслях своих, ибо этого уже достаточно: убийца!?
– Во мне злости столько, что положи меня на лед – на полтора метра оттает.
– Пускай я лучше умру, чем убью.
...Посмотрел на кошку, сказав ни к селу, ни к городу:
– Ее убить надо.
Беззлобно, спокойно, как говорят – пора завтракать, или не мешает побриться.
– Не вытерпел – замочил.
Живьем он никого не брал. Но, подкравшись к беглецам – ночью, в лесу, у костра, – никогда не стрелял сразу, но, взяв на прицел, выжидал минуту-другую:
– Пускай поживут, помечтают...
– В своих глазах я вижу его прокаженным!
– Так и сгинул от мужицкой руки – как свинья.
– Да ты бандитее меня!
– И она уже чувствует, кобра, что ее свеча догорает.
– Что человек думает – то ничего не значит.
За несколько месяцев, как объявиться ему Государем, Пугачев и не думал об этом. Не обнаружим мы в нем и наклонностей к злодейству. На допросе 16 сентября 1774 г. Пугачев показывал – о своем пребывании в Казанском остроге: "Между тем пропало у меня не помню сколько денег, а как многия о сем узнали и хотели отыскивать, однакож, я об них не тужил, а сказал протчим: "Я де щитаю сие за милостыню, кто взял – Бог с ним". Вина же я тогда не пил, и временем молился Богу, почему протчия колодники, также и солдаты почитали меня добрым человеком. Однакож, в то время отнюдь еще не помышлял, чтоб назваться Государем, и сия жизнь не была тому причиною, чтоб вкрасться людем и после, как назовусь Государем, чтоб можно было и на сию благочестивую жизнь ссылаться ".
Это – зима 1773, а летом – все начнется. Доброту души Пугачева подметил Пушкин, а также – его плутоватость, ловкость, пронырство. Недаром, как участник Прусского похода, Пугачев вспоминал о полковнике Донского войска Денисове, "который и взял меня за отличную проворность к службе в ординарцы".
Скорее всего Пугачев представлял собою обычный в России тип "легкого человека", которым играет судьба и который при случае сам не прочь с ней поиграть, становясь то добрым, то злым, не будучи таковым по природе, но приноравливаясь к обстоятельствам, имеющим характер везения, легкого и непрочного "щастья", как и в эпизоде с деньгами милостиво вдруг одарил такого же случайного и легкого на руку вора.
Узкая, как сабля, рука и модное слово "лайнер" – вот и весь человек.
– Я с шестнадцати лет – как рыба в воде.
– Полтора класса окончил пополам с братом.
Об удаче:
– А это я добыл без отца и без матери!
– Сколько вас?
– Восемь человек, и все – ни за что!
(Обычная острота)
Игровой человек не постесняется рассказать о себе любую гадость. С удовольствием даже расскажет: вот я какой! Он отделяет себя от себя и созерцает свои непотребства в третьем лице – как художник. Судьба для него лишь сюжет, требующий занимательности. Но сколько в этом сюжете он бед натворил!..
"В моей жизни и биографии нет ничего, кроме заслуг перед человечеством...
Таких людей, как я, везде только награждают...
Беру на себя смелость заверить вас, что с таким бескорыстным человеком, как я, вы еще не встречались..."
(Из "Жалобы Генеральному Прокурору")
...Но встречаются натуры мечтательные: – Почему Москва – не в Сухуми?! Вот если бы в Сухуми Москва была!.. Красивейшее место!
– Москва – столица: туда со всего мира приезжают в шляпах.
– Купите туфли – и вы сразу почувствуете себя Королем Лиром.
"Печальна жизнь, и я вот так сижу печально в печальной действительности и жду экзистенци-ального озарения".
(Надпись на фотографии)
Приучил сожительницу курить и садиться на колени к приятелям – чтобы потом докладыва-ла, кто и как из друзей с нею себя ведет.
– Косы ей обстриг по-городскому, "под колдунью": спереди челка, сзади висят – западный момент.
– Я придерживаюсь японского принципа вежливости.
– Я им открыл большую Америку.
– Западная культура – это чтобы сопли в кармане носить. Сморкнешь в платочек и носишь.
– Делай – как смешнее!
(Поговорка)
– Это же смех на палочке!
– Ох, и посмеялся я в 959-ом году: мужик в яму упал, а потом – баба!
– Как вспомнишь, что есть нечего – так смех берет.
...На какой-то стадии приходит сознание несерьезности всего, что делал, чем жил, и это чувство способно довести до отчаянья, пока не вспомнишь, что и вся мировая история не очень-то серьезна.
Все, что он ни писал, он писал о себе и собою, вытаскивая из собственной – такой ничтожной – персоны, как фокусник из пустого цилиндра, то утку, а то ружье, удивляясь своей же находчивости.
(Абрам Терц)
...Приятно, что нашему ребеночку полюбилось слово "оказывается". Не знаю, часто ли я им пользуюсь. Но по смыслу всегда: оказывается. Отсюда же перегруженность оборотами с "потому", "оттого" и "поэтому", логическими лишь по видимости, на деле – больше от фокуса: а что оказалось? Поэтому (оттого): из-под ширмы, яичница в шляпе. Не доказательство – появле-ние из воздуха, из ничего: оказывается!
Умываясь, потрогал голову и вдруг удивился – до чего же она маленькая...
Никак не придумаю: зачем у мышей хвост?
Как взглянешь на карте на очертания Австралии, так сердце радуется: кенгуру, бумеранг!..
Очень смешно купаются воробьи: нагибаясь, мочат брюшко, а потом долго отряхиваются. И в это время очень заметно, что у них нету рук.
Интересно, как мыши относятся к птичкам и как жуки – к бабочкам? Они же видят друг друга. Но что думают?
Жаль все-таки, что в лагере я хуже стал относиться к собакам.
Еще подозреваю, что старички более дети, чем кажется с первого взгляда. У них детские интересы. Съесть какой-нибудь пряник. Сходить в кино. И они чаще, чем мы думаем, внутренне прыгают на одной ножке. О том, что старички – дети, можно судить по гномам.
Трехцветная кошка, в-четвертых, вымазанная зеленкой.
...Когда зеленые листья становятся черными на бледно-розовой, как морковка, заре.
Нужно уметь вить из фразы веревки. И ходить по ней, как по канату. По воздуху. Ни за что не держась. Вне тела. Без формы. Как чистый дух.
Стихи:
Люблю ходить я на охоту
И уважаю труд,
Иду на всякую работу,
Люблю культурно отдохнуть.
Интересно при всем том, что охота на первом месте.
Поэзия пародирует быт, изъясняясь с преувеличенной вежливостью, обстоятельностью: "Однаджы в студеную зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный мороз..." Внутри же, про себя, она в это время так и покатывается со смеху: совсем как настоящая! вот умора!
Стоило бы пройтись по Третьяковской галерее и посмотреть на живопись глазами пантомимы. Хогарт, убежденный, что копирует жизнь, в автобиографии проговаривается (не подозревая, что выдает себя и всех своих соумышленников):
"Я старался трактовать мои сюжеты как драматический писатель: моя картина – моя сцена, а мужчины и женщины – мои актеры, которые посредством определенных действий и жестов должны изобразить пантомиму".
От "реализма" в подобной трактовке мало что остается. В ход идут насквозь условные приемы.
Во-первых, эффект узнавания (примерно так, как это подают экскурсоводы, правильно поймавшие, в чем тут корень дела). Посмотрите направо, посмотрите налево. Вот пожилой господин открыл рот и поднял палец в рассуждении позавтракать, а его молодая жена закатывает истерику под видом нет денег, покуда знакомый гусар выпрыгивает в окно, забыв под стулом разбитый, стоптанный во многих походах сапог, и так далее, по порядку, вплоть до кота Васьки, уплетающего по диагонали хозяйский завтрак, мораль. Зритель радуется: все совпадает, однако – не с жизнью, с программой. Удовольствие доставляют ясность читаемой ситуации, сформули-рованная осмысленность жестов, складывающихся в задание, в котором кот и сапог наносят последний удар по недоверию скептиков и ставят точку над i в развитии реализма.
Во-вторых, эффект занимательности: все сошлось в одном холсте как в фабуле романа, переплелось, завязалось интересным бантиком: смотрите, какие шутки выкидывает случай – тут и кот, тут и сапог (без сапога не было бы картины – на нем все вертится). "Типические характеры в типических обстоятельствах" сплошь и рядом оказываются счастливым совпадением карт. Искусство правдоподобия сводится к умению заинтриговать, составить ребус с подсказкой, как его расшифровывать. Как в жизни? – да нет, как в искусстве, где все предвзято, придумано.
В-третьих, эффект внезапности. Необыкновенно сгустившийся, остановившийся, как вкопанный, миг – сцена остолбенения (подобная "Ревизору"), выдернутая из времени, – не миг, а гром с ясного неба, диктующий всем замереть в пойманной, как карманник, позиции. Автор только и делает, что накрывает героев с поличным: – Ага, попались!
От жизненной правды здесь разве что материал, украденный из-под носа у зрителя: улица, бедность, низменность быта, подглядыванье в ближайшую скважину. Но компановка и живопись зиждятся на искусственных трюках, вплоть до приноровленной к мелкому зрению техники. С жанром пришел микромир, микроклимат. Помимо сюжетной скромности, не позволяющей сватовство майора представить в масштабах последнего дня Помпеи, маленькое отвечало задачам узнавания и занимательности: интригу нужно распутывать и для того разглядывать. Отсюда доступность манеры, ясность и точность прочтения совсем не от "реализма", но чтобы было видно, где что лежит. Отказ от густой светотени, красочного богатства, -широкого мазка: картина должна хорошо обнюхиваться и для того вылизывается – чтобы не потерялись из вида ни кот, ни сапог. Отсюда – учитесь точному отображению жизни, точнее учитесь искусству разыгрывать пантомимы!
Люди – это дети. Если их не занимать работой, они все время играют – в карты, в "чертей", в домино. Для камерного режима (с подвохом для новичков) придуманы специальные игры: "Лесопилка", "Гуси", "Пуговица" (с кружкой), "Хитрый сосед". Все очень смешные.
– Я его старше, а он меня ударил!
– На морды люблю смотреть, когда в карты играют,– ой, комедия!
"Строить дамский сортир" (прием игры в шашки).
...Меня раздражало (да и сейчас иногда доводит до белого каления) – с какою тупостью целыми днями, годами дуются в домино, стуча костяшками так, чтобы все дрожало, подпрыгива-ло, с машинальным повторением одних и тех же ругательств – обязательно стучать, приговари-вая: "пошел!" "пошел!" – без этого не бывает игры. Но приглядеться – за этим скрывается вторая действительность, в которой немой человек находит не просто отдых, но незаменимый сюжет разумного существования, переживает драму побед и поражений, испытывает близость судьбы, казалось, от него отступившейся, поработал на станке, поиграл в шашки для поддер-жания интереса – игра содержит схему жизни, полную приключений, и за недостатком событий таковые воссоздают на доске, проходя не в люди, а в дамки, – такая же реальность, как, скажем, сочинительство, чтение, когда ныряешь в книгу, как в жизнь, и живешь параллельно игрой или движением речи, более интересным, сюжетным, чем собственная судьба, – и все эти доски и плоскости, составленные под углом, торчащие в разные стороны, образуют объемное, запутанное бытие человека, имеющее несколько срезов, уровней и направлений. Это повседневно, всеобще, но какой же это быт?
Литературная речь в старину, возможно, была свободнее в синтаксическом отношении и допускала обороты, сплетающие как бы разные потоки или пласты бытия. Идея сочленения букв и слов, может быть, всего очевиднее представлена в книжном орнаменте, который не только украшен, но весь увязан и перевит, где звери сцепились хвостами и люди наткнулись на сабли, закручивая единую линию в растительный лабиринт, который своей непрерывностью возбуждает желание заново описать эту цепь, то есть связать ее взглядом, – и все это вяжется свыше сакраль-ным узлом заставки, сплетающим начальные фразы с названием и оглавлением в большую общую букву со множеством завитушек и ребусов, требующих расшифровки – прочтения. Тогда лучше чувствовали и больше помнили, что, читая, мы сопрягаем "аз" и "буки" в связно растущую речь, и, упиваясь ее витвьем, уже от рисунка букв впадали неудержимо в словесную витиеватость, которая так естественна для книжного языка, более связного и продолжительного по сравнению с разговорным, что и получило акцент и осознание в орнаменте. Раньше мне представлялось – в орнаменте на нас словесные образы лезут, а теперь я вижу, что сильнее в нем лезет их речевая связь.