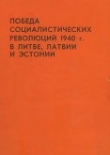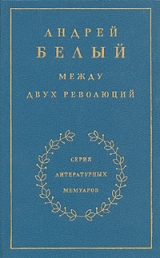
Текст книги "Между двух революций. Книга 3"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Отмахавши пол-Швабинга, – свертываем в столовую для бедняков и рабочих; все просто: столы, лавки, стены и груды тарелок, ножей, жестяных, мятых ложек; вооружаемся ими; и – двадцать пфеннигов суп; тридцать – братен [Жаркое] (кальбсбратен, швейнбратен [Телятина, свинина]); за «бир» – десять пфеннигов; из черпака перевязанной фартуком «фрау» [Женщина] получаем свой суп; очень долго выискиваем себе место: за длинным столом; горбоносые люди, угласто расставивши локти, – уписывают; обед, стоящий марку, Владимирову не по средствам; за марку питается с ужином он: двадцать пфеннигов в вечер обходится суп из гороха; и пфеннигов двадцать – чай, земмели; [Маленькие хлебцы] я с ним обедаю.
Он познакомил меня с эмигрантом Е. Вулихом, меньшевиком, и с очень тихим художником Дидерихсом, молодым и голубоглазым блондином, с сестрою его;34 впятером мы гуляем, простаиваем под рогатою рожею фавна, протянутой из темной зелени; прыщет струей на мальчонка; стоим под виллой художника Штука, которая силится выглядеть Грецией; раз мне шепнули:
– «Вон, вон, – поглядите: Франц Штук!» Белоштанник в визитке коричневой, коротконогий крепыш с толстой, апоплексической шеей, лицо свое выставил, щуря под солнцем угрюмые, черные глазки; с апломбом приставил ладонь к котелку, зажимая перчаткою трость; головою вперед, – точно бык; круто перевернулся; пропал среди зелени.
– «Видели?»
В. В. Владимиров, Вулих меня посвящают в народную жизнь – не в кафе «Стефани», очень чопорное и пустое, где в два часа дня из окна торчит в улицу желтой спиной, желтым теменем сам Станислав Пшибышевский; кругом него – пусто; вдали из пустыни столов кто-то, такой же известный, завесился «Цайтунгом»; здесь знаменитости первого сорта являются в два часа дня и пьют кофе да перекатывают биллиардные шарики; скука здесь – честь заведения; незнаменитые люди, как я, пробегая под окнами, фыркают дымом в зеркальные стекла; одни имена европейских масштабов друг другу в кафе назначают свидания; делать тут нечего; вот и сейчас – два часа; стало быть: Томас Манн, обитающий в Мюнхене35, сел в «Стефани», потому что для мюнхенца два часа дня означает:
– «Сижу в „Стефани“!»
Нет, уж лучше в пивной, переполненной красными, жилистыми, горбоносыми горцами: в ярко-зеленых и в ярко-коричневых куртках, в дешевых, цветами кричащих жилетах, в дешевых, цветами кричащих чулках; много «масс» [Кружек] осушают с утра они; с крыши висящий маляр, поработав, глотает из «массы», им взятой под крышу; и «массой» кончает он вечер, вскурив не сигару, а палку: она – чем длинней, тем дешевле; однажды я видел: вскочив из-за столиков, бросились с кружками на неудачника; над его кружкою кружку на кружку поставили; вырос – столб кружек; и с криком вздирали носы, горла драли; и прибежавшая кельнерша в чепчике тоже визжала, схватясь за живот:
– «Что такое?»
– «Забыл закрыть кружку; ему и наставили кружек на кружку; наполнил он их на свой счет: таков местный обычай».
Здесь временем правит гротеск.
В голове «Баварии», статуи, – комнатка; я в ней сидел; это есть голова всему Мюнхену; то же и здешняя кельнерша; ее обязанности: на наскок грубоватой двусмыслицы лишь отвечать остроумием, перевоспитывая и скота; часто кельнерша – передовая Бавария, ставшая выше мещанистой «гнэдиге фрау» [Милостивая государыня], даже выше студента с разрубленною так и эдак щекою, мечтающего, чтоб ему еще раз процарапали щеку; с царапиной каждой взлетает его репутация.
Кельнерше Мюнхена свойственны легкие флирты, романы; не свойственна ей проституция; часто романы ее переходят в глубокое чувство: она – молода; не глупа, миловидна, лукава; во всех увлеченьях своих волит брака законного, вооружаясь увертливым шармом; она поднимается в гору; и часто студенты, художники, маленькие музыканты из Мюнхена ее увозят женой; она знает: во всякое время ей надо стать выше кутящей компании, чтоб, протрезвись, про нее сказал каждый: «Марихен хорошая девушка!» Вместе с тем: ее обязанность – не отшибить от «локаля». Она есть явленье скорее отрадное в мюнхенском быте, пивном и табачном.
Так мне напевает Владимиров.
В королевской пивной свил гнездо не рабочий, а королевский толстяк, – сердце бюргеров, перенесенное в место пупка, под которым взрывается урч от двенадцати выпитых «масс»; его жизнь протекает в наливе; и после – в отливе; таков мой хозяин: впервые увидев меня, он, с посапом взяв под руку, затопотал убежденно со мною к известному месту:
– «Запомните… Шо!.. А то вечером, когда вернетесь из Хофбрейхауз, будет казаться вам, что голова – на полу у вас, а потолок – под ногами! Так надо уметь пробежать!..»
И, посапывая, топотал он со мною обратно. О да, – потолок под ногой: это – быт государственного толстяка; и – удой коронованного пивовара; багровый толстяк, заседающий здесь, искони отравлял ядовитыми газами даже свободных художников, здесь оказавшихся; пиво – политика и экономика Мюнхена; Гейне отметил:
«У нас только один великий оратор…но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь по поводу добавочного акциза на солод в Аттике»; Гейне рисует его: «Я бы принял эту голову почти обезьяньей… На переднюю часть головы, выдавившую из себя лицо, богиня пошлости наложила… печать… с такой силой, что… нос оказался… расплющенным;…скверная улыбка играла вокруг рта… И это… демагог?» [Г. Гейне, Путевые картины, т. VI, с. 28–29 («Всемир. лит.»)36]
Демагог очень любит приплясывать с юношами-иностранцами; плясом работает он на баварскую каску, вздыхая о «добром правительстве нашем»; в войне он – лютеет; жестокость «баварца», – о ней прокричали; толстяк королевской пивной в ней покрыл себя срамом; его добродушие – спесь хитроумной и злой обезьяны, сумевшей уверить других, что она – из «Афин».
Мюнхен слыл за «Афины».
Шарм Мюнхена в том, что он пятнами легких цветов имитирует небо и воздух; и некогда «Сецессион» таки передавал добродушие цветописи; скоро, тяжеловатою линией дуясь в вола иль в классическую перспективу, художник из «Сецессиона» лишь выдул огромный, но мыльный пузырь для искусства, который стал чтим; но, увы, – чтим какою ценой? Сам художник Цирцеею некою был превращен в толстяка из Ратскеллера:37 и получил из руки принца-регента громкий диплом на «гехаймрата» [Тайного советника].
Беклин и Штук – «толстяки»; дочка Грингмута стала женой сына Беклина, после чего и «Московские ведомости» превратили его в перл создания; Беклин – багровый толстяк, уверявший, что он есть Пракситель, а Мюнхен – Афины; романтика и белозадых наяд его, и темнопузых кентавров – почти порнография, нас уверяющая, что она – краска Рубенса; Штук – буржуа, пожиратель кровавых бифштексов культуры; галоп же кентавров его превратился в галоп кавалерии: скоро!
«Афины» – искусственная аллегория, скрывшая только до времени: каску и меч; Генрих Гейне уже говорит об «Афинах»: «В Мюнхене, как в макбетовской сцене с ведьмами, можно наблюдать ряд духов… от багрово-красного духа средневековья, закованного в броню»… и далее можно наблюдать «замки позднейшего периода, неуклюжие, в немецком духе, обезьянничанье с противоестественно-гладких, французских образцов – …великолепие архитектурной безвкусицы с нелепыми завитками… с кричаще пестрыми аллегориями… и картинами» властителей «с красными пьяно-трезвыми лицами»38.
Гейне не видел действительной подоплеки безвкусицы; мог он сказать, что «безвкусица не оскорбляет»; уже в 1906 году эта безвкусица таки пугала; с начала ж войны дико воскликнули «пестрые аллегории» Мюнхена; лик «мясника» приподнялся над кружкою употребителя пива.
«Симшшциссимус» был местом сбора художников из «Симплициссимуса» (журнала), а стал – местом сбора богемы: Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Польши; когда умерла Катти Кобус, еще в 1923 году я нередко в Берлине слыхал: «Как! И вы там сидели? Так мы – земляки!» «Симплициссимус» – воспоминанье о молодости, о порывах, – для скольких? Сидели здесь: Гейне (художник), Детлеф Лилиенкрон, Христиан Моргенштерн, Каспрович, Франк Ведекинд, Голичер, Штук, еще – сколькие! Сиживал и Игорь Грабарь, когда-то друг Ашби, которого имя связалось с хозяйкою, с Катти39.
Ей было за сорок пять лет уж; морщины чертили лицо с острым носом, со жгучими блесками глаз, с волосами – как кокс, оттенявшими сочные, темно-пунцовые губы; вся в черном шелку, со сверкавшей серебряной цепью на шее, дородная, пышная, сдержанная, помахивая своим кружевным черным веером, кутаясь в черное кружево, все посылала улыбки проказникам, – впрочем, давала понять, что тон пошлости не соответствует этому месту; студенты, актеры, художники чтили ее и считали за честь ей представиться.
Мне рисовалась натурщица, с юности перешагнувшая через себя самое в неустанной поддержке не признанного в свое время художника Ашби, ей ставшего другом, умершего – рано; и ныне – гремевшего; первая в нем увидала талант; собирала непризнанные черновые наброски; оказывала материальную помощь; художественный кабачок (с ударением на «художественный») – плод союза их; я не видал ничего здесь кабацкого; Катти, привстав, брови сморщив, пристукнувши палочкой веера, ей убивала в зародыше пошлость и снова садилась и, кутаясь в черное кружево, нюхала розу, качалась на звуках в волне остроумия и принимала участие в нем; всякий, выпивший лишнее, ей устранялся; когда он являлся с повинной, она, грозя пальцем, прощала: «Чтоб этого не было!»
Не ради выгоды месяцами безвозмездно кормила она бедняков, ей потом приносивших в подарок этюды, которыми ей украшалися комнатушки, способные Мюнхен вместить: они были кокетливы; в окнах снаружи был мрак: от тяжелых опущенных штор; только вспыхивал красный фонарик в лозе, над подъездом, глася: «„Симплициссимус“ – бодрствует!» От десяти – наполнялся; гремел на весь Мюнхен – к двенадцати; часто гремел до утра, когда Катти учитывала: нарушение ею положенного полицейского часа [Час обязательного закрытия ресторанов] покроет весь штраф; тогда, встав, с грациозной улыбкой кидала:
– «Ну, дети мои, – веселимся сегодня».
Бывало, – за входною дверью подымешь тяжелые ткани и глохнешь под звуками в тесненькой розово-желтой передней, где кучи накидок и шляп, где одеждою ломятся вешалки; приоткрываешь вторую дверь – на переборы веселого гомона, точно рубимого мощным рояльным ударом: рапсодия Листа! И – вензель из взвизгов смычка; и пристойный, дородный скрипач, уже лысый, привстанет со стула; рукой прижимая к груди инструмент, покачает ладонями: «Sonne in Brust» [ «Солнце в груди»]. На помостик, покрытый ковром, в углубленьи стены – стал рояль; он гремит; и – скрипач, как седок, уж седлает смычком, точно шпорами, мощные рокоты, звучно качается корпусом; борзый рояль, точно конь, ударяющий звонким копытом, несется ландшафтом мелодий.
Две комнатки точно срослись в коридор; плещет шелк вырезных абажуриков крыльями легких пунцовеньких бабочек в пестрь застекленных этюдов; все – в кремовых рамочках; круглые столики – в бархате, в нежных гри-блё; [Серо-синий] здесь хрустальные блюдца с петифурами, здесь пиджаки бледно-палевых и бледно-серых тонов с бледно-тонными, серокисельными, нежно-лиловыми галстуками; здесь проборы и лысины; здесь золотые пенсне, кружева, шелка кофточек, перья боа черных и пенистых; много юных безусых, смеющихся, розовых лиц, средь которых – солидные, бритые, ярко-седые: актеры, писатели, профессора Академии, с именем, критики; а между столиками по дорожке гри-блё шелестит фрейляйн Анни атласною черною юбкой; несется с витым изумрудно-прозрачным бокалом рейнвейна; кой-где перекинутые, от столика к столику, скатертями покрытые деревянные доски; с двенадцати все помещение – шашечной формы состолие; и приезжающие из театра изящная дама в спадающих перьях, с цветами в руке и в боа, кавалер ее в тонной визитке слегка пожимают плечами; и… и… ретируются.
Штаб Катти Кобус имеет здесь место всегда; я имею честь числиться в нем; Катти Кобус ведет, чуть держа за рукав, к тому столику, где, по ее представлению, следует сесть; и показывает на него еще издали веером: «Дорт!» [ «Там»] Она знает, кому где полезней, кому где приятней, и вот – результат; оказались знакомыми – Франк Ведекинд (драматург) с миловидной женой, Шолом Аш, еще юноша [Известный еврейский писатель], очень известный в то время поэт, Людвиг Шарф, анархист-публицист, тонколицый, брюзгливо-рассеянный Мюзам, позднее фигура советской Баварии, севший в тюрьму40, эскадрон польских критиков, юноша бледный, племянник философа Паульсена, Станислав Пшибышевский, почти не бывающий здесь.
Мое первое впечатленье от «Симплициссимуса»: пестри цвета; но тут же заметили русские и обо мне рассказали с три короба Катти; она ж величаво ввела в круг гостей своих; я для нее покупал у цветочницы розу; все стало своим: Катти, публика и фрейляйн Анни – высокая, стройная, юная девушка, почти красавица, стянутая черным шелком: с живыми глазами и с грустно-мечтательным ртом, проносилась с подносиками по ковровой дорожке с рейнвейном и потчевала «кальтэ энтэ» (настой ананасов в вине).
«Симплициссимус» влек атмосферой безбытности, сливками интеллигенции, искрами шуток, взметаемых здесь, завозимых же из Будапешта, из Вены, Берлина, Варшавы и Кракова; и как конфетти цветных афоризмов, взрывались и падали тотчас же в звуки рояли; здесь юноши в светлых визитках вставали белясо, чтоб выбить в ушном лабиринте строку; поднимали стаканы свои и просили, устраивая страшный гвалт:
– «Der Prolete»! [ «Пролетарий»!]
Расставивши локти, согнувши курчавую черную голову (густой бородкою – в скатерть, а носом распухшим – в стакан), там скорбил равнодушным лицом пролетарский поэт Людвиг Шарф; поднимался, руками упершися в стол; и мычал угрожающе нам свой шедевр: «Der Prolete».
Однажды, когда вихрь веселья взлетел к потолку, абажурики стали порхать мотылечками, сдвинулись к двум горбоносым венгерцам в коротких штанах, в серо-зеленоватых гамашах; тут грянул чардаш, и венгерцы, вскочивши, схватяся за талии, их пооткинув, схватясь за затылки, разбрызнулись вместе с задетым ногою столом: дроботанье двух пар каблуков, вероятно подкованных, – в пол, звон стаканов разбитых и дождь винных капель в лицо! А два тела, слитые в одно, засквозив, стали – вихрь, проходивший пощечинами разлетающихся пиджаков по губам, по носам, по щекам.
«Симплициссимус» – сливки Берлина и Мюнхена, но – не Москвы; для нее эти сливки – еще молоко; сам отстой афоризмов в Москве нам казался игрой в дурачки; мы, вкусивши от «сливок» Уайльда, узнали тщету афоризмов, коль пища иная изъята; снобизм казался остынувшим блюдом; и – кроме того: в «Симплициссимусе» заседало пять-шесть остроумцев; все прочее – непропеченное тесто еще молодых модернистов; уста этих юношей произносили лишь – «интерессант», «файн» и «тиф» [ «Интересно», «тонко», «глубоко»], так что, вынужденный говорить, через несколько дней я взял тон превосходства над группой юнцов, хоть «немецкий» язык мой хромал; они слушали; и все поддакивали: «О, ви файн!»41 Помню Цутта, швейцарца из Базеля, помню студента из Швабии Гейгера; был темпераментен шваб остроносым лицом, на котором пылали багровые шрамы; он стал забегать ко мне, неся «аусшниты»; [Наборы колбасных ломтиков вместе с хлебцами, составлявшими студенческий ужин] в Мюнхене было обычаем ужинать группою; Гейгер таки надоел; от него – улепетывал; он, погонявшись, обиделся; раз, скрестив руки, ко мне подступил, стал «фиксировать», после чего я бы должен был вызов послать ему (корпоративный обычай); а я – отвернулся.
Отстал.
«Симплициссимус» я посещал каждый вечер еще потому, что я жил от него в двух шагах; пробежавши по уличке, соединявшей мою Барерштрассе с Тюркен, свернув, – я был там; раз меж столиками предо мною возник Игорь Грабарь;42 мы с ним провели два-три вечера в долгих беседах о здешнем искусстве; я плавал в его ядовитых сар-казмах: по адресу Мюнхена; веяло воздухом «Мира искусства», который в России казался давно передышанным; здесь он казался озоном; в дыхании мюнхенцев сквозь полосканья одолями – дурной запах шел: это – последствие мюнхенской кухни; а Грабарь стоял за французскую; знал как пять пальцев он Мюнхен, когда-то прожив в нем и пользуясь обществом Ашби;43 пропятив губу, он выцеживал мненья, небрежно, ленивейше; и еле-еле кивочки бросал «уважаемым» старым знакомцам; запомнилась его тугая, остриженная догола, красно-розовая голова, совершенно безбровая, с очень большими ушами и с малыми карими глазками; походил он на фавна в дрожащем пенсне – и губою, и острой бородкой; визиткой табачного цвета, лиловою ленточкой галстука не отличался от мюнхенцев.
Вырос внезапно, совсем не вошел; точно он содержался в подвале «локаля» со времени Ашби, подобно вину: отстояться и вновь приподняться из люка; лениво оглядывал прежних друзей, вид имея почтенного циника: «Живы, – курилки?» Пропал, провалившись как в люк.
Я раз, наблюдая шумевших поляков, им бросил бокал:
– «Пью за вашу свободу!»
Вскочили с бокалами, – чокаться; перетащили к себе: изливаться в симпатиях; плотный блондин в эспаньолке, в пенсне, в светлой паре мне выбросил руку: Грабовский, – поляк, драматург, публицист; бритый юноша, вспучивши чувственно-красные губы и вылупив пуговицы безреснитчатых глаз, изгибался, качаясь локтями, кистями, бросая и вправо и влево огромный, изломанный нос; и качались волос, точно шерсть жестких, – кольца; когда ж мы остались вдвоем, то он, тыкнувши в грудь себя пальцем, внедрял в моей памяти:
– «Аш… Аш… Еврейский пиеатель… Шолом: это – я!»
И показывал белые зубы, заранее радуясь, точно дитя, моему восхищенью; к стыду моему, о нем даже не слыхивал; только что вышел его «Городок» (на жаргоне);44 заставил меня много выпить; то он шлепал ладонью меня по плечу и давил подбородком; то, отъехав со стулом – валился назад, свои ноги вытягивая; эта ночь, проведенная с ним, мне изгладилась.
Скоро нашел на столе у себя я царапки: «бул Аш» – при приписке: «Аш будет!» И тотчас он с треском влетел: в синей паре, в молочного цвета жилете, при розе в петличке, с перчаткой в руке, зажимающей собственный томик, с надутою верхней губой, с бараньими кольцами в черных мохрах:
– «Аш пришел!»
Не то – пупс, пожирающий сласти, не то – арлекин, замахавший из цирка по улицам; выпуклый лоб в поперечных морщинах – как плакал; а белые зубы – оскалены; не темперамент, а – Этна, взорвавшая скатерть, чтоб пепельница покатилась по скатерти, книга расшлепнулась мятой страницей на спинке дивана, а кресла мои, подбоченясь, составили б круг вокруг нас.
Мы хватались руками; он – под потолок запускал горловые какие-то песни, а я при попытке стихи прочитать оказался раздавленным в кресле коленкой; рука заковалася пальцами Аша, который рубил перекуренный воздух другою рукою, крича наизусть во все горло свое свои: собственные упражненья; зычно внушая на трех языках (на немецком, французском и русском), которыми он не владел:
– «Ну что, что? Вы, вы – слышите?» – выбросил перед собой свои кисти в лицо мне ладонями, вздернувши нос.
– «Не слова, – а серебряные колокольчики!»
Был бы смешон в этом диком восторге пред собственным гением, если бы не доброта, откровенность и молодость; словом:
– «Бул Аш!»
Порешив, что я – тоже талант, быстро вывлек на улицу: кубарями покатились – куда, для чего? Только – помню, что у «Стефани» Аш, держа меня за руку, вставши на цыпочки, носом – в стекло, озирал пустовавшие столики, тщетно ища Пшибышевского: не было:
– «О! Вы должны его знать! Как?.. Такой человек! Я – его приведу… Я – к нему поведу… Я и он… Вы и мы!»
И мы —
– кубарями —
– покатились к Английскому парку, под золото вязов и ясеней; Аш взбивал тростью багровые ворохи; остановив и своей ледяной пятипалой рукой заковав мою руку, опять издавал горловые какие-то звуки: свои колокольчики!45
Я познакомился с С. Пшибышевским46.
Не помню подробностей встречи; ворвался стремительный Аш, торопя меня: ждет Пшибышевский в кафе «Стефани» – в два часа; посмотрев на часы, я увидел, что мы опоздали: Аш где-то застрял, по обычаю; все же он вырвал из дома; уже подходя к «Стефани», он мне бросил:
– «Вот, вот он!»
Где? Улица – пустая!
Знал снимок с портрета писателя: выпитый лик с сумасшедшими, выпученными глазами козла, с бородой Фердинанда Испанского, вставший из мрака; этот дикий эротик, сошедший с ума Дон Кихот отвечал представлениям о «Homo sapiens» или «De Profundis» [Произведения Пшибышевского47]; и он соответствовал рою легенд: выступление на семинарии Вундта, дуэли, испанские страсти, горячка-де белая – так говорили о нем.
Совершенно пустой тротуар; от дверей «Стефани» шел, лениво сутуляся, плотный и широкоплечий, слегка рыжеватый мужчина в простой желтой паре, в соломенной шляпе с домашним, вполне простодушным лицом; он казался мне маленьким польским помещиком, жизнь коротающим где-нибудь около Ковеля; полные, чуть красноватые щеки, вполне незаметные глазки; устало прищурясь на солнце, рукой защищал их; на руку другую – повесил пальто; узнав Аша, ему улыбнулся слегка и ускорил свой шаг, бросив пристальный взгляд на меня; подошел, протянул свою руку, с простою и милой улыбкой держа мою в широкой и теплой ладони; он стал извиняться: уж – три (тут он вынул часы); запоздали-таки; у него есть свиданье; он спрятал часы, вынул книжечку, мне записавши свой адрес; потом очень бережно вырвал листок, передал и сердечно тряс руку; просил посещать его запросто: вторник, с пяти-четырех, Бисмаркштрассе; в движениях и в интонации что-то открытое, чуть мешковатое; пафос дистанции не ощущался ни в чем; как товарищ, сконфуженный тем, что летами нас старше, стоял перед нами.
Вдруг – не как помещик, а как изощренный испанец в плаще, снявши шляпу, с расклоном (всем корпусом), быстро понесся вперед; на ходу повернулся на нас, помавая ладонью; легкий ветер трепнул его волос над крепкой спиною, подставленной нам; он исчез в пустой улице.
Скоро я был у него; жил он где-то вдали: на отлете; мой путь перерезала площадь, не то недостроенный пустырь; его пересекши, искал Бисмаркштрассе; все «штрассе» тут – точно одна; и те ж здания, двери подъездов, квартиры; едва отыскал его неосвещенный подъезд: высоконько!
Квартира – простая: клетушки – не комнаты; в первой – стол, несколько стульев, рояль да диванчик; служила – приемной, гостиной, столовой; бутылки вина, пиво, чай; перед ними компания просто одетых людей: все поляки – Грабовский и с ним секретарь очень чтимого нами – «Весами» – журнала «Химеры»; сошелся я с ним;48 поздней пришел Паульсен.
Видно, хозяин, как гости, – бедняк; меня встретил сердечным протягом ладоней; он, руку свою положив на плечо, вел к столу; и усаживал: «Распоряжайтесь!» Налив мне вина, деликатно дотронулся теплой ладонью своей:
– «Угощайтесь!»
А сам протянулся к стаканчику с пивом: глоточка на три:
– «Вот моя порция: иначе – смерть!»
И, поймавши мой взгляд, улыбнулся мне тихо он:
– «Я ведь приехал сюда умирать!»
Жил еще лет пятнадцать; его нездоровое очень лицо и дрожащие руки с опухшими пальцами, грусть, разлитая им, – все убеждало, что он – не жилец; очень бедствовал: бедствовал, впрочем, всегда; с интересом расспрашивал о гонорарах; и жаловался, что писатели польские бедствуют; их гонорары – ничтожны; в России ему мало платят, задерживают; а собранье его сочинении расхватано; там он гремел, как нигде49.
Он помалчивал, нам подливая вина; и весь вечер щемило на сердце; не помнилось, что «знаменитый» писатель – враждебен мне художественной тенденцией; грустный, больной, перетерзанный жизнью бедняк заслонил все иное; и черноволосая женщина, с блеклым, но острым лицом, с сострадательной нежностью, как на ребенка, смотрела на мужа; я знал, что история этой любви драматична; ее он увез от приятеля, первого мужа, талантливого Каспровича; ждали на днях его в Мюнхен; подумалось, глядя в глаза тихой женщине: «Ей не легко!» И припомнились мне: Дагни Христенсен [Наборы колбасных ломтиков вместе с хлебцами, составлявшими студенческий ужин], рано умершая, и «Аугустинербрей», сумрак коричневый, думы о том, что след посох мне взять и сквозь годы пойти в одинокое «Зимнее странствие»50. Вот тоже он – бросил Польшу; он гроб нашел в Мюнхене;51 ну, а я – где? Захотелось на руку его положить свою руку; и – руку рукою погладить; и тихо сказать ему:
– «Брат!»
Скучноватые вторники я посещал аккуратно, взволнованный горькой судьбою; точно чувствуя это, ко мне относился он с легким оттенком признательности.
Я принес ему номер «Руна»; он дивился нелепым роскошествам номера; и расспросил о Н. П. Рябушинском.
– «С восторгом они напечатают вас».
За это схватился; я тотчас послал Соколову письмо;52 не дождавшись ответа, уехал; но драма его появилась в «Руне»53.
Раз, зайдя, никого не застал; просидели весь вечер втроем; он рассказывал образно о пребываньи своем в Петербурге, о том, как его охватила тоска там; с улыбкою вспомнил о Фекле:
– «Прислуга в гостинице: друг мой единственный там».
С интересом расспрашивал о революции; я, разойдясь и мешая французский с немецким, часа эдак три рисовал перед ним нить событий, которых свидетелем был; оживился глазами, усевшись на малый диваник, с локтями в коленях следил исподлобья за жестом моим, рисовавшим Москву; а когда появилась процессия красных знамен с красным гробом, стал ерзать, откидываясь и рукою терзая диван; вдруг – вскочил:
– «Молодцы!» И – ко мне:
– «Сразу видно – художник вы! Ярко рассказывали: я увидел московские улицы… Благодарю!»54
И жал руку; волнуясь моими словами, забегал, потряхивая волосами; и – вдруг:
– «Не хотите ли, – я вам сыграю Шопена: его полонез?»
От поляков я знал: Пшибышевский – пьянист, исполняющий неповторимо Шопена;55 открыл он рояль, севши на табуретик и руки бросая в колени; лицо опустил и застыл, точно что-то выискивал; бросил не руки – орлиные лапы на клавиши; мощный аккорд сотряс стены; летучий и легкий, понесся не в звуки, – в огни, охватившие нас; кончил; оба взволнованно встали: молчали; хотелось обнять иль – уйти, ибо – нечего к звукам прибавить; я молча пожал ему руку, прощаясь; а он, суетясь, точно в клетке, искал, чем закутаться; выскочил; снова вышел со свечкой в руке, на сутулые плечи набросив свой черненький пледик с зелеными клетками; темные складки упали до пола, закрыв ему ноги; совсем капуцин; мы с такими встречаемся лишь в повестях Вальтер Скотта; взяв за руку, вывел на темную лестницу, путь освещая рукой со свечой:
– «Тут вот… Не оступитесь: ступени!»
Теперь выступало из мрака худое лицо; на нем прыгали отсветы.
Дверь распахнул мне на холод и блеск; точно ртуть, трепетали последние листья над тополем; маленький месяц, сияющий досиня, встал над подъездной дырой; в тусклый круг свечевой выходило худое лицо с бородой Дон Кихота; два глаза, своим фосфорическим блеском пропучась, погасли:
– «До скорого!..» Хлопнула дверь.
Мы не встретились; через неделю уехал в Париж; я поздней написал очень резко о нем, как «писателе»56; в нашем коротком знакомстве тогда из-под маски величия, черного кружева поз, он просунулся мне бедняком, босоногим монахом, закутанным в плащ, со свечой негасимого света: —
– сердечного света!
Хотелось сказать:
– «Ave, frater» [Привет, брат].
Вдруг екнуло, точно предчувствие, мне:
– «Morituri te salutant» [Умирающие тебя приветствуют].
У Пшибышевского раз видел Аша; с ним виделся я в «Симплициссимусе»; и оттуда, как глупый карась на крючке, выволакивался в визг цветистых «Вайнштубе»; [Винный погребок] он ел шоколадные торты и их запивал алкоголями; шваркал на стол пятимарковики, бросив локоть, нос бросив в ладонь; между пальцами пучились красные губы:
– «Ах, Ашу здесь нечего делать!»
– «Ах, скучно!»
Качались волос завитые и шерсткие кольца.
Потом с деспотизмом ребенка тащил через темные улицы: из «Бунте блюмэ» [ «Пестрый цветок»] – в «Цум фогель», «Цур траубэ», «Цум тиш»; [ «У птицы», «У виноградной лозы», «У стола»] раз я вырвался и убежал от него; так окончились наши свидания в Мюнхене; встретились мы в кабинете у Гржебина уж через год: в Петербурге;57 чернобородый Зиновий Исаевич Гржебин в очках роговых, припадая к столу, выжимал из него свои выгоды; Аш, развалясь перед ним, – нога на ногу, нос – в потолок – барабанил рукой по столу; и несолоно им похлебавши, Зиновий Исаевич выбросился в коридор: с Коппельманом [Гржебин, Коппельман – деятели «Шиповника»] шушукаться; Аш, усадив меня в сани, осанисто в «Вену» [Литературный ресторан] повез и пенял – за тогдашнее бегство; он стал знаменитостью; Гржебин и Коппельман бегали всюду за ним на коротеньких ножках, как сороконожки58.
Ребенок, со страстью косматого мамонта, был он невинен в своей безответственности.
Раз позвал еще в Мюнхене; жил он на площади против Карльстбр59, в неуютном, атласами убранном номере; пышно ночная перина ломалась на кресле ампир; на другом, зацепясь, повисали подтяжки; а смятая туфля невкусно ползла к середине ковра; Аш стоял перед зеркалом в плохо сидящем на нем сюртуке, в том же белом жилете, с пуховкой в руке; мне подставил опудренный нос; хризантема махрово торчала в петлице:
– «Аш будет сейчас танцевать; земляки пригласили!» И в дверь пропорхнули две юные барышни: Аша на вечер в карете везти; тут он, бросив пуховку, прыжками (и волосы – тоже прыжками над выпуклым лбом его) – к барышне; стан обхватив, закативши глаза, носом – кверху, качался вподпрыжку с ней в вальсе; и, бросив ее, – с антраша, с перехлопами, с присвистом:
– «Ну, а теперь – танцевать, танцевать!»
А о том, что мне делать, – ни звука; но я не пытался обидеться, зная: с ребенка – не спросится; только б с собою меня не тащил; но его уж влекли; ему шею закутали шарфом; пальто подавали; все четверо – вышли; в карету затиснутый, выкинул руку из дверцы; и пальцы царапнули воздух; и все – унеслось.
Я пошел в «Симплициссимус»: к немцам.