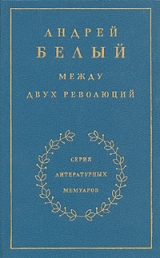
Текст книги "Между двух революций. Книга 3"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
До болезни своей я работал над «Кубком метелей»; без пыла доламывал фабулу парадоксальною формою; Блок мне предстал; я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая: он сердцем на сердце – откликнется137.
Он же – молчал.
Уже с Мюнхена я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию; огненное «домино», потухая, как уголь, завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня; ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма; однажды, проснувшись, я понял, что болен: едва сошел к завтраку.
Вечером с кряхтом пошел я за Гиппиус: ехать с ней вместе в театр «Антуан»; но, не будучи в силах сидеть, из театра пополз, убоявшись взять фьякр, потому что сидеть было больно мне; утром же стало значительно хуже; но доктор сказал, что пустяк, что придется дней пять пострадать: до прокола; он, дав невозможный в условиях жизни отеля режим, удалился; решил быть стоическим, перемогая страданья, которые пухли от пухнущей опухоли: ни сидеть, ни лежать; и, – поползав, повис между кресел, ногой опираясь на ногу; я спал на карачках, в подушку вонзаясь зубами. Как бред: Мережковские, два анархиста, Д. В. Философов ввалились ко мне; дебатировать вместе: Христос или… бомба? Я, перемогая себя, кипятил воду к чаю и производил ряд движений, уже для меня невозможных; а ночью подушкой душил вырывавшийся крик.
В канун нового года висел между кресел, вперясь в синий сумерок; черный вошел силуэт.
– «Смерть!»
Он сунул тетрадку: из синего сумрака:
– «Это – стихи мои».
Я же, не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движеньем руки.
Не везло с Гумилевым!
Но, перемогая себя, я стащился и полз два часа к Мережковским: в бреду и в жару; оказалось: нарыв мог прорваться – внутри; и тогда – заражение крови; ввалясь, пал в диван; меня пледом накрыли, поили шампанским; нахмурился доктор, явившийся утром: флегмона – глубоко сидела; вчера еще надо бы вспарывать:
– «Дома держать невозможно: в больницу!» Сквозь жар слышал – дорого: пища, уход, операция, ряд перевязок, сиделка; трещал телефон; выяснялось: больница при монастырьке – принимает; ухаживать будут монашенки, а оперировать – очень известный хирург; перекутанного – потащили в каретку: Д. В. Философов и доктор; не помню, как перевезли; лебединые, белые крылья чепца; и меж ними лицо итальянки склонилось; и кто-то мне впрыскивал морфий.
Ночь – кубари бреда: в трубу вылетал с Николаем Коперником, чтобы винтить в мировой пустоте; ясно: грифоголовый мужчина с жезлом, прощербленным на старых гробницах Египта, который водил коридорами, – смерть; потушив электричество, снова вперялся в каминные пасти; оттуда – встал красный: я сам.
Будят:
– «Ах!»
Два служителя – тащат в носилках по лестнице вниз; я слетаю на саночках с радостным чувством – к веселому ножику138.
В эти же дни Петербург пировал; жезлоносец Иванов, Чулков, Городецкий, артистки, пианистки, эстеты, поэты, попойки и тройки из «Балаганчика», музыка – бум-бум-бум-бум – Кузмина:139 все неслося галопами – издали; Блок воспевал в «Снежной маске» свое увлечение Волоховой;140 а у Щ. был роман141.
«Люблю вас, а – не Блока! Его, – а не вас», – оказалось: «Ни Блока, ни вас!»
Роман – с У***, потом – с Ф***, потом – с Ш***!
Очень просто и весело.
Я-то!
Блок оповестил мир стихом: умирает-де он на костре своем… снежном142, несяся к Елагину острову – в тройке;143 смерть эта – виньеточка Сомова; что же еще? Говорят в просторечии: «Смерть как приятно!»
Наверное, умер бы я, – запоздай операция: на одни сутки.
Вот, голый, лежу на столе жестяном; он как льдом обжигает мне кожу; я искоса вижу: на рядом поставленном столике – пилочки, вилочки, цапкие лапки, пинцеты, ланцеты серебряным смехом пищат: «Я кусаюсь», – хихикают щипчики: «Цапаюсь», – искрится злой металлический коготь.
Дверь – настежь: обстанный халатами белыми, вышел тот самый, к которому рвался давно, —
– с бородой ассирийца, весь в белом, напрягший свои волосатые голые руки – …
Накрыл бородой:
– «Повр месье!» [Бедный господин]
Потрепал по плечу; обдал жаром:
– «Вы – много страдали: сейчас мы поможем!»
От этого доброго слова – из глаз – слезы брызнули; он – к колпачку с хлороформом; его на лицо опрокинул; и я от себя самого, как свободно скользящая гайка с винта, отвинтился; летал, бестелесно твердя:
– «Сознаю»: —
– ознаю —
– знаю
– аю
– ю —
Точно: в ворота железные кто-то железными молотами – «бум-бум-бум» – заломился: то – сердце, с которым мы связаны, —
– бухало!
Я возвращался откуда-то, как из гостей, где случилось прекрасное что-то; с блаженством глаза разожмурил: наткнулся на белые крылья чепца:
– «Тише!»
– «Как?» – прикоснулась ладонь: Мережковский. Ни боли, ни тяжести!
Д. Мережковский с утра дожидался конца операции; видел: меня принесли на носилках – с глазами открытыми; я на вопрос его: «Как?» – отвечал:
– «Ничего».
Он был ласков, уютен и добр; я за это прощал ему многое; а Философов, как нянька, возился; он в нижний этаж перенес мои вещи, расставил внимательно; Гиппиус матери письма писала144.
– «Здоровый у вас организм», – говорил мне молоденький врач; но разрез был ужасный: как красная яма; явился хирург: бинтовать.
Зубы стиснул: Трах!
– «И терпеливый же вы!»
Мощь огромной руки, рвавшей к ране прилипшие и пересохшие марли, – прекрасна!
Лежал, забинтованный; веяли белые крылья широкого чепчика; нравилось нежиться перед букетом цветов; пища – легкая, вкусная; в окна весна уже грела лучом легкоперстным; в открытые двери вещал мне орган: коридор был подобие хоров капеллы; в час службы стояли монашенки; чепчики их – точно плеск лебединых, слетающих стай; оказался я в мире, который воспел Роденбах; [Писатель, описывающий капеллы, монашек, старинные католические города Бельгии] монастырь, превращенный в больницу, ютился вблизи Люксембургского парка; с него начинался Латинский квартал.
Мережковские, Минский, супруга Бальмонта, Е. А., и Бальмонт – посещали меня;145 а соседка по столику передавала приветы Жореса; ходила и русская дама, писавшая книгу, – ученая: доктор Сорбонны; я ей диктовал текст главы: «Символизм»146.
Хорошо очень думалось в звуках органа; стихи, как ручьи, истекли из меня, когда мать, тишина, обнимала рукой теневой изголовье:
Извечная, она, как мать,
В темнотах бархатных восстанет;
Слезами звездными рыдать
Над бедным сыном не устанет.
Мне бездна явлена тоской;
И в изначальном мир раздвинут;
Над этой бездной я рукой
Нечеловеческой закинут.
(«Урна»)147
Порой было грустно:
Непоправимое мое
Припоминается былое;
Припоминается ее
Лицо, холодное и злое…
Покоя не найдут они;
Пред ними протекут отныне
Мои засыпанные дни
В холодной, нежилой пустыне.
(«Урна»)148
В Париж доносившийся гам Петербурга звучал как насмешка: над болью; возврат был отрезан; враги и друзья – за порогом болезни увиделись; был им – мертвец, не умерший, но и… не живой; им мой выход в иное сознанье – казался могилой; а мне агонией казались их песни и пляски.
«Могила» написана тотчас же:
Вышел из бедной могилы.
Никто меня не встречал.
Никто: только кустик хилый
Облетевшей веткой кивал.
Я сел на могильный камень…
Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень нести?..
Нет, – спрячусь под душные плиты.
Могила, родная мать,
Ты одна венком разбитым
Не устанешь над сыном вздыхать149.
В приведенных строках, сочиненных в больнице, – рубеж, отделяющий «Пепел» от «Урны»; [Названия сборников стихов] недаром вперялся я в жар, истлевающий в серые пеплы; недаром мне комнатка виделась гробом с дырой (дымовою трубой), открывающей небо Коперника; в нем я очистился: под колпаком хлороформа; так «Урна» возникла в больнице; так опепелевшая страсть года два собиралась мной в урну: над гробом истлевшей души —
– не моей.
Наконец я вернулся в отельчик150, но в нижний этаж; перевязка мешала осиливать лестницу; доктор еще перевязывал рану; она заживала; так длилось до марта; поездка в Италию рухнула: деньги – пролечены; а в перспективе – расплата долгов; даже к Метнеру в Мюнхен заехать не мог уже.
Доктор грозил:
– «Операция вас наградила на год или два малокровием: воздух, питанье, природа, покой! Организм ваш – подорван».
Стояла весна; небо – синее; мило Париж улыбался протертым стеклом; среди веющих веток и птичьего щебета ветер развеивал складки плаща моего; как глазочки, открылись цветочки – в Булонском лесу; я бежал из заросших дорожек к центральным аллеям, куда с «авеню» перехлестывал ток элегантных ландо; и светлели приветливей дамские платья: вуалетками синими и голубыми букетцами; всюду – светлейшие серые платья; я гнался блаженными толпами по Елисейским полям, проходя к Тюильери; я склонялся к перилам задумчивой Сены: рассматривать башни Нотр-Дам; иль, закинувши голову перед чудовищем Эйфеля, скроенным из переплетов сквозных, удивлялся: качается в воздухе; став под ребром распростертой ноги, – видел: падает – на голову!
Черт возьми!
В месте скрепа коротеньких лапочек с телом – четыре кафе; к ним бросают по лапкам четыре подъемника; к высшим площадкам – ведет пеший ход; и туда же летает подъемник; однажды осилил пространство от первой площадки к второй (выше двигаться сил не хватило); Париж уходил под пяты, умаляясь; над воздухом – в воздухе шел; небеса, опускаясь, – смыкали объятья.
Весною Париж – бледно-серый; щебечущим розовым отблеском, купами зелени, контурами колоннад он нежнел; упоительны: светопись отблесков и колорит отработанных временем (копотью, пылью, дождями) орнаментов; в мреющем воздухе синие вырезы зелени; бабочка порхами вспыхнет и снова погаснет.
Я понял – плэнэр! [Планеризм – ответвление импрессионизма] И я думаю: пуэнтелизм есть усилие глаза отметить смешение дыма и пыли со влагой туманистой; свет разлагается в два дополнительных; из пестри точек глаз ищет не данной ему колоритной реальности; коли Париж в декабре меня встретил Мане, то меня проводил он веселеньким, мартовским щебетом искорок – пуэнтелизмом151.
Бывало: спешу пробежаться по гладким аллеям Версаля (туда и назад – поезда); здесь ты, где ни окажешься, – издали, из-за пропущенных куп – видишь абрис дворца.
Я влюбился в весенний Париж: было жалко расстаться с ним.
Раз слушал лекцию я Мережковского в русской колонии;152 твердого вида мужчина, сложив свои руки крестом на груди, прислоняясь плечами к стене, вздернув профиль, замраморел, стоя как статуя древняя:
– «Кто это?» – Гиппиус.
Он не пошел возражать, грянув с места отчетливым голосом, тщательнейше вылепляя, как профиль, слова; и, умолкнув, сложил свои руки крестом, прислоняясь к стене и не двигаясь с места.
– «Грузин, Робакидзе, – философ»153, – сказала позднее мне Гиппиус.
С этим, виднейшим, писателем, классиком от символизма и руководителем группы грузинских поэтов, которого книга поздней прогремела в Германии, встретился я – через двадцать три года: в Тифлисе154.
Прощаясь за день до отъезда с Д. С. Мережковским, Д. В. Философовым, Гиппиус, благодарил их за братскую помощь больному;155 три месяца, прожитых здесь, как три года; Париж – перевал, разделяющий четырехлетье; двухлетье, к нему подводившее, – бури: страстей, рост отчаянья; взмахом ножа, отворяющим кровь, это все пролилось из меня; обескровленный, серым, как пепел, лицом, я два года вперялся в себя и в обстанье, которое виделось мне балаганом; союз, заключенный с Валерием Брюсовым против Иванова, Блока, Чулкова и прочих недавних друзей, – вот что вез из Парижа в Москву; и последний, кто мне пожелал «бон-вуаяж» [Доброго пути], был Жорес; с ним позавтракав, вещи забрав, я уехал, чтоб видеть в обратном порядке течение времени; выехал яркой весною, а въехал в Россию глухою зимою156.
Вороны с заборов московских, встречая, закаркали из сине-серого мрачно-клокастого неба.
Арбат: колоколенка розовая:
– «Боря, сын мой», – объятия матери.
Глава четвертая*
Извечная, она, как мать,
В темнотах бархатных восстанет;
Слезами звездными рыдать
Над бедным сыном не устанет157.
Годы полемики
В этой главе почти нет биографии; она – внутренняя; события жизни – литературная летопись.
1907 год – ознаменован победою модернизма в мелкобуржуазных кругах; до 1907 года мы – отщепенцы; читатели наши – оторванцы разных классов, несколько десятков эстетов, да несколько меценатов типа Мамонтова, ранее сплотившего Врубеля, Якунчикову, Коровиных и Шаляпина; с начала века читатели наши сплотились В группу, предъявившую новый спрос; провинция мало интересовалась нами; столичный же мещанин знал нас по боям в «Кружке», куда он ходил надрывать свой животик или в позе трибуна требовать казни нам.
Вернувшись в Москву, я впервые столкнулся с новым читателем; не снобы, не одиночки, не дамы из буржуазии, валившие в Общество свободной эстетики, интересовали меня, а – учащаяся молодежь из провинции, съехавшаяся в Москву: студенты, курсистки; юная провинция впервые выступила в поле моего зрения.
Это весьма взволновало меня, – не «Кружок», где вчера нас ругали, сегодня ж встречали с сочувствием; линия фронта – менялась; газетчики, критики, исчезая из стана врагов, появились с невинными лицами в лагере «символистов», заводили знакомства и жали нам руки; иные сочли модным теперь гарцевать статьями в защиту Брюсова и Бальмонта; я не заискивал среди московской прессы и не искал в ней друзей; и даже не заметил, как видные деятели тогдашней прессы оказались знакомыми: Н. Е. Эфрос [Дядя А. М. Эфроса], Дживилегов, М. Духовской, Сергей Мамонтов, Сергей Яблоновский, Любошиц, Ашешев, Виленский, Ардов, Белорусов, Чуковский, Сергей Глаголь; и – сколькие прочие; царство врагов было явно расколото; борьба с нами, ставши борьбой из-за нас, скоро превратилась в борьбу одних из нас с другими из нас: орудием прессы; в одних органах чтили «мистических анархистов» и боролись с «весовцами»; «бюро прессы», возглавляемое Глаголем, размножало фельетон поэтиков «Грифа» в массе провинциальных газет1, объявляя провинции тех, кого «Весы» отвергали; сотрудники «Весов» одно время стали поставщиками литературного фельетона для марксистской газеты, скоро прихлопнутой генерал-губернатором Гершельманом2.
Руководители верхов либеральной интеллигенции сперва отставали от моды; старцы из «Русских ведомостей» редко снисходили даже до ругани; но и этот лед – таял; популярнейший публицист и профессор философии Евгений Трубецкой, заняв кафедру брата, открыто признал, что проблема непонимания нас – серьезна; он добился сносного отношения к нам от своих коллег; с той поры группа профессоров (В. М. Хвостов, Л. М. Лопатин, С. А. Котляревский, Б. А. Кистяковский и т. д.) стали вступать в серьезные споры с нами, держась достойного тона; и московский университет тронулся вслед за «Кружком», в нашу сторону; мы являемся в университетской аудитории (в студенческом Обществе деятелей литературы, руководимом Н. Н. Русовым).
Поворот мнений дошел до того, что в «Кружок» явился маститый Семен Афанасьевич Венгеров; [Скоро академик3] и объяснил присяжным поверенным Москвы и их женам: декаденты суть гуманисты; они, как Некрасов, Никитин, засеяли «доброе, вечное»;4 правда, – недавно писали они про «козлов»; но теперь они от этого отказались; в сущности, они – добрые люди, как и прочие либеральные граждане: сальных свечей не едят; это мнение стали подхватывать; Головин, председатель Второй Государственной думы, появился в кругу Соколова-«Грифа».
Создалась и формула перехода для тех, кто вчера изживал себя в неприличной травле: «Они – раскаялись!»
Фальшивка действовала; и декаденты оказались в позе раскаянья пред избирательной урной, голосуя за Милюкова (?!). Передавали: Андреев – друг Зайцева; Зайцев же признает Белого; но дружит с тем, кто всех обскакал: с Виктором Стражевым; фрак весьма «радикального» Стражева, символиста «третьей волны», начинает эру побед… в «Кружке».
То же в Петербурге: Чулков, политкаторжанин5, друг Блока, Иванова, Городецкого, преодолевший старую красоту в символизм, а символизм в новую мистическую и анархическую общественность, втянул в нее Блока и завязал связи с газетами; и там, как в Москве, недавние вагоны декадентского экспресса перецепили к товарному поезду «Шиповника» [Издательство], оповестившего: «Писатели всех партий, объединяйтесь вокруг Андреева!»6
В итоге фальшивки началось якобы «возрождение», мной увиденное как опухоль на символизме; перебегающие в лагерь «врагов» оповестили о побеге этих «врагов» в их стан; был создан плакат, изображавший раскаявшегося символиста в венке, ему поднесенном «русской общественной мыслью». Вчерашний символист и вчерашний общественник вдруг засели в ресторане «Вена», рождая таланты; второго вели «козлить» к Вячеславу Иванову, внушая ему, что у Иванова совершается «обобществление» жен и снятие фиговых листиков; первого вели в редакцию еженедельной газетки: делиться сведениями о событиях жизни квартир В. Иванова и А. Блока; вдруг газеты облетело печатное сведение: «Г. И. Чулков – обрился»; [Такая заметка имела место] стали цитировать и мудрое изречение Кузмина:
Ах, зачем же нам даны.
Лицемерные штаны.
Вернувшись из Парижа, после раздумий над чепухой, едва не стоившей жизни мне, – все это: в лоб!
Недавние перебежчики в лагерь символистов, распинавшиеся за Блока, Иванова и Чулкова, не распинались за меня, а уверяли, что я – пережил себя и не могу числиться в среде живых символистов.
Расцвет модернизма в российском мещанстве собирал новые уголья на мою разгромленную голову; последующее четырехлетье есть рост славы – Мережковского, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Блока, Ауслендера, Кузмина, Иванова; Андрей же Белый к концу 1909 года стоял едва ли не за порогом литературы.
Понятен мне такой сговор мнений: я сам его вызвал.
Травле меня как «Белого», а не как символиста я был обязан «друзьям» – символистам; ее истоки – редакция «Ор» (издательство В. Иванова)7, группировавшая вокруг «мэтра» С. Городецкого, Блока, Чулкова, Ауслендера, Кузмина, М. Сабашникову, Потемкина и т. д.; иные «матерые» символисты на нас натравливали молодежь, репортериков и модных фельетонистов ресторана «Вена», как Пильского; стоило последнему что-нибудь на уши нахихикать о Белом, как перо опытного инсинуатора начинало работать, давая тон шавкам; инициаторы травли при личных свиданиях сердобольно вздыхали:
– «Ты – сам виноват; не надо было того-то писать».
Не любил я привздохов таких, после них пуще прежнего изобличая политику группочки; гневы мои заострились напрасно на Г. И. Чулкове; в прямоте последнего не сомневался; кричал благим матом он; очень бесили «молчальники», тайно мечтавшие на чулковских плечах выплыть к славе, хотя бы под флагом мистического анархизма; открыто признать себя «мистико-анархистами» они не решались; по ним я и бил, обрушиваясь на Чулкова, дававшего повод к насмешкам по поводу лозунгов, которые компрометировали для меня символизм; примазь уличной мистики и дешевого келейного анархизма казались мне профанацией;8 каждый кадетский присяжный поверенный в эти месяцы, руки засунув в штаны, утверждал: «Я ведь, собственно… гм.:. анархист!» Я писал: Чехов более для меня символист, чем Морис Метерлинк;9 а тут – нате: «неизреченность» вводилась в салон; а анархия становилась свержением штанов под девизами «нового» культа; этого Чулков не желал; но писал неумно; вот «плоды» – лесбианская повесть Зиновьевой-Аннибал10 и педерастические стихи Кузмина; они вместе с программной лирикой Вячеслава Иванова о «333» объятиях11 брались слишком просто в эротическом, плясовом, огарочном [ «Огарочной психологией» в то время называли проповедь «трын-травизма», подхватываемую послереволюционным надрывом; «огарочное» настроение захватывало и молодежь] бреде; «оргиазм» В. Иванова на языке желтой прессы понимался упрощенно: «свальным грехом»; почтенный же оргиаст лишь хитренько помалкивал: «Понимайте как знаете!»
Я ставил точку над «и»:
– «Отмежуйтесь: раскройте „объятия“, чтобы стало ясно, во что жаждете преодолеть символизм: в народ или – в хлыстовскую баню?»
Не раз я получал ответ, – шепотком, на ушко:
– «Как можешь ты думать так?»
После чего писалось стихотворение, смысл которого вызывал во мне вскрик: изнасилование девушки называлось громко «причастием»;12 не нравились и филологические комментарии на смысл евангельской любви с неизменным припевом: любовь – дерзновенна; хотелось воскликнуть: в каком же смысле? Розанов хрюкал весьма недвусмысленно: эта любовь – платоническая; а Платон любил юношей.;
Зная факты вредительства психик и помня предостережение Гете, что от бескрайной романтики до публичного дома один только шаг, – я писал: «Лицевая сторона Фальков – эклектизм… в котором видел смерть Ницше… Песком софизмов бросают они в доверчиво раскрытые глаза женщины, чтобы она, потеряв зрение, не отбивалась от их объятий…» («Арабески», стр. 10)13.
В петербургских газетах разоблачали писателей-хулиганов: где-то стали пропадать кошки; что же оказалось? Компания литераторов (назывались небезызвестные имена модернистов, как-то Потемкина), собираясь пьянствовать у какого-то фрукта, истязала-де кошек, которых для этого раздобывал фрукт; в каком-то салоне кололи булавкой кого-то и кровь выжимали в вино, называя идиотизм «сопричастием» (слово Иванова);14 публика называла имена писателей-кошкодавов; говорили потом: инцидент – газетная утка; но повод к «уткам» подавала вся атмосфера: между огарочничеством Потемкина и проповедью «любовных мистерий», которою занялся вдруг Иванов, не было вовсе четких границ; и «башня» Иванова, в передаче сплетников, сходила в уличное хулиганство.
Я требовал, чтобы границы эти поставили новоявленные «дерзатели»; они – молчали. И я писал: «Мы должны… струны лиры натянуть на лук тетивой, чтобы… разить саранчиную стаю, издевающуюся над жизнью» («Арабески», стр. 16)15. Безответственность ведь только что искалечила мою жизнь.; —
Я – требовал внятности.
Нельзя было писать о фактах и слухах, сопровождавших двусмыслицы преодолевателей символизма; я знал: нескольким юным девушкам лозунги В. Иванова отлились; я знал: в «модном» публичном доме выставлен портрет его почетного посетителя, известного всем писателя (для заманки «гостей»); я знал: в одном доме супруг и супруга преследовали барышню: супруга – лесбийской любовью, супруг – …?16 Но он был не прочь поухаживать и за юношами; скажут: личная жизнь; нет: в данном случае практика стихов об «объятиях»; несколько шалых дамочек, взяв клятву молчанья с понравившегося им мужчины, появляясь пред ним голыми, на него нападали.
Таков был грубый, огарочный вывод из утонченных двусмыслиц.
Ставка моего выздоравливающего сознания была на четкость: в искусстве, в политике, в философии, в этике; если преодолеваешь искусство, говори – куда. В политику? В какую? В религию? В какую? Наивную путаницу щедро сеял Чулков в газетах и альманахах, давая повод крыть себя за чужие грехи; я – его крыл; я делал ошибку; я овиноватил себя тем, что Чулкова превратил в символ; «друзья» отдавали его на съеденье «Весам»; когда они испугались «Весов», то они его бросили; никто никогда-де ему не сочувствовал; первый отрекся печатно от мистического анархизма под моим давлением – Блок;17 Чулков ушел работать в иные сферы, символизму далекие; он оказался хорошим литературоведом18.
Но мистический анархизм на символизме таки оставил не стертые моими статьями следы; «Весы» не читались; газетки, где дребеденили «анархисты», и альманашки, где испражнялись писатели-кошкодавы, – читались; случилось то, чего я боялся в 1907 году: символизм восприняли под флагом «мистического анархизма».
«Маститые» исказители редко полемизировали со мною; они действовали обходным путем: через критиков, подобных Ляцким и Абрамовичам; первый, говорят, мне приписал какие-то стихи о козе; что-то вроде:
Чтобы в листьях туберозы Лишь меня лобзали козы…
Второй систематически твердил про меня: «Труп, труп, труп». От той поры Корней Чуковский почтенно пронес на протяжении двадцати пяти лет умело таимую ко мне неприязнь.
Горжусь не ошибкой полемики [Перед Чулковым особенно я виноват], а тем, что травля меня шла из кругов, не свободных от «огарочничества» в мрачнейшие годы реакции, раскрывшей мне всю гниль буржуазной прессы; многие тогда взяли курс на «козла»; я взял курс на… Некрасова:
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!19
Я горжусь: Тэффи так не понравились эти строки, что она высказалась печатно: «Не люблю этого старого слюнтяя» [См. ее фельетон в «Речи» (за 1908–1909 гг.)].
Опасным симптомом предстала молодая группа московских литераторов, объявивших себя символистами третьей волны: первая – «Весы»; вторая – «Оры» («мистический анархизм»); третья волна посягала на журнал «Перевал», лидером группы был Виктор Стражев. Входивший в маститость уже Борис Константинович Зайцев отечески опекал эту группу; он был объявлен… неореалистом; неореализм и проповедовали символисты этой волны; суть течения: спекулятивная политика глубоко «старых» поэтиков, готовых пройти под каким угодно соусом в свет; группочка потрафила кружковским присяжным поверенным, жаждавшим присуседиться к моде; неореалисты сочетали отбросы либерализма с отбросами символизма – и получили опору в тучковской газете «Голос Москвы»; Зайцев стал классиком их; Ницше мог назвать зарю «матово-бирюзовой»; но он не писал приемами Писемского; Борис Зайцев писал; но называл поручика – «матово-бирюзовым», а нос полковника Розова20 называл «рубиновым» носом.
«Реализм… переходит в символизм» («Весы», 1904 г.)21, – писал я до «неореалистов»; и – писал после них: «Момент реализма всегда присутствует в символизме» («Арабески», стр. 244);22 «Истинный символизм совпадает с истинным реализмом» («Весы», 1908 г.)23. По адресу ж представителей «ползучего натурализма», прирумяненного отбросами символизма, – писал я иначе: «Новейшие полудекаденты („реальные символисты“) – эти эпигоны символизма и реализма – как бы нам говорят: „Окно не окно, но и не не-окно“». «И творчество Чехова беспощадно уличает их… лживость» (1907 г.)24.
Мог ли мне это простить Виктор Стражев, обстанный присяжными поверенными «Кружка». Зайцев тащил его в лагерь Андреева; Бунин Иван, ненавидевший Брюсова, аплодировал всем нашим подкалывателям; так: участь моя и в Москве была решена; ничего не стоило спровоцировать скандалом Белого, взлезавшего на все кафедры по мандату «Весов».
И – Тэффи, Ардовы, Абрамовичи, Ляцкие, Измайловы, Яблоновские, «нововременцы» (и Буренины, и Бурнакины), и октябристы «Голоса Москвы», и Бескин из «Раннего утра», к явному удовольствию тогдашних Иванова, Блока, Городецкого, Бунина, Стражева, Зайцева, Айхенвальда и прочих, превратив меня в скандалиста, убрали со сцены; пересмотрите журналы и альманахи 1908–1910 гг., и вы встретите все имена от Блока до… Андрусона и Рославлева: за исключением Белого.
Рощицами вырастали «калифы на час» (Анатолий Каменский, Потемкин, Арцыбашев, Юшкевич, Осип Дымов), – мечтавшие обскакать и Андреева; один из них, Дымов, которого объявили потом «лихачом» беллетристики, однажды меня трепанул по плечу за котлеткой из рябчика:
– «Бедные вы, символисты: старались, учились; читают-то – нас; мы, – лучезарные дети, вашими руками гребем себе жар».
Я ответил ему в статье характеристикой «лучезарных щенят».
Подчеркнутая нелюбовь к либералам, омоложаемым при помощи модернизма, усилила симпатии к лагерю марксистов, с которым я тоже полемизировал: «Следует отметить… похвальную сторону в „Литературном распаде“. Авторы его… честно объявили себя нашими литературными врагами… Ни предателя, ни симулянта не встретишь в их рядах; а этого не скажешь про тот лагерь, который объединяют наши враги в понятии модернизма… Пусть… поборники пролетарского искусства… выбросят из своих рядов представителей лозунга „и вашим и нашим“, как выбрасываем мы из наших рядов все серединное; тогда… дух рекламы и шарлатанства, одушевляющий „обозную сволочь“, обозначившись ярко между эсдекским молотом и наковальней символизма, скомпрометирует любителей мутной воды» [ «Литературный распад», книгоиздательство «Зерна», 1908. (Авторы: В. Базаров, Л. Войтоловский, М. Горький, Ст. Иванов, А. Луначарский, М. Морозов, Ю. Стеклов, П. Юшкевич.)] (1908 г.)25.
Мне казался нечетким и Леонид Андреев, занявший позицию между Горьким и Блоком – и этим «между» сгруппировавший вокруг себя четыре пятых литературы; с «Царя-Голода», с «Черных масок»26 я понял: сдвиг его в сторону символизма от «Знания» – только мистико-анархическая бурда, в которой он встретился с Блоком эпохи «Балаганчика».
Я ему прощал более, чем Блоку и Борису Зайцеву; он был – сама талантливая бескультурица; он выдвигался тогда левизной; левизна казалась декоративной; и мы не были равнодушны к политике; и Брюсов и Блок стихотворениями показывали, на чьей стороне их симпатии; их сочувствие революции через тринадцать лет стало неоспоримым: без громких фраз; Андреев же был сплошной громкой фразой; тогдашние его «левые» друзья, – Бунин, Чириков, Зайцев, Юшкевич, – где они оказались? Его политика выявилась во всей неприглядности к 1916 году: в позорной агитации за протопоповскую газету, во главе которой он не постыдился встать [Кажется, «Воля России»27], когда и Мережковские даже отказались от «почетного» сотрудничества, отвергнув крупные куши; отказались и мы с Блоком.
Политически Андреев был мне подозрителен с «Царя-Голода»; в те годы более волновала меня линия его литературной нечеткости; в 1907 году я пережил кратковременное увлечение писателем;28 но, подойдя ближе, я разглядел нечто в нем, навсегда оттолкнувшее; его «Шиповник» стал резервуаром дешевого модернизма, с которым боролись «Весы»; все, что делало модными андреевцев, было ими украдено у символистов.
«Хаос всегда за спиной у героев… Л. Андреева» [ «Арабески», стр. 486], – писал я в 1904 году, приглядываясь к нему;29 «мистический анархизм… как теория не выдерживает критики… Леонид Андреев, может быть, единственный мистический анархист» [Там же, стр. 489], – пишу я в начале 1906 года;30 в 1907 году по поводу «Жизни Человека»: «Читаешь – точно черновик»; Андреев «менее, чем кто-либо, установился». «„Жизнь Человека“ нельзя ни хвалить, ни порицать». «Ее можно отвергнуть или – принять»; [Там же, стр. 49731] в эти дни я клюнул и на Л. Андреева, и на драмочки Блока; уже в начале 1908 года о Блоке-драматурге пишу: «Искренностью провала, краха, банкротства покупается сила впечатления и смысл этой бессмысленности: но… какою ценою»; [Там же, стр. 46732] то же я думал в то время и о драмах Андреева; об «Анатэме» я писал: «Помилуй бог, как легко быть символистом: стоит поставить мировой разум на две ноги…», «…ламентации черта… напоминают… захмелевшего приказчика, а поведение… поведение сыщика… бедный, бедный Леонид Андреев» [ «Арабески», стр. 498–50133].






