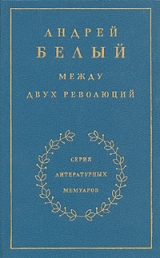
Текст книги "Между двух революций. Книга 3"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Февраль-май: перепутаны внешние события жизни за эти четыре месяца; я мог бы их вести и в обратном порядке; сбиваюсь: что, как, когда? В Москве ль, в Петербурге ль? В марте ли, в мае ли?
То мчусь в Москву, как ядро из жерла; то бомбой несусь из Москвы – разорваться у запертых дверей Щ.; их насильно раскрыть для себя; и – дебатировать: кого же Щ. любит? Который из двух? Прочее – пестрь из разговоров, дебатов, писанья статей и рецензий или – таскание в «обществе» своего сюртука!
Будучи с детства натаскан на двойственность (показывал отцу – «паиньку», матери – «ребенка»), кажусь оживленным, веселым и «светским», – таким, каким меня, мне в угоду, вторично нарисовал Бакст: мужем с усами, с поднятой головой, как с эстрады. Изнанка же – первый портрет Бакста: перекривленное от боли лицо; показать боль, убрать себя из гостиных, – навлечь любопытство (знали, что – в Петербурге) – значило: разослать визитную карточку с надписью: «Переживаю личную драму».
Этого не хотел ради Щ.
В скором времени Щ. и ряд лиц подчеркнули мне мое «легкомыслие»: де все – нипочем; что «почем» – сказалось самоотравлением организма; и – операцией.
– «Эта болезнь бывает у стариков, видевших много горя», – мне объяснил один доктор.
«Старику», видевшему так много горя, едва стукнуло двадцать шесть лет.
Ближе стоявшие Блоки не видели моей главной особенности: рассеянный, а – видит; говорит гладко, а – мимо; во что вперен – о том молчит; слово – велосипед, на котором, не падая, лупит по жизни; а ноги – изранены.
Портрет Бакста, напечатанный во втором номере «Золотого руна»56, – это чем я не был: в те дни; это – защитный цвет; не посвященные в «историю» не видели истории моих терзаний, когда я подчеркнуто появлялся с Блоком, а тот ленился выдержать тон; я – «тон» выдерживал – до момента; не окончив последнего «словесно-велосипедного» рейса, – я рухнул; поднялось – «красное домино» в черной маске, с кинжалом в руке, чтобы мстить за святыню: в других и в себе.
Образ этого домино следует за мной в больных годах моей жизни, просовываясь и в стихах, и в романе:57 сенаторский сын так безумствует в бреде переодевания и в бреде убийства, как безумствовал я перед тем, как улечься под нож хирурга – в Париже, куда я попал рикошетом, ударившись о людей, мне ставивших в вину легкомыслие, когда «страдали» они-де; эти люди, умевшие не страдать, но капризничать, отдались забавам «козлиных игрищ» в те именно дни, когда из меня пролилось ведро крови – не метафорической, настоящей: о-т-р-а-в-л-е-н-н-о-й!
Через головы всех читателей считаю нужным сказать это сплетницам, исказившим суть моих отношений с Блоком; поздней мой друг (видный критик) признался мне: выслушав в свое время ходившие обо мне легенды, почувствовал он неприязнь ко мне, которую перенес и в печать;58 никто не понял, что под коврами гостиных, которые мы попирали, уж виделась бездна; в нее должен был пасть: Блок – или я; я ведро не пролитой еще крови прятал под сюртуком, и болтая, и дебатируя.
Февраль – март – Питер этого времени во мне жив, как с трудом разбираемые наброски в блокнот; вот безвкусица неуютного номера на углу Караванной;59 на столике чай; из теневого угла торчит нос; это – Блок; слишком быстро он выпускает дымок папироски; я словоохотливее, чем нужно; Л. Д., скучая, зевает; Блок встает, прохаживается, садится, отряхивает пепел, отрезывает:
– «Нет, у нас в Петербурге – не так!»
Я – москвич: москвичи не умеют повязывать галстук; я ощущаю: приезд мой – вторжение в его личную жизнь (сам же звал); его рот отведал лимона.
Не так и не то!
Л. Д. встала:
– «Спать хочется!»
Вот – я у Блоков: белые, холодные стены с зелеными креслами, с чистыми шкапчиками не рады, что я в них сижу; Александра Андреевна, кутаясь в шаль, говорит о своих сердечных припадках:
– «Займется дыханье, и сделается все – не так и не то!»
Здесь – тоже: не то!
А вот – первое чтение «Балаганчика»:60 в той же гостиной стоят Городецкий, Евгений Иванов, Пяст, я, – кто еще? Блок подходит к тому, к другому, с рукой, подставляющей портсигар; его защелкнув, усаживается: о нет, – не читать, а истекать… «клюквенным соком»; [ «Истекаю клюквенным соком» – строчка из «Балаганчика»61] истекает он вяло; и – в нос:
– «Э, да это – издевка?»
Традиции «приличного тона»: застегиваюсь и натягиваю, как перчатку, улыбку:
– «Да, да, – знаете». С Блоком – ни слова.
А вот везу Блока к Д. С. Мережковскому; день – золотая капель; снег – халва, разрезаемый саночками; Блок – как мертвое тело; бобровая шапка – на лоб; нос нырнул в воротник; рыже-розовые волосы белой Гиппиус перевязаны алою ленточкой; она вполуоборот лорнирует Блока; талия – как у осы; я – сижу, мешая щипцами сияющий жар; Блок – в позе непонимающего каприза:
Ночь глуха.
Ночь не может понимать
Петуха62.
(Блок)
Это его ответ на разговорную тему, поднятую Мережковским: «Петуха ночное пенье. Холод утра; это – мы»;63 З. Н. – на ту же тему:
Ты пойми: мы – ни здесь, ни тут:
Наше дело – такое бездомное…
Петухи – поют, поют.
Но лицо небес еще темное64.
Молчание Блока бесит: «Не соглашайся, оспаривай, доказывай несостоятельность петушиного пенья!» И быстрым движеньем выхватываю из камина щипцы; взмах ими в воздухе: раскаленный кончик щипцов рисует красный зигзаг; и я – усовываю щипцы в багряно-золотой жар; «петух», – Мережковский, – старается; а потухающий жар – в пепельных пятнах.
Не то!
В эти дни мы разгуливаем по Невскому: с Зинаидою Гиппиус; на ней короткая, мехом вверх шубка; она лорнирует шляпы дам и парфюмерию в окнах; мы покупаем фиалки и возвращаемся в красную комнату укладывать открытый сундук; она бросает в него переплетенные книжечки, дневники, стихи, чулки, духи, ленточки; я – сижу около; Мережковские едут в Париж отдыхать от прений:65 Пирожков – уплатил [Издатель Мережковского]. И Д. С. очень радостно шлепает туфлей с помпоном пред нами; он заложил за спину свою руку с сигарой, бросающей запах корицы мне в нос; он – малюсенький, щупленький, зарастающий коричневым волосом, вертит шейку и пучит глаза, нам показывая свои белые зубы:
– «В Паггиже – весна!»
И здесь – тоже: но, отправлялся на Варшавский вокзал, он еще прячет голову в меха шубы (боится простуды); и только в купе надевает легкое пальтецо, свалив шубу нам на руки; Карташев, Серафима Павловна, Тата и Ната тащат ее обратно: на угол Литейного; перед отъездом я покупал «пипифакс» для дорожного пользования: Д. С. Мережковскому; это такая бумага, которой значение, по-моему, всем известно.
В эти дни я – на выставке «Мира искусства»66, набитой шуршащими дамами света и крахмальными чиновниками министерств; тут и паж с осиною талией, с золотым воротником; подошедшая Ремизова локтем толкает под руку, показывая глазами на смежный зал; в проходе, отдельный от всех, заложив руки за спину, кто-то бритый вперился в нас: два сияющих глаза; Ремизова же шепчет мне:
– «Он!»
Он – Савинков; я, опуская глаза, – прохожу; таки смелость! Шпики снуют здесь; скоро я везу стихи его в «Золотое руно»; Соколов их не принял67.
Все – мелочи, меркнущие перед объяснением с Щ,68 и – с Блоком.
Щ. призналась, что любит меня и… Блока; а – через день: не любит – меня и Блока; еще через день: она – любит его, – как сестра; а меня – «по-земному»; а через день все – наоборот;69 от эдакой сложности у меня ломается череп; и перебалтываются мозги; наконец: Щ. любит меня одного; если она позднее скажет обратное, я должен бороться с ней ценой жизни (ее и моей); даю клятву ей, что я разнесу все препятствия между нами иль – уничтожу себя.
С этим являюсь к Блоку: «Нам надо с тобой говорить»; его губы дрогнули и открылись: по-детскому; глаза попросили: «Не надо бы»; но, натягивая улыбку на боль, он бросил:
– «Что же, – рад».
Он стоит над столом в черной рубашке из шерсти, ложащейся складками и не прячущей шеи, – великолепнейшим сочетанием из света и тени: на фоне окна, из которого смотрит пространство оледенелой воды; очень издали там – принизились здания; серое небо, снежинки, и – черно-синие, черно-серые тучи; и – черно-серые, низкие хвосты копоти.
Мы идем с ним: замкнуться; на оранжевом фоне стены Александра Андреевна рисуется платьем тетеричьих колеров; она провожает глазами и, вероятно, следит за удаляющимся нашим шагом, пересекающим белые стены гостиной.
Я стою перед ним в кабинете – грудь в грудь, пока еще братскую: с готовностью – буде нужно – принять и удар, направленный прямо в сердце, но не отступиться от клятвы, только что данной Щ.; я – все сказал: и я – жду; лицо его открывается мне в глаза голубыми глазами; и – слышу ли?
– «Я – рад».
– «Что ж…»
Силится мужественно принять катастрофу и кажется в эту минуту прекрасным: и матовым лицом, и пепельно-рыжеватыми волосами70.
Впоследствии не раз вспоминал его – улыбкою отражающим ему наносимый удар; вспоминал: и первое его явление у меня на Арбате, и какое-то внезапное охватившее нас замешательство; вспоминалось окно; и – лед за ним; и очень малые здания издали; там грязнели клокастые, черно-синие, черно-серые тучи, повисшие сиро над крапом летящих ворон.
Вот – все, что осталося от Петербурга; я – снова в Москве: для разговора с матерью и хлопот, как мне достать денег на отъезд с Щ.;71 от нее – ливень писем; такого-то: Щ. – меня любит;72 такого-то – любит Блока; такого-то: не Блока, а – меня; она зовет; и – просит не забывать клятвы; и снова: не любит73.
Сколько дней, – столько взрывов сердца, готового выпрыгнуть вон, столько ж кризисов перетерзанного сознания.
Письмо от Щ.: не сметь приезжать;74 во имя данного Щ. обещанья, – спешу с отъездом; письмо от Блока: вежливо изложенная неохота со мной увидеться: он держит экзамены;75 всю зиму звал! Еду к Щ., – не к нему; а ему прибавится один только лишний экзамен: короткий ответ на короткое извещение: Щ. и я поедем в Италию; от Александры Андреевны вскрик: не приезжать, не являться: «Сашеньку» разговоры рассеют. Я – бомбою: в Питер;76 но – двери Щ. замкнуты; я – в переднюю Блоков; Александра Андреевна, суясь в щель двери, делает вид, что не видит меня: глазки – прыгают! «Саша» же:
– «Здравствуй, Боря!»
Л. Д. еле-еле пускает меня в кабинет, где сидит, развалясь, молодой переводчик Ганс Гюнтер, рассказывавший, что старик-литератор, вообразивший, что он – педераст, приударил за ним; тут же: рыжий, раздутый, багровый латышский поэт77 восхищен перспективами Санкт-Петербурга; Блок задерживает посетителей: не остаться со мной; звонок: влетает Сергей Городецкий; а я – удаляюсь.
Но я – вернусь, хотя бы закрыв лицо маской, закутавши плечи и грудь домино.
Щ. – таки приняла;78 поняла, что не «Боря» сорвет замок с двери, а кто-то неведомый, с кинжалом под домино; надо снять «домино»; надо вынуть из пальцев «кинжал»;79 и поэтому – дипломатия усовещаний, советов; пущены в ход и «глазки»: сначала – «сестринские»; вдруг – «влюбленные»; вспыхивает «тигрица» в них; в который раз позиции мною взяты, ибо она признается, удостоверившись, что готов я на все для нее: – она любит меня; истинная любовь – торжествует.
Мы – едем в Италию!80
Я, размягченный, счастливый, великодушный, – в который раз верю; нехотя уступаю ей: оба устали-де; небо Италии не для истерики; мне на два месяца – уединиться-де; уединиться – и ей; в августе – встреча; что значат два месяца? Впереди – вместе жизнь!
Блок знает об этом; иду к нему; на этот раз внятно он скажется – дуэлью, слезами или хоть… оскорблением. Он:
– «Здравствуй, Боря! Пойдем: мама хочет увидеть тебя».
И – мимо белых стен, мимо шкапчиков, мимо зеленых кресел: в оранжевую столовую с открытыми окнами на сине-зеленоватую глубину вод, всю изблещенную; «Саша» подсаживает к Александре Андреевне, которая наливает мне чай; завтра экзамен; и он – уходит: к книге; иду вторично: его нет дома: после экзамена он поехал рассеяться на острова; мы сидим без него; вот и он – нетвердой походкою мимо проходит; лицо его – серое.
– «Ты – пьян?»
– «Да, Люба, – пьян»81.
На другой день читается написанная на островах «Незнакомка», или – о том, как повис «крендель булочный»82; пьяница, клюнув носом с последней строки, восклицает:
– «In vino veritas!»83
Я спросил Щ., как относится Блок к нашему будущему:
– «Сел на ковер и сделал из себя раскоряку, сказавши: „Вот так со мной будет“».
– «И все?»
Не убедительно!
Убедительны: вызов, отчаянье или мольба; даже – пролитие крови; но – ни вызова, ни «человеческих» слез (разве я-то не выплакал прав своих?); и – решаю: с придорожным кустом – не теряют слов: проходят мимо; коли зацепит – отломят ветвь84.
Две темы, определявшие тогдашнюю жизнь, перепутались: «логика» чувств нашептала ложную аксиому: одинаковый эффект, высекаемый из разных причин, свидетельствует о том, что «причины» – одна причина: Николая Второго вижу я Александром Блоком, сидящим на троне; правительственные репрессии подливают масла в огонь моего гнева на Блока; бегаю под дворцами по набережным гранитам; и вот – шпиц Петропавловской крепости; сижу у Медного Всадника; лунными ночами смотрю на янтарные огонечки заневских зданий от перегиба Зимней Канавки, припоминая, как в феврале мы с Щ. стояли здесь, «глядя на луч пурпурного заката»85, мечтая о будущем: о лагунах Венеции; отблески этого – в «Петербурге», романе моем86.
Если бомбою лишь доконаешь сидящего в нас «угнетателя», – брошенной бомбою доконаю его; разотру ее собственною пятой под собою; и, взрываясь, разброшусь своими составами:
– «К вечному счастью!»
Этими бредами объяснимо мое поведение перед зданием открываемой Государственной думы87, где закачался с толпою, качавшей меня перед мордою лошади, на которой качался усатый жандарм; но вот я разрываю свой рот до ушей и бегу за пролеткою… Родичева, которому прокричали «ура».
Внешние впечатления Питера – пестрь «сред» Вячеслава Иванова; в башне огромного нового дома над Государственной думой я что-то сказал об искусстве88, за что Бакст жал руку, а Габрилович из «Речи» знакомился; слово сказал тогда длинный, с бородкой, блондин, – не седой – во всем прочем такой, как сейчас, Константин Александрович Эрберг; он высказался за анархию: точно, прилично; анархия получалась кургузенькая, скучноватенькая, как цвет пары: не то – серо-пегонькой, а не то – пего-серенькой.
Тоже жал руку Зиновий Исаевич Гржебин, впоследствии издатель «Шиповника», а пока – чернобрадый художник, с лиловым бантом, но – в твердых, огромных очках роговых; скелетиком вышмыгнул из-за плеча поэт Дике; подмигнул; и опять ушмыгнул: за плечо; на другой день проснулся я: бухают два кулака; неодетый, выскакиваю из постели; и отпираю дверь; в щель ее высунулась головка, как – чертика:
– «Это я – Дике: с кузиною Лелею;89 вы – надпишите».
И – книга вышмыгнула; а головка слизнулась; одевшись кой-как, заглянул в коридор; там стояло и радостно улыбалось мне желтое нечто (наверное, волосы).
– «Кузина Леля!»
С Ольгою Николаевной Анненковой познакомился коротко я за границею, лет через шесть, не узнав в ней «кузины»90.
Запомнился у Иванова начинающий пролетарский писатель Чапыгин, теперь уже крупный писатель; и врезался в память короткий и толстый, такой краснощекий, такой пухлогубый, с усищами, с густой бородкой, Евгений Васильич Аничков; казалось, что сам петергофский Самсон [Самый большой фонтан в Петергофе] бил – не он говорил; потрясая рукой, приподнявшись на цыпочки, храбро бросая в атаку живот, едва стянутый белым жилетом, казался скорее гусарским полковником он, чем профессором-меньшевиком; он поздней агитировал за «Петербург» – мой роман; и – спасибо ему.
В час расхода гостей, когда толстое солнце палило над. крышами, мы очутились на крыше огромного дома, где толстый профессор-гусар ужаснул своей живостью; стоя на желобе одною ногой, он пятой другой резко дрыгал над крышею Государственной думы, воскинувши руку в зенит и приветствуя толстое солнце; схватясь за него, убеждали его: не низринуться; он же сопротивлялся, пыхтя.
Вот и все, что осталося от литературного Питера; все – как во сне; отрезвляюсь лишь в Дедове91, когда – два удара: бац, бац! И один оглушил меня: разгон Думы;92 другой – раздавил: это – Щ.; извещала она, что любовь наша – вздор, что меня никогда не любила; о нет, не допустит она моего появления осенью в Питере; Гильда [Из пьесы Ибсена «Строитель Сольнес»], ее героиня, имеет «здоровую» совесть, которой она и последует93.
Знать, не Аничкову толстою дрыгать ногою от желоба крыши над бездною, а мне – в бездну броситься!
[Заглавие рассказа Эдгара По94]
Дедово!
Душное, мутное, полное грозами лето, охваченное пожаром крестьянских волнений; от Волги шли полчища вооруженных крестьян, босяков, батраков; уже красный петух залетал над усадьбами; мощно поднялся аграрный вопрос; распространялись листки «Донской речи»;95 и действовал осторожный «крестьянский союз»;96 раз наткнулись в лесу на жандарма, который… «грибы» собирал, потому что в окрестных лесах собиралися тайно крестьянские митинги: доктор, Иван Николаевич, в дело это – внес лепту.
Сережа все знал, сидя в бреховских, дедовских и надовражинских избах; меня ж ориентировал «друг», рыжий Федор, извозчик, ужасный свергатель властей, почитатель Иван Николаича, доктора; Федор меня возил в Крюково; и возвращал меня в Дедово, стаскивая в буераки и вновь выволакивая между рощицами; он повертывал на меня красный нос и выбрасывал руку, показывая кнутовищем:
– «За энтим леском – в сосняке, в том: намедни митинга была; хорррошо ж арараторы подымали; а все это – доктор: Иван Николаич! Года ведет линию; и – осторожен же: к энтому не подъедешь!»
И вдруг, повернувшись, кидался хлыстом на клячонку:
– «Но… но!.. Будет наша! А Коваленскую, энту, – мы выгоним…»
Бросивши вожжи, – ко мне:
– «Не Сергея Михайловича! Знают: он – за народ, как Михал Сергеич покойник».
Семейные трения меж Коваленскими и Соловьевыми претворялись народом в легенду: о народолюбце, Михал Сергеиче; был-де эсером и он; все – Сережа; уж истинно вышло: папаша – в сынка, чтоб народ мог сказать: а сынок-то – в папашу пошел.
Так, проехавшись с Федором, в Дедове я, бывало, сражаю Сережу:
– «Откуда ты знаешь?»
Сережа, бывало, рассказывает в свою очередь: Коваленских честят; но «бабусю» – щадил: ведь не столь уж с народом плоха она? Но – не любили старушку за «барыню»; да и за то, что читала, поджав свои губы, она лицемернейшие назиданья с террасы – таскающим ягоды бабам: у бабы надутый живот; а самой-то сынок – лапил баб; и за пазуху лазал: в кустах; что живот-то надутый – все видят; а кто надувал, еще надо расследовать.
Друг мой захаживал к парням: орать с ними песни и щелкать подсолнухи; с ними он рос, а не то что «в народ ходил» он; с ним – в открытую; я же не лазил по избам, не щелкал подсолнухов, не агитировал; мне были ближе рабочие и городские мастеровые; оставшись с Сережей вдвоем, жарко спорили мы; и Сережа помарщивался на статеечки Каутского, мной привезенные; я же кричал на эсерство сермяжное в нем. Почему же мне дедовцы верили? Растолковали по-своему отъединенность мою: я-де
есть закавыка такая, что… конспиративная, что ли; мне явно по избам ходить невозможно никак.
Уважали – «дистанцию».
Странная жизнь завелась тут: Сережа всклокоченный, перегорелый, взъерошась усами, свисающими над губой, искривленной усмешкой, бывало, трепнет:
– «Помнишь ли прошлогодний июнь? Ты писал „Дитя-Солнце“; в крылатке покойного дяди ходил; и все ждал, когда будут цвести колокольчики белые… Нынче, смотри: и природа не та».
Лето – душное: страсти душили.
Жил в раскаленьи двух яростен, слитых в одну, изживаемую стиском рта до зубного скрежета: и – да чего тут!
И слушали шелест дерев: нарастающий; листовороты раскрытые, ветви, паветви, сучья, суки трудно гнулись, качались; все ревмя ревело; и лиственный винт, отрываемый, в воздухе мчался пустом; из души вставал крик: бомбой бить – по кому попало, чему попало: убить!
А – кого?
Тут порыв отлетал; листья взвешивались, укрывая – коряги, стволы, суки, сучья; мы шелест листов утихающих слушали; те же: сушь, сонь.
Оставалось выполнить клятву, почти договор, кровью собственной писанный: с нею бороться до… смерти кого-то из нас: за нее ж; я клятвой припер себя к стенке, и сам ужасаясь насилию; не за горами и август: положенный ею же срок: для нее; и – угрюмо продумывал форму насилия; виделось явственно: бомба какая-то брошена будет; а коли не так, разотрется она под пятою моею, коли не сумею убить я предавшую «я» – свое собственное; и, – в который раз, – упав в стол, умолял ее в письмах: себя же, себя ж пощадить, сознавая, что в мыслях и я – не по воле своей, а по воле судьбы – уж вступил на дорогу… Ивана Каляева.






