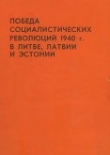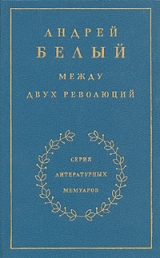
Текст книги "Между двух революций. Книга 3"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Наш флигелек приседал за кустами; над крышею шумы вершин, точно возгласы красных апостолов, тихо поскрипывал шаг; и – взрывалися ветви; и – красного цвета рубаха Сережи являлася; он сжимал кол; подобрал на дороге его, сделав посохом.
Он в эти дни себе на голову вздувши страсть к миловидной девчонке, Еленке, служившей в кухарках у полуслепого художника близ Надовражина, каждый день молча меня уводил: мне Еленку показывать; а как Еленка вбежит с самоваром, – ни жив он, ни мертв; не посмеет взглянуть; опускает глаза; и скорее удавится, чем слово скажет; Еленка закусит лукавую губку и ноздри от пыха расширит; и бросит на стол самовар; и обратно топочет босыми ногами на кухне расфыркаться: носом в передник.
Тогда попрощаемся; и верещим сухоломом; изогнутая еловая ветвь, как венок, протопорщена ярко-зеленою лапой над лбом его; этой веткой себя увенчал он в знак страсти; и весь испыхтелся под нею.
– «Сказал ли хоть слово, хоть раз ей?»
– «Ни разу, ни слова!» Не смел!
Но поехал верхом верст за двадцать – в деревню, где братья Еленки, из лавочников, самых мелких, имели свой дом; о Сереже не слыхивали; он – является в красной рубахе, слезает с седла: предлагаю-де руку и сердце!
Разинули рты; а потом, помолчавши с достоинством, галантерейно решили: так сразу – нельзя:
– «Вы с сестрою сперва познакомьтесь; а там – мы посмотрим».
Он скрыл от меня путешествие это; вернулся – сконфуженно, струсивши: можно ль теперь на попятную? Вдруг и Еленка лишь образ, рождаемый пеной; Елена Прекрасная – греческий миф; а он Грецией бредил; и бредил народом; соединял миф Эллады с творимой легендой о русском крестьянине;97 видел в цветных сарафанах, в присядке под звуки гармоники – пляс на полях Елисейских; бывало: орехом кто щелкнул – вкушенье оливок; и в стаде узрел «цветоядных» коров; и о бабьем лице, том, которое «писаной миской», он выразился: «мирро уст»; даже в дудочке слышалась флейта ему; сочетав миф с эсерством («земля для народа», «долой власть помещиков»), он пожелал омужичиться; «барина» сбросить, женясь на крестьянке.
Отсюда – Еленка: Елена Прекрасная!
Днями бродил, взявши кол, увенчав себя ветвью еловою, в красной рубахе, в стволах, перерезанных тенью и светом и стайками ясненьких зайчиков; он был – раскал, как и я; заключались, как два заговорщика, в флигеле; там, захватясь за бока, – он:
– «Осталось одно».
Мне – взорваться; ему – омужичиться. Он еще в декабре очень резко отверг предложение мое – примириться с кузеном:
– «Я в Шахматове для того и остался, когда ты уехал, чтобы доиграть свою партию с Блоком;98 и верь: этот спрут полонил Щ., представясь, что ранено щупальце; тянет ее перевязывать щупальце; ты излечи ее, или», – он супился:
– «Знаешь ли, Боря, ужасно, но если тебе не удастся уехать с ней…» – не договаривал он.
– «Если б я отговаривал, я бы фальшивил».
Тут слухи пошли: соловьевский барчук предложение сделал Еленке;99 Любимовы нам сообщили об этом; около Сережи стоит в эти годы Любимова, Александра Степановна, выходившая Коваленского Мишу, историка; стройная, крепкая, с горьким, поблекнувшим ртом, черноглазая, черноволосая, с белыми зубами, – умница с «вкусами», она проницала все вздроги душевных изгибов Сережи; ей нес он себя; не боролся с вмешательствами: напоминала она Розу Дартль; [Действующее лицо романа «Давид Копперфильд» Диккенса] ведь и источник забот о Сереже – таимая страсть ее к его отцу: Александра Степановна понимала и острую строку Валерия Брюсова, и ядовитость двусмыслицы Блока; простая, сердечная женщина эта увиделась нам символистской в противовес своей толстой сестрице Авдотье Степановне – ярой «общественнице» и двум «левым» племянникам; третья сестрица, Екатерина Степановна, трогала ясной, пылающей добротой; Надовражино, где обитали сестрицы, – гнездо недоверий ко всем Коваленским;100 как в прошлом году, здесь певали народные и революционные песни; рыдала гитара; бывало: вдвоем возвращаемся звездною ночью; загамкает пес; лес, канава и папоротники – сырые, злые; полянка.
– «Александра Степановна уверяет, что Вере Владимировне о Еленке все сказано; стало быть: „бабуся“ узнала».
«Бабуся» молчит.
Мы выходим на луг; и вон, вон оно, – Дедово!
В Дедове перед лицом Коваленских перерождались; и с мукой тащилися завтракать на большую террасу; не более полсотни шагов отделяло наш флигель от дома «бабуси», а… а – две культуры, два быта; там – жив восемнадцатый век; здесь – двадцатый; там – «рай» просвещенного абсолютизма; здесь – «ужасы» анархизма: и бомба, и красный петух; там невестою прочится «Ася» Тургенева; а по округе – молва, что невеста – Еленка.
Терраса; у Веры Владимировны Коваленской – улыбка кривая: «Еленка»; бабуся, трясяся наколкой, трясясь пелеринами, лапку нам тянет.
Но – сжатые губы; но – косо на внука метаемый взгляд, от которого вздрагивал он, потому что он видел уже: будет, будет падение в великолепнейший обморок.
– «Здравствуй, „бабуся“, – храбрится Сережа, – а знаешь ли, что говорит Феокрит?»
И поскрипывает сапогом; повисает настурцией; над ним яркий шмель; вот – кузиночка Лиза, которую ловко Сережа, подбросивши, ловит из воздуха; вот, захватясь за салфетки, сопят уж над рисом с рубленой говядиной; чай; дядя Витя, свой палец поставя на клавиши, фальшивит: «Я стражду, я жажду»;101 а дядя Коля над «Русскими ведомостями», традицией дома, – традицией «тона», – трунит, зло скосясь на меня.
Став мгновенно «марксистом», бросаю рабочим вопросом в него; он марксизм ненавидит: марксист – Миша, сын, не желающий знать его; очень угрюмый, сосредоточенный спор, с утаенным желанием перейти от слов к делу: я или – его «превосходительство»: кто-то здесь – лишний; наверное, я, потому что визгливые тявки мои нарушают традицию; уже Сережа хватает меня за рукав; уж головка «бабуси», с такою решимостью павшая в спину, – закинута; смотрит не глаз, а губа на меня.
И Сережа уводит – дрожащего:
– «Боря, ну ради „бабуси“, – сдержись; ты ведь эдак здесь все оборвешь, каково без тебя будет мне!»
Не сдержавшись:
– «А впрочем, так длить невозможно, – шагаем обратно, – я в каждой настурции, в каждом шипке самовара, в наколке, в поджатии губ ощущаю падение рода; и коли так длить, я – погибну».
И думаю: след на Еленке жениться ему; а он думал, что след мне убить иль – убиться.
– «Я стражду, я жажду», – стучал дядя Витя нам издали клавишем.
Переменить впечатления еду в имение матери;102 время проходит в писании жесточайших стихов; я пишу «Панихиду»103, – историю трупа, в которой есть строки:
Приятно!
На желтом лице моем выпали
Пятна104.
Пишу на мотивы из «Чижика»:
«Со святыми упокой»
Придавили нас доской105.
Собираю украдкою группу крестьян; объясняю: «Земля будет ваша; не надо усадьбы палить: пригодятся еще». Управляющий мне показывает на овсы: я – взрываюся: «Эти овсы есть грабеж у крестьян». На меня – донос земскому; земский уж хочет приехать с советом: мне вовремя выехать за пределы губернии; я – исчезаю до этого: нет ни покоя, ни отдыха!106 И… и… – куда ж мне деваться?
Я – сызнова в Дедове107, где нахожу письмо Щ.; переписка – как тренье клинков друг о друга; теперь она – просто резня за мое возвращение в Питер, которое – значит: отъезд с ней в Италию;108 вдруг – письмо Блока (из Шахматова), объясняющее, что он будет в Москве: иметь встречу со мной; я – в пустую квартиру, в московскую; кресла – в чехлах; нафталины…
Звонок: это – красная шапка посыльного с краткой запискою: Блок зовет в «Прагу»; [Ресторан на углу Арбатской площади]109 свидание – не обещает; спешу: и – взлетаю по лестнице; рано: пустеющий зал; белоснежные столики; и за одним сидит бритый «арап», а не Блок; он, увидев меня, мешковато встает; он протягивает нерешительно руку, сконфузясь улыбкой, застывшей морщинками; я подаю ему руку, бросая лакею:
– «Токайского».
И – мы садимся, чтобы предъявить ультиматумы; он предъявляет, конфузясь, и – в нос: мне-де лучше не ехать; в ответ угрожаю войною с такого-то; это число на носу; говорить больше не о чем; вскакиваю, размахнувшись салфеткой, которая падает к ногам лакея, спешащего с толстой бутылкой в руке; он откупоривает, наполняет бокалы в то время, как Блок поднимается, странно моргая в глаза мало что выражающими глазами; и, не оборачиваясь, идет к выходу; бросивши десятирублевик лакею, присевшему от изумленья, – за ним; два бокала с подносика пеной играют, а мы опускаемся с лестницы; он – впереди; я – за ним; мы выходим из «Праги»; повертываясь к Поварской, Блок бросает косой, растревоженный взгляд, на который ему отвечаю я мысленно: «Еще оружия нет: успокойся!»110
Сворачиваю на Арбат и, пройдя пять домов, подзываю извозчика:
– «На Николаевский!»
Солнце не село, когда, ни на что не похожий, я сваливаюсь с таратайки у флигеля в руки Сережи, который со мной начинает возиться; мне отступа – нет; я – к убийству приперт обстоятельством, а – не умею убить; и хочу уходить себя голодом, тайно от друга, «бабуси»; я делаю вид, что я ем; через несколько дней я так слаб, что усилием воли держусь на ногах; тут Сережа, меня заперев, объясняется очень серьезно.
Я пойман с поличным: откладываю голодовку.
Сережа ужасен; «бабусю» едва он выносит; к Еленке боится ходить: шах и мат! Раз, открывши чуланчик, который был заперт, – ко мне он; и – тащит в чуланчик:
– «Смотри-ка!»
Из кресла в тенях на нас смотрит коричнево-желтая мумия, в рост человеческий; то деревянная кукла, служившая манекеном художнице:
– «Как очутился он здесь? Надо вынести!»
Ольга Михайловна перед кончиною в спальне своей посадила на кресло его, одев в платье: писала с него; очень скоро потом под ногами его в луже крови лежала с простреленным черепом; кукла Сереже связалась с тогдашними днями, с психическим заболеванием матери, с самоубийством, со смертью отца; он сказал:
– «Худу быть!»
Каюсь я: деревянный коричневый профиль во мне вызвал образ из только что мною написанной «Панихиды»:
На желтом лице моем выпали
Пятна.
Ив подсознании откликнулось:
– «Я!» Куклу вынесли.
А через день допекаю-таки Николая Михайловича, и получаю: ведут себя так дураки; тотчас требую я лошадей; и «бабуся», неискренно ахнувши, падает в кресло: сидеть в позе обморока.
Вот и Федор: с тележкой; Сережа – исчез, не простившись; я – трогаюсь; кончилось Дедово; впрочем, – кончается жизнь; выезжаем на взгорбок, возвышенный над крюковскою дорогою; луг – переехали; к спуску дороги сбежались две рощицы; и между ними – прощеп горизонта: огромное солнце, как злой леопард, приседая к земле, все охватывает красноватыми лапами; что вижу я? Перед солнцем, весь вспыхнувший точно вихрами осолнечными, поджидает Сережа меня, – без вещей, зажимая в руке перемятый картуз; вот он прыгнул в тележку.
– «Куда ты?»
– «С тобою… Я после бывшего только что здесь не могу оставаться!»111
С тех пор мы отсиживаем меж чехлов в нафталинной квартире, в пылающем зное; пролетки в открытые окна трещат; угрюмо решаем, что мне остается «убить», что ему – рвать все с бабушкой после брака с Еленкою; тут – взрыв столыпинской дачи, воспринятый с мрачным восторгом112.
Раз с черной тросточкой, в черном пальто, как летучая мышь, вшмыгнул черной бородкою Эллис; он, бросивши свой котелок и вампирные вытянув губы мне в ухо, довел до того, что, наткнувшись на черную маску, обшитую кружевом, к ужасу Дарьи, кухарки, ее надеваю и в ней остаюсь; я предстану пред Щ. в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке; я возможность найду появиться и в светском салоне, чтобы кинжал вонзить в спину ответственного старикашки; их много; в кого – все равно; этот бред отразился позднее в стихах:
Только там по гулким залам,
Там, где пусто и темно,
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино113.
Я же бредил в те дни, то шушукаясь с Эллисом, то обегая пивные, подсаживаясь с бутылкою пива к хмелеющим мастеровым, почтарям; мы решали: так жить невозможно; вернувшись домой, сидел в маске, ей бредя и видя в ней символ.
Однажды раздался звонок; отпираю дверь: в маске; то – мать с чемоданами: из Франценсбада;114 она – так и ахнула.
Спрятана маска; я делаю вид, что здоров; зато Эллис, визжащий «дуэль», – под дождем, летит с вызовом в Шахматове;115 и, возвратившись, докладывает, передергивая своим левым плечом и хватая за локоть; протрясшись под дождиком верст восемнадцать по гатям, наткнувшись в воротах усадьбы на уезжающую Александру Андреевну, застав Блока в садике, он передал ему вызов; в ответ же:
– «Лев Львович, к чему тут дуэль, когда поводов нет? Просто Боря ужасно устал!»
И трехмесячная переписка с «не сметь приезжать», – значит, только приснилась? А письма, которые – вот, в этом ящике, – «Боря ужасно устал»? Человека замучили до «домино», до рубахи горячечной!
Эллис доказывает:
– «Александр Александрович – милый, хороший, ужасно усталый: нет, Боря, – нет поводов драться с ним. Он приходил ко мне ночью, он сел на постель, разбудил: говорил о себе, о тебе и о жизни… Нет, верь!»
Ну, – поверю; итак, в сентябре еду в Питер; дуэли не быть; вопрос о том, – как со Щ.; все меняется: Блоки переезжают; кончается жизнь их в казармах;116 и мы доживаем в квартире, где двадцать шесть лет протекло, где родился я, где каждый угол зарос паутиною воспоминаний; квартира снята уж в Никольском117. И с Дедовым порвано; я ведь не знал: флигелечек, в котором Михаил Сергеевич меня посвящал в литераторский сан и в котором я так прострадал, – он сгорит; вместо ситцевых кресел и книжных шкапов, переполненных старыми книгами, – вырастут сорные травы.
Пять раз осознавши, что любит меня, Щ. потом убеждалась в обратном; три раза мы с ней уезжали в Италию, каждое перерешение отдавалось, как драма: «драматургия», или «Собрание сочинений Генрика Ибсена», – разрешилась ничем, кроме жестов болезни во мне; август 1906 года дал весь материал для романа «Серебряный голубь», написанного в 1909 году;118 а месяц сентябрь – собрал весь материал к «Петербургу», написанному в 1912 году.
Я не углублялся в иронию, будто никто не препятствует жить в Петербурге мне после того, как июнь, июль, август шла речь об обратном совсем; зарезаемый кролик пищал о пощаде; с тупым бессердечием Щ. меня резала; и усмехалась при этом, что совести нет у нее: так я понял «здоровую» совесть, которой гордилась она; зарезаемый кролик не вытерпел: и вдруг сбесился119.
Блок все это знал; знал и то, на что звал, отказавшися от поединка со мной: надо быть лицемером, чтобы объяснить мою боль через «просто устал»; лишь не зная деталей «истории», мог Эллис верить; Сережа, с тревогой меня провожавший, – не верил.
А я?
Щ., не веря, хватается за фикцию я «человеческого» отношения к себе; я готов был облечься в дурацкий колпак, чтобы этой ценой не глядеть в отвратительную пустоту вместо «я» человека, мне ставшего – всем; как калека, тащился я в город, мне ставший – могилою.
Приезжаю побитой собакой, не смея без зова явиться;120 сажусь на углу Караванной, поджав псиный хвост: им бить в пол и вымаливать милостей; так просидел в тусклом номере день: нет ответа; другой – нет ответа; на третий – отписка: от Щ.: принять – некогда; ждать извещения121.
День, другой, третий громлю тротуары проспектов и набережных; над Невою, со взглядом, вперенным в заневский закат, – я стоял; на всю жизнь он запомнился, соединяясь с пробегом по жизни в обратном порядке, чтоб голову бросить в колени воображенной Раисы Ивановны [Гувернантка, читавшая четырехлетнему мне стихи Гейне], гладившей по голове и шептавшей о мальчике, о горбуне, его мучившем; мать за стеною певала старинный романс:
Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы122.
Под пурпурным закатом стоял на Гагаринской набережной, под орнаментной лепкой угрюмого желтого дома; чрез много лет я, увидавши его с островов, – сознаю: это – дом, из которого Николай Аполлонович, красное домино, видел – этот закат; видел – шпиц Петропавловской крепости; [См. «Петербург»123] но это я тут под желтой стеною стоял, вспоминая о детстве: с тоскою глядел на закат.
Когда падала ночь, я сидел в ресторанчике, на углу Миллионной124, с каким-то потеющим бородачом, оказавшимся кучером; мы с ним кого-то свергали; он со страниц «Петербурга» внушает Неуловимому [См. роман «Петербург»] подозренье; газетою кроет Неуловимый свой узелочек, в котором – «capдинница» – бомба; такой узелочек, невидимый, точно явился в руке моей; я его всюду таскал за собою; и точно кто вшептывал в ухо – «пора тебе»; пальцы сжимали лишь воздух пустой125.
Шестой день, как громлю тротуары; куда себя деть? К Доминику126 иду опрокидывать рюмки и после, с опущенною головою, плестись через строй проституток, хватающих за руки (пьян человек), к Караванной, домой – головою в подушку: не спать и ворочаться.
Как-то, – у скверика, где Караванная пересекается, кажется что, с Итальянскою, вылетев, наперевес держа трость, в панама, точно палка прямой, без кровинки в лице с неприятным изгибом своих оскорбительных губ, побежал мне навстречу —
– Блок!
Он – не увидел меня.
Этот жест пробегания я пережил как удары хлыста по лицу: «Как он смеет?»
Что?
Лгать! Потому что – увиделось: здесь, на углу Караванной, его обращение с «Боря» – слащавая маска, слетевшая под ноги в миг, когда он полагал, что его не разглядывают; это «голое», злое лицо крепко вляпалось в память; и – стало лицом Аблеухова-сына, когда он идет, запахнувшись в свою николаевку, видясь безруким с отплясывающим по ветру шинельным крылом; [См. «Петербург»127] сцена – реминисценция встречи.
Седьмой уже день: шагать в номере – бред; и шататься по мрачному, черно-серому городу – бред; я склоняюсь на столик заневской харчевни, чтоб греть себя водкой: ознобит; но натыкаюсь на литератора; с ним я оказываюсь уже в другом ресторане; откуда-то взялся Чулков, незадолго до этого выпустивший «О мистическом анархизме», за что из «Весов» я его пощипал; он пенял мне за это128.
Хорош: ногой – в гроб, а рукой – за перо; у меня лежит странная книга; заглавие – «Сутта-Нипата»;129 я силюсь буддийской нирваной прервать свою боль; снова: это случайное пересеченье фантазии о «домино» с мыслью Будды всплывает в романе моем, когда старый туранец является перед сенаторским сыном, заснувшим над бомбой130.
С отчаянья я оказываюсь у Федора Сологуба;131 и виту, что нарумяненный, чернобородый, плешивый мужчина в поддевке, на щеки наклеив огромную мушку и рожками вставших висков увенчав свою плешь, – здесь засел; он держал себя томной красавицей, перед которой маститый Иванов, встряхивая белольняною копною волос, лебезил:
– «Михаил Алексеевич, почитайте стихи».
М. Кузмин, уже ахнувший «Крыльями» [Повесть]132, стал шепелявить стихи, кокетливо опуская глаза; мне тогда не понравился он; еще более не понравилось чтение собственной «Панихиды», к которому приневолили; я зачитал, – с прихрипеньем, взывая:
Приятно!
На желтом лице моем выпали —
Пятна!
Так я накануне едва не случившейся смерти – себя хоронил.
Дни – как вляпнутые пятна бреда; и уже каким-то скаканьем на помеле промелькнул восьмой день; помелом оказался Иванов [Вячеслав Иванов, поэт], тащивший к Аничкову завтракать; здесь гримасничал Городецкий; двадцатипудовая туша Щеголева, известного пушкиноведа, в обнимку с хозяином хлопала водку; я жался к блондину с взъерошенными волосами, в застегнутой куртке, с кривым, бледным, смахивающим на В. А. Серова лицом; павши локтем в колено, отставивши ногу, ероша бородку, завел он со мной разговор о покойном отце, пока прочие пили; вина не касался он.
– «Кто это?» – спросил я у Аничкова.
– «Да Александр Иваныч Куприн».
После завтрака двинулись все к Куприну, у жены которого сидел журналист и редактор Ф. Батюшков вместе с Дымовым Осипом («литературный лихач», – так Чуковский о нем написал);133 у Куприна мы обедали; он заставил меня написать на большом деревянном, сплошь покрытом эпиграфами столе на память стихи; уже вечером всею компанией мы на извозчиках, сидючи по трое, шумно поехали к Ходотову, к артисту; там – роище, гул: я сидел за столом с драматургами – Косоротовым и Найденовым; кто-то отчетливо произнес: «Трепов умер от разрыва сердца»134.
А утром записка: Щ. вечером ждет135.
День был зеленоватый, гнилой, с мрачной прожелтью; в воздухе взвесились мрази; в такие дни сразу же отнимается память о лете; как сажа, слетает загар.
Я с утра – на посту; над Невой, у гранита; рой за роем неслися клокастые дымы над еле протускленным шпицем; как жутко глядеть туда: брр! Я вернулся шагать: меж углами угрюмого номера; и, отшагав расстояние, равное расстоянию от Петербурга до Колпина136, – слышу: этого недоставало – стучат! В двери выставилась борода под вихрами, в очках, с выражением наглой слащавости:
– «Я, Борис, – и не сержусь! Вот – нашел тебя…» И полосатою парой ввалился, всучив в карман руку, кузен, Константин Арабажин137 [Театральный критик «Биржевых ведомостей», потом профессор литературы], все звавший к себе, в Чернышев переулок; шагал предо мной, пародируя жесты Бугаевых; и доказывал, что и он – социалист.
– «Да они ж не желают понять… – ставил он предо мною ладони и точно отталкивался. – Они думают, обобществленье – по метрику на обывателя… Так: у меня, в Чернышевой, Борис, – ну, четыре там комнаты; – падал вихрами на ногу, – а в будущем строе, – бросил свой дородный живот, ухватясь за подтяжки, – их будет – что? Шесть!»
Он слащаво помигивал.
Пропародировав родственность, бросив мне руку и шляпу схватив, отшагал в коридор, влепясь в мозг черной кляксой; а мозг искал отдыха перед свиданием с Щ.
Да, такие деньки – Достоевский описывал!
Шел как на казнь я по Марсову полю; вопила Нева пароходиком; копоти, выгнувшись, падали в черную воду; отчетливо вылепился над водой одинокий прохожий; туманы густели; янтарные слезы заневских огней стали тусклыми пятнами сыпи; я скоро увидел за рыжим пятном фонаря теневой угол дома: того! Вот и неосвещенная лестница.
Мягкие части, – не ноги, – гранились ступенями.
Вот – началось это: зачем приехал? Я вызван затем, чтобы выслушать свой приговор: удалиться в Москву; торчать – нечего; я, представляясь страдальцем, отплясываю по салонам; у Сологуба – был? У Аничкова – был? И подносится возмутительная сервировка деталей вчерашнего дня, специально для Щ. собиравшаяся неизвестным мне Холмсом;138 детали подобраны за исключеньем одной: что – дотерзан.
Всего – пять минут! Из них каждая как сброс с утеса – с утратой сознания, после которого – новый сброс; пять минут – пять падений – с отнятием веры в себя, в человека; на пятой минуте себя застаю в той же позе, как в Праге: пред Блоком.
А далее —
– мягкие части – не ноги – в обратном порядке, стремительно падая, перебирают ступени, а руки, простертые в мрак, разрывают подъездную дверь, из которой бросается – серая желть, проясняясь пятном фонаря; там за дверью отхлопнулась жизнь; здесь – не «я», а ничто, отграниченное шаровою поверхностью; к ней прилипает туман; что-то пакостно хлюпает; миг, и пятно фонаря убегает за спину; второе навстречу летит с подворотнею; мимо же катится, бухая, шар; под ним мягкие части стараются; и претыкаются вдруг о перила моста.
Шар, это —
– сердце.
А – где голова?
За перилами, силясь увидеть, – куда: где вода? Беловатая мгла прилипает к глазам: уж нога за перилами; вдруг в голове, – как иглой:
– «Живорыбный садок, живорыбный садок!»
Иль – баржи: те, которые сдвинуты к берегу; рухнешь не в воду, – на доски; и будешь валяться с раздробленной костью: всю ночь.
И опять, – как укус, – в голове:
– «Отложить до утра: утром – в лодку; и – с середины Невы».
И бесчувственно-мягкие части захлюпали прочь под пятно фонаря, от которого шел силуэт: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы; от пятна до пятна перещупывались подворотни и стены; вот вылезли рыжие пятна отвсюду: туман грязно-рыжий стал; в нем посыпали лишь теневые пальто, котелки, усы, перья, позднее влепившись в роман «Петербург»; все страницы его переполнены роем теней, не людей; я таким видел город, когда небывалый туман с него стер все живое; та ночь не забудется;139 переживанья мои воплотились в томленьи всех главных героев романа; вторая часть посвящена описанью одних только суток; я их пережил, не усиливши, разве ослабивши бред, обстававший сознанье; а котелок, надо мною стоявший над мостом, бежал сквозь туман на страницы романа, чтоб бегать – по ним: «Над кишащей водой пролетали лишь в сквозняках приневского ветра – котелок, трость, пальто, уши, нос и усы» [См. «Петербург», глава первая140].
Дотащился до номера: в распоряженьи осталось семь-восемь часов беспросветного мрака, но вздулося время; как сердце; и действие волей судьбы отнеслося за солнце; как перешагать расстояние, равное семи часам? Пишу я матери и стараюсь ее успокоить: внушить, что так надо; письмо – запечатано; далее я запечатываю и рецензию, писанную в этот день для «Весов»; номер – набран; редакция – ждет; вот —
– и кончены счеты с земным!
А прошло – полчаса: еще шесть с половиной часищ; я хватаюсь за «Сутту-Нипату»; прочитываю: «Одинокий подобен носорогу»141; но не рок – носорог: а тут – рок; нет, – не то! И сижу, бросив голову в руки; и вечность развертывает свои счеты; и медленно выговариваются невыговариваемые слова; брезжут образы (им же нет образа); это уже и не жизнь: как бы совершено уже то, чему след совершиться; и вот из как бы вылезает кабы: кабы так, а не эдак! Но то совершилось в душе: начать поздно; и – отрешеннейшее созерцанье, разглядыванье, передумыванье: странно-радостный свет, что есть жизнь для уже из-за жизни глядящего; тот рассуждает над этим, который низвергся со смысла, – не в воду, а – в эти четыре стены: запечатывать письма; так «я» из вне жизни сидело над трупом себя самого, вытворяя – кого? Да себя самого; все предстало в ином вовсе свете, меня освещающем.
И – озираюсь: действительно – освещены все предметы; а свет электрический даже не светит: в дневном.
И я понял, что ночь пересилена; жив: не убил себя; вечность свернула свои тяготящие счеты; гляжу на часы: половина десятого.
Стук: как? Посыльный с запиской? Щ. просит быть: и – сию же минуту142.
Не стану описывать, как порешили расстаться, чтоб год не видаться; в себе разглядеть это все; отложить все решенья; по-новому встретиться; Щ. убедила меня ехать в Италию, к солнцу, к здоровью, к искусству; она обещала писать и поддерживать во мне стремленье к добру, – то, которое будто бы на лице отразилось моем; после ночи143.
Я ехал в Москву с облегченьем:144 как будто я в Питере выделил труп, о котором кричали последние стихотворные строчки; и скоро я с тихостью, свойственной выздоровленью, уселся в вагон: мама, Эллис, Сережа в окошке, махая руками, – пропали.
Поля: еду в Мюнхен145, к Владимирову; поступив в Академию, учится он у профессора Габермана.