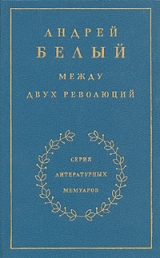
Текст книги "Между двух революций. Книга 3"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Зал вмещал несколько тысяч в нем бившихся туловищ; черное роище: зыбь рук, голов, сюртуков, шей, локтей – в коридорах, в партере, в проходах, на хорах; сидели, стояли, ходили, сжимая друг друга, друг в друге протискиваясь, – разодетые дамы и барышни скромного вида в простых шемизеточках, лавочники, буржуа, адвокаты, студенты, рабочие.
Вот: все воскликнуло: залпами аплодисментов; как отблеском ясным, весь зал просиял; и Жорес появился из двери, увидясь и шире и толще себя, с головой, показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз; переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которою встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном: направо, налево; но вот он короткую руку свою бросил в воздух: ладонью качавшейся угомонял рявк и плеск; водворилось молчанье; тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилия в уши врубать тяжковесные свои фразы, – забил своим голосом, как топором; и багровыми, мощными жилами вздулась короткая шея; грамматика не удавалась ему; говорил не изящно, не гладко, пыхтя, спотыкался паузами; слово в сто килограммов почти ушибало; раздавливал вес – вес моральный; тембр голоса – крякающий, упадающий звук топора, отшибавшего толстые ветки.
Кричал с приседанием, с притопом увесистой, точно слоновьей ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона; и мелькало: что будет, коли оторвется от кафедры и побежит: оборвется с эстрады; вот он – оторвался: прыжками скорей, чем шажочками толстого туловища, продвигался он к краю эстрады; повис над партером, вытягиваясь и грозясь толстой массою рухнуть в толпу; голос вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дискантами визгливой игры на гребенке; вдруг, чашами выбросив кверху ладони, он, как на подносе чудовищном, приподымал эту массу людей к потолку: ушибить их затылки, разбить черепа, сквозь мозги перекинуть мосты меж французом и немцем.
Мы кубарями понеслись на космической изобразительности; он, как Зевс, сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы, переменялся рельеф восприятий; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан; промежуточные заключенья глотал; и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уж ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя и нас интуицией одолевать расстояния меж силлогизмами; мыслил соритами, эпихеремами; [Ракурсы силлогической мысли] и оттого нам казалось: хромала грамматика; и упразднялася логика лишь потому, что удесятерял он ее.
Не припомнить, чего он коснулся. Смысл: снять катаракты мещанских критериев с глаз, чтобы видеть политику трезво: в событьи парижского дня, в протоколе рейхстага, в интрижечке колониальной политики Англии надо уметь восстанавливать ось всей планетной действительности; точно Фидий скульптуру, изваивал целое из непосредственно данного хаоса, бившего в нас, как тайфун; за потоком с трудом выбиваемых образов предощущалась программа огромной системы, им произнесенной на митингах, ставшей решением, действием, лозунгом масс.
Говорил он периодами:112 «так как» – пауза; «так как» – вновь пауза долгая; и наконец уже: «то…»: иль:
– «Когда» —
– начинал он с поревом, с подлетом руки на притопе, – «то, то-то», рисующим инцидент в Агадире, едва не приведший к войне, потому что Вильгельм размахался своей задирательной саблей113,
– «Когда» —
– брал регистром он выше, и выше метал руку, бороду, топнувши, —
– «то-то и то-то», рисующим роли Вальдек-Руссо, Галифе, Комба в недавнем конфликте с соседней военной державой,
– Когда —
– дискантами летел к потолку, став на цыпочки и перевертываясь толстым корпусом, чтоб бородой и рукою закинуться к хорам и с хоров поддержки искать у протянутой из-за перил головы, —
– «то-то и то-то», рисующие революцию русскую, Витте (и капали капли тяжелого пота на бороду); вдруг с дискантов в бездну баса: —
– «Тогда!» —
– и рукой, вырастающей втрое над оцепеневшим партером, как кистью огромною, он дорисовывал выводы.
Выстрелы аплодисментов: всплывала от всех ускользнувшая связь меж «когда»; в той же позе – он ждал: животом – на партер; и потом, отступая, тряся победительно пальцем, от слова до слова свой вызвавший возгласы текст повторял он: повертываясь, переваливаясь, брел под кафедру, пот отирая платком, точно слон к водопою; и с новым периодом снова бросался на нас.
Кончил: кубарем вылетел я, чтобы после него не услышать Корнеля, которого так он любил, что поднес точно лакомство; Корнель – художник.
Жорес – еще больший: художник политики.
Он, говорят, говорил больше часа; но время мне сжалось в минуту, чтобы протянуться годами: в сознании; в «Юманите» я читал стенограмму;114 но речь была в паузах, в голосовой интонации, в жесте; в ней фраза, обстанная кариатидой-метафорой, как бронтозаврами, мощно плескалась прибоем ритмических волн; да, – размах мировой; современность парижская не подходила к размаху; эпоха войны открывала Жоресу возможность взрывать динамитные склады, – Германии, Франции, Англии; в этой эпохе он делался главнокомандующим миллионов стонавших; он мог бы зажечь революцией Францию, Жоффра сменить, повернуть дула пушек и вызвать ответные отклики в Англии, даже в Германии; шаг его был шаг эпохи; биение сердца – бой колокола.
Это – поняли: даже в тюремном застенке бой сердца Жореса звучал бы набатом; так что оставалось убить.
И «они» это сделали115.
Я пережил эту смерть вблизи Базеля; но не великий, величием равный эпохе, погиб для меня; для меня эта смерть – смерть сердечного, доброго, ставшего в воспоминаниях близким; семь лет я не видел Жореса; но знал я: он – есть; а теперь его – не было; и – я забыл о войне; и забылось, что мы, проживающие рядом с границей, – в клещах меж двух армий, что пушки из Бадена наведены и на нас, что близ Базеля корпус французов, прижатый к Швейцарии, вынужден в нашу долину вступить; и тогда пушки Бадена (как на ладони, – там) грянут; уже собирали дорожные сумочки: в горы бежать; уж под Базелем бухали пушки.
Все это забылось; я как сумасшедший забегал по берегу Бирса:
– «Месье Жорес… Тот, кто опорой мне был в тяжелейшие месяцы жизни, кого я любил…»
И над струями темно-зелеными пеной курчавой плескалось и плакало:
– «Умер он, умер: „они“ – погубили его!»
Жорес мне – действителен в мороке города; прочие – точно китайские тени; Париж как Мельбурн, потому что я ехал – маньяк, в свою точку вперенный, – выкладывать Гиппиус «раны» и после шагать пред камином; ходил к Мережковским с прогулки: в четвертом часу; посидев до шести, возвращался к обеду; обедали в семь; Мережковский сидел в кабинете; Д. В. Философов в переднюю шел с шапоклаком, одетый в убийственный фрак:
– «На банкет?»
– «С Клемансо».
А когда проходил в пиджаке, – то я знал: к анархистам, И. Книжнику [Псевдоним Ветрова] и Александрову, жившим в предместье Парижа; раз я с ним ходил; Александров, высокий, с глазами лучистыми, с русой бородкой, отзывчивый, нервный, мне нравился; кончил печально в России; его окружили жандармы; он пулю пустил себе в лоб.
Мережковские впутывали в суеты, из которых слагалась их жизнь; так: забрав Философова, Гиппиус даже его заставляла писать с нею «Маков цвет» (драму); и мне предложила сотрудничать с нею; стихи написать ей: о маках; [См. драму «Маков цвет»116] она подставляла ненужных людей и тащила к знакомым: трещавшая дама из светского общества, сладко точа комплимент, являлась; от дочки ее приходил Мережковский в восторг: даже был он не прочь ей увлечься; фамилии дамы не помню; казалась пустой; глазки – хитренькие; слыша, как называли меня Мережковские «Борей», она принялась называть меня «Борей».
– «Какой „Боря“ милый! Тащите с собою обедать ко мне; никого: вы да мы».
Повели; Философов отправился с нами; в гостиной сидел франтоватый брюнет, эластичный, красивый; лицо – с интересною бледностью; взор – опаляющий; с искрой усы – как атлас.
А фамилия и не расслышалась мне.
Склонив Гиппиус профиль, но выпятив грудь, крепко сжавши нам руки с закинутым профилем, локоть склонил он на кресло и гладил свой холеный ус, наблюдательным взглядом вбирая лорнетку, горжетку, ботиночку с пряжками; но про себя я отметил: Д. В. Философов, ответствуя франту, был сдержан; шажочками в угол пройдя, стал за спину брюнета, свой взгляд выразительный остановил на З. Н.; та, пустивши дымок, улыбнулась загадочно.
Этот брюнет завладел разговором, пуская ужами по комнате светские фразы и тихо срывая с рояля аккорды, но острые взгляды бросая на нас; произнес, между прочим, он стихотворенье Бодлера и с мягко изогнутым корпусом – к барышне: стан захватив, с нею сделал тур вальса; я понял: он пишет в газетах; он силится интервьюировать.
Сел за обедом напротив меня, взяв невинную позу; какую-то мягкую жесткость в руке, передавшей закуску, отметил я; с пальца – луч перстенный; ловко въиграв в разговор и меня, вдохновил к политическим шаржам; но тут я почувствовал быстрый удар под столом по ноге; Философов? Этот последний, когда на него я взглянул, не ответил на взгляд, неожиданным упоминанием о брате-министре меня оборвавши:
– «Мне Дима писал, что…»
Брюнет его выслушал; с ним согласился; спросил:
– «А послушайте, вы ведь видаетесь с Книжником и Александровым?»
А Философов с развязностью, глядя на ногти, снаивничал:
– «Знайте, я – декадент, – ледяными глазами в брюнета уставился, – и анархист: презираю политики, – всякие!»
Мне же мелькнуло: «Как, он презирает политику? В первый раз слышу».
Брюнет согласился и с этим; они запорхали словами; зачем Философов, ругавшийся словом «эстет», – стал эстетом? Брюнет с замирающей нежностью перебирал имена левых деятелей; тут меня осенило: да это – дуэль?! В ледяные глаза Философова очень жестоко и остро, как сабельный блеск, брызнул блеск черных глаз.
Когда встали, спешили уверить хозяйку, что поздно: пора; Философов на улице зло на меня напустился:
– «И вы хороши: угораздило вас говорить о политике; он только этого ждал: он же к нам подбирается; вижу, что этот обед – сфабрикован».
Брюнет – Манасевич-Мануйлов [Темная личность, провокатор], известный сподвижник Рачковского [Директор департамента полиции].
Видел барона Бугсгевдена я, сына организатора ряда убийств: Герценштейна, едва ль не Иоллоса;117 проклявши отца, бросив службу, свой круг, этот аристократ бледноусый бесцельно слонялся в Париже, сочувствуя террору, чувствуя преодиноко себя и в том мире, который он бросил, и в мире, к которому шел; так его объяснила мне Гиппиус; скоро исчез из Парижа, пятном промаячив; поздней, в Петербурге, в папашу стрелял он, как помнится, или собирался стрелять118.
Встречался и Иван Иванович Щукин, брат капиталиста московского; тот был брюнет; этот – бледный блондин; тот – живой; этот – вялый; тот – каламбурист наблюдательный; этот – рассеянный; тот – наживатель, а этот – ученый; в «Весах» появился ряд корреспонденции о Лувре за подписью «Щукин», написанных остро, со знанием дела;119 И. И. служил в Лувре; он был награжден красной ленточкой (знак «легиона» почетного); он, давно переехав в Париж, у себя собирал образованных снобов, ученых, артистов, писателей.
Я ходил к Щукину, где между мебелей, книг и картин, точно мощи живые, сидел Валишевский, известный историк, злой, белобородый поляк, с изможденным, изжеванным ликом, сверкавшим очками; я помню с ним рядом огромного, рыхлого и черноусого баса, Барцала [Старый певец московской оперы, очень радикально настроенный в годы революции], бросавшего космы над лбом и таращившего беспокойно глаза на сарказмы почтенного старца; запомнился слабо-рассеянный, бледный хозяин, клонивший угрюмую голову, прятавший в блеске очков голубые глаза; вид – как будто сосал он лимон; лоб – большой, в поперечных морщинах. Потом оказалось, что он, положив застрелиться, дотрачивал средства свои: раз, собравши гостей, он их выслушал, с ними простился; и, их отпустив, застрелился; ни франка при нем не нашли; мог служить как ученейший специалист по искусству; А. Ф. Онегин, собравший архивы по Пушкину120, часто бывал его гостем.
Однажды сидели за чаем: я, Гиппиус; резкий звонок; я – в переднюю – двери открыть: бледный юноша, с глазами гуся; рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре – шарк – в дверь.
– «Вам кого?»
– «Вы… – дрожал с перепугу он, – Белый?»
– «Да!»
– «Вас, – он глазами тусклил, – я узнал».
– «Вам – к кому?»
– «К Мережковскому», – с гордостью бросил он: с вызовом даже.
Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:
– «Гумилев».
– «А – вам что?»
– «Я… – он мямлил. – Меня… Мне письмо… Дал вам, – он спотыкался; и с силою вытолкнул: – Брюсов».
Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения.
– «Что вы?»
– «Поэт из „Весов“»121. Это вышло совсем не умно.
– «Боря, – слышали?»
Тут я замялся; признаться, – не слышал; поздней оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил уже после того, как Москву я покинул;122 «шлеп», «шлеп» – шарки туфель: влетел Мережковский в переднюю, выпучась:
– «Вы не по адресу… Мы тут стихами не интересуемся… Дело пустое – стихи».
– «Почему? – с твердой тупостью непонимания выпалил юноша: в грязь не ударить. – Ведь великолепно у вас самих сказано!» – И, ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени – фига под нос; этот дерзкий, безусый, безбрадый малец начинал занимать:
– «Вы напрасно: возможности есть и у вас», – он старался: попал-таки!
Гиппиус бросила:
– «Сами-то вы о чем пишете? Ну? О козлах, что ли?» Мог бы ответить ей:
– «О попугаях!»
Дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею; впервые попавши в «Весы», шел от чистого сердца – к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога? Тут Гиппиус, взглядом меня приглашая потешиться «козлищем», посланным ей, показала лорнеткой на дверь:
– «Уж идите».
Супруг ее, охнув, – «к чему это, Зина» – пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет.
Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот123; все же – он поводы подал к насмешке: ну, как это можно, усевшися сонным таким судаком, – равнодушно и мерно патетикой жарить; казался неискренним – от простодушия; каюсь, и я в издевательства Гиппиус внес свою лепту: ну, как не смеяться, когда он цитировал – мерно и важно:
– «Уж бездна оскалилась пастью».
Сидел на диванчике, сжавши руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая: смеются над ним или нет; вдруг он, сообразив, подтянулся: цилиндр церемонно прижав, суховато простился; и – вышел, запомнив в годах эту встречу124.
Запомнился Минский.
Тут должен сказать: этот старый писатель возился с холодною витиеватою мыслью: додумался он до отказа – от мысли; ужасно съедаться абстракциями, копошащимися, точно черви в сыру, в мозговом веществе; с перемудра, а может быть и с геморроя, почтенный сей муж заболел мозговой лихорадкой, сказавшейся в страсти к гнилятине; уже позднее я встретил почтенного Минского, седоволосого старца, живущего жизнью идей; и парижского Минского вовсе не связываю с Николаем Максимовичем, или – подлинным Минским.
«Парижский» – не нравился мне: не пристало отцу декадентов, входившему в возрасты «деда», вникать в непотребства; разврат смаковал, точно книгу о нем он писал; с потираньем ладошек, с хихиком, докладывал он: де в Париже разврат обаятелен так, что он выглядит нежною тайной; гнездился в весьма подозрительном месте, чтоб не расставаться с предметом своих наблюдений.
– «Не можете вообразить, как прекрасна любовь лесбианок, – дрожал и с улыбкою дергался сморщенным личиком. – Там, где живу, – есть две девочки: глазки Мадонн; волоса – бледно-кремовые; той, которая – „он“, лет семнадцать; „ей“ – лет восемнадцать; как любятся!»
И он, слащаво зажмурившись, толстенький стан выворачивал, ерзая задом; с пугавшей меня грациозностью оборонялся от доводов Гиппиус, ручкой отмахиваясь, точно веером; Гиппиус – в хохот:
– «Откуда вы видели, как они любятся?»
Он лишь глаза закрывал, полагая крестом свои руки на грудь, как поношенный черт, имитирующий позу ангела.
– «Вы покажите нам место, где вы наблюдаете». Он, – тупя глазки:
– «Всегда и везде – я ваш гид».
– «Вы хотите пойти со мной, Боря?»
– «Конечно, – с Борис Николаевичем: может, „Белый“, над бездною ада носясь, соблазнится и вспыхнет, став „Красным“».
– «Ах вы, – Мефистофель!»
Как сальцем он лоснился, – маленький, толстенький, перетирающий ручки, хихикающий, черномазый, с сединочками; а когда он ушел, не без жути мне Гиппиус:
– «Видели, как он брюшком передергивал, слюни глотая: несчастный, не правда ли, – сморщенным личиком напоминает он кончик копченой колбаски».
И Гиппиус и Философов читали Крафт-Эбинга, интересуясь психопатологией; в Гиппиус смешивались: познавательные интересы с больным любопытством:
– «Вы, Боря, конечно, со мной; не пойду с этим Минским одна».
Мы в назначенный вечер заехали к Минскому; жил
недалеко он от «Плас-Пигалль»; [Центр кабачков] он нас ждал; он к нам вышел с зонтом, в котелке: тугопучным таким коротышкой,
– «Идемте ж скорей».
В котелке, как грибок, семенил с лихорадцей за нами; сперва повел к «дьяволам» [Кабачок ада] он; после к «ангелам»; [Кабачок ада] дьяволы нас угощали ликерами.
– «Скучно!»
Накрыв свои губы перчаткой, наш гид с лихорадцей в глазах подбоченился зонтиком:
– «Я вас веду в Бар-Морис».
– «Как? Куда?» Котелочек поправил:
– «К гомосексуалистам».
– «Ведите».
Он зонтик – под мышку; на лоб – котелок: побежал, мне напомнивши скачущий кончик копченой колбаски.
Привел в небольшую, набитую людьми, невзрачную комнату; столики; больше мужчины; но были и дамы; одна из них очень двусмысленным взглядом окинула Гиппиус, будто узнав в ней себя; эта – к Минскому:
– «Кто?»
– «Лесбианка».
Средь столиков ерзала тощим крестцом «Отеро» (так «ее» называли): с поношенным, стертым лицом, с подведенными густо ресницами, в черном берете, с кровавым цветком в декольте (волосатом и плоском), в атласном, затянутом платье; безбедрая и сухоногая тварь, показалась мне бегающей сколопендрой; костлявую руку забросив за спину, привздернула юбку почти до колен, обнаруживая кружевные дессу, изможденные икры в чулочках; обмакивалась черным веером; кончиком веера передавала кому-то бэзе, приглашая плясать мускулистого, желтоволосого, бледного юношу.
– «Кто это?»
– «Это – приказчик из „Лувра“».
– «Как?»
– «Днями стоит за прилавком, а вечером – здесь; он действительно воображает, что он „Отеро“, – Минский, тряся брюшком, добродушно нырял, как рыба в воде. – Ну, а тот, кто танцует с „ней“, – имеет романы с одними солдатами; видите – там: этот бледный и нервный мужчина – поляк, – очень тонкий и умный».
Сидел, прижимаясь к шестнадцатилетнему мальчику, взяв его руки и пальцы терзая ему.
Здесь воняло ужасно (по Минскому, – великолепно).
– «Ведите нас дальше», – капризила Гиппиус. Снова нырнувши в кривые ульчонки, вдруг вынырнули в небольшое пустое «локаль» (вроде бара); сидела ученого вида, весьма некрасивая, просто одетая дама: в очках; и тянула вино из соломинки; Минского же лихорадило:
– «Здесь – претаинственно; это – приют лесбианок; но это не все: что еще? Не пойму: здесь боятся случайных, как мы; здесь прилично: для вида; смотрите-ка: дама пришла на охоту за девочкой».
Может, – он выдумал? Дама – солидного вида, одетая скромно; должно быть, «ученая»; волосы – стриженые; блески строгих очков; этот Минский готов был сидеть, и высматривая и вынюхивая; очень скучно; и мы его – вывлекли; с блеском в глазах, с лихорадочными гоготочками он провожал нас до фиакра; действительно, – страшен Париж; мне д'Альгеймы рассказывали, что здесь есть учрежденья, один вид которых – кошмар; вы входите: парты; за партами – дряхлые капиталисты, седые сенаторы, даже министры в отставке: сидят с букварями и воображают, что учатся; а отвратительная старушонка в чепце, в бородавках, блистая очками, стоит с пучком розог над ними; и спрашивает задаваемый ею урок; кто собьется, того она розгой по пальцам; сенатор визжит поросенком; и это есть вид наслажденья, – для паралитиков, что ли? Я, вспомнивши это, взглянул на «отца» декадентов, пытаясь представить его в этой школе; начнешь с изученья разврата, а кончишь-то – партой; взвизжишь поросенком, когда защемит тебе ухо ногтями: «старуха» очкастая!
Брр!
Минский, нас усадивши на фьякр, канул в грязной ульчонке: во мрак; повстречался со мной председателем «Дома искусства» в Берлине – лет через шестнадцать;125 серебряный, розовый, помолодевший, с округлыми, плавными жестами, он – говорил, говорил, говорил: без конца – так мудрено, так долго, так многосторонне, так добропорядочно!
Только – весьма отвлеченно, весьма отвлеченно!
Обратно совсем: Александр Николаевич Бенуа – в кратких, памятных встречах в Париже провеял мне легким, весенним теплом; от ученого, с виду холодного, вылощенного историка живописи я не ждал ничего; получил – очень много; сперва я художника в нем не почувствовал, – а дипломата ответственной партии «Мира искусства», ведущей большое культурное дело и жертвующей ради целого – многим; А. Н. Бенуа был в ней главным политиком; Дягилев был импресарио, антрепренер, режиссер; Бенуа ж давал, так сказать, постановочный текст; от его элегантных статей таки прямо зависел стиль выставок Дягилева, стиль декораций балетов, стиль хореографии; в целом держась нужной линии, часто был вынужден переоценивать, недооценивать: тактики ради; я помню, что в «Мире искусства» хвалили труд Мутера:126 после – ругали, Греффе [Мутер и Мейер-Греффе – историки и теоретики живописи] выдвигая127, но знали, что Мутер – алфавит; а Мейер-Греффе – лишь склады; чтоб прочесть живописную грамоту, надо обоих знать; и их отвергнуть; хвала, как и ругань, здесь – тактика лишь.
Александр Бенуа незаслуженно некогда снизил значение Врубеля; после же – каялся128.
Вылощенный, как натертый паркет, элегантно скользящий, немного сутулый, в пенсне, в сюртуке, – Александр Николаевич черной опрятно остриженною бородою и лысиной блещущей несся, глядя исподлобья глазами лучистыми, производя впечатленье красивого и темпераментного человека; не знал: мозг иль сердце диктуют ему плодотворную деятельность.
– «Субъективный капризник, – ворчали маститые. – Вся эрудиция – бьющий крылами в пыли воробей! „Пррх-пррх – Врубель“; „пррх-пррх – Луи-Каторз“;129 „пррх – ампир“».
– «Головной резонер, проповедующий мертвечину, – ворчали непризнанные, – его сдать бы в никчемные „Старые годы“: [Специальный журнал, посвященный истории культуры, искусств и коллекций130] старик молодящийся!»
Выглядел он моложаво, изящно мелькая своим силуэтом, похожим на черную сепию, – всюду: на выставках, лекциях и на премьерах балета; мелькнет и зацепится: мягко сутулясь широкой спиной; с кем-нибудь разговаривает с близоруким, чуть-чуть церемонным расклоном на вытянутой перед собою ноге; и естественным, легким движеньем скругленной руки, давши острую характеристику виденного, проскользнувши, исчезнет; с французским изяществом сжато бросал он итоги раздумий своих – парадоксами.
– «Это гурманство», – ворчали одни.
– «Мозгология», – негодовали другие.
И он не казался способным к сердечности: вежливым, мягким, салонным, придворным.
– «Не сердце, а такт».
Встречи с ним – встречи замкнутых сфер в одной точке; моя сфера: литература, «Весы», но и Гегель, и Кант, и методика естествознанья, и гнозис религий; а сфера его – становленье новейших течений искусства в конце позапрошлого века; глядел от «сегодня» – в «назад». Точка пересечения нашего – точка культуры; но в этой единственной точке ценил Бенуа я единственно; это – не Грабарь, чиновник культуры, в себе разложивший полет: ироническим скепсисом.
От Бенуа всегда веяло сочностью; даже его субъективность казалась мне легкой разведкой: пред выводом; он был со мною внимателен, мягок, даря свою ласковость легким броском из богатства – в редакциях или в передних, где с ним мы встречались не раз; я, бывало, – вхожу; он – навстречу сутуло выносится чисто промытою лысиной, ленту пенсне развивая; и плещутся кончики фалд длиннополого, скроенного хорошо сюртука; руку – под руку: снимет пенсне и его на шнурочек наматывает, ко мне вытянув сочные губы; прищуро рисует любезную фразу; и, руку пожавши, с расклоном скругленным, широкой спиной умелькнет.
Наши встречи – прохожие; только у Щукина, кажется, носом под нос мне подъехав и пуговицу сюртука ущипнув двумя пальцами, тихо повел он от общей беседы меня в уголок теневой, где, меня усадивши на мягкое кресло, сел, сгорбись, на маленьком пуфике; щурясь и мягко касаясь рукою коленей моих, выговаривать стал неожиданно очень интимные вещи о том, как он видит предметы; и, снявши пенсне, протирал его; веяло теплым уютом от этого боевого, салонного, чернобородого мужа; исчез «дипломат»: никаких «мирискусничеств»! В милой улыбке – доверчивость; в ясных глазах, устремленных в пространство, – мечтательность нежная: он говорил – как с собой; может быть, он мне верил, любя мою первую книгу; он мне приоткрылся в тот вечер; он точно повел меня под абажурик пунцовенький, свет свой бросающий в темно-лиловые тени; с тех пор силуэт Бенуа неизменно мне виделся с примесью темно-лиловых и темно-малиновых колеров; эти цвета представлялись мне в виде малюсеньких куколок, спрятанных под сюртуком дипломата; я понял: любезная мягкость – от сердца; а вылощенные парадоксы – броня.
Бенуа-публицист осветился впервые.
С ним вместе бродили по улицам в день карнавала, – в толпе котелков, дымовеющих перьев и в лёте бумажек – лиловых, зеленых, малиновых зернышек; их продавали повсюду; прохожие, их накупив, осыпали горстями нас; сели за столик открытой веранды кафе: на одном из бульваров, и пиво спросили себе; но дождями бумажек запырскали нас; Бенуа отряхал с котелочка малиновые и лиловые пятнышки; он с озорством совал руку в мешочки свои; как мальчишка, вскочив, высыпал на прохожих веселые пестри; рукой опираясь в перила, сутулой спиною повесился; прыгали отблеском стекла пенсне, и мотался шнурок; расплатясь, мы слились с карнавальной толпой; в нас метали дождем перекрестным мушинок; он, взяв меня под руку, локтем толкая, широкой спиной навалясь, – вел к себе; и скругленной рукой разрисовывал в воздухе мненье; позвал отобедать; привел в небольшую квартирку, представил жене, еще маленькой дочке;131 и после обеда уютно сидел со стаканом бордо; говорил об игрушках и книжках с картинками.
Я погашаю экран, потому что нерв жизни моей в это время – не встреча с людьми, а анализ себя и стремление высвободить свое «я» из-под штампа, наложенного на меня обстоянием; жалоба «Бореньки»: деятель «Белый» есть шут обстоятельств; я знал: покажи себя «Боренька» подлинным, – Минские, – даже друзья, даже – Метнер и Эллис, – отвергнут его; круговая порука обстанья, вработав в себя, точно замуровала.
Такое сознание – тоже болезнь, как и жизнь в кривых жестах; одною болезнью я силился уравновесить другую; а третья – подкрадывалась.
Я мог бы рассказать, как читал свою лекцию [ «Социал-демократия и религия»; лекция была повторена в Москве и раскритикована Булгаковым, Бердяевым; напечатана в журнале «Перевал» за 1907 год; писалась для сборника Мережковского «Le tzar et la revolution»132] в русской колонии, как разнесли социал-демократы, как критиковал Мережковский; Жорес был единственный просвет; все прочее – сумрак.
– «Ну там – завели б отношенья с французами… – Гиппиус мне. – Есть же здесь ряд поэтов».
Однажды в кафе пригласила она, где сидел символист Папандопуло, иль «Мореас» [Мореас – французский поэт, родом грек] (псевдоним);133 отказался; она же ходила; рассказывала: Папандопуло в плясы пустился; с Рашйльд, утонченнейшим критиком «Меркюр де Франс» [Журнал], познакомилась Гиппиус;134 а Мережковский был принят в салоне у Франса; я раз пошел слушать Буайе: [Профессор русского языка] лет семнадцать назад Поль Буайе жил два года в Москве, изучая язык и бывая – у нас, Стороженок, у многих ученых; я знал его очень любезным, поджарым, веселым брюнетом; увидел седым, но таким же, как был, легкомысленным; он произнес удивительно общую, нехарактерную речь, наделив Мережковского роем эпитетов от «гениальный» до «всем нам известный»; пятнадцать студентов записывало; Мережковский для них минут двадцать читал, демонстрируя русское литературное слово; и мы окружили профессора; чуть не сказал ему: «Месье Буайе, вы, конечно, не помните мальчика Борю, к которому вашего Жоржа водили играть». И, одернув себя, ускользнул, убоясь, что представят и в качестве «Белого» продемонстрируют, даже заставят стихи прочитать.
Раз пришло приглашение мне от писателей группы «Фалянж» [Орган неосимволистов135] на обед, ежемесячный; был; никого из знакомых! Никто не представился мне; в свою очередь: я никому не представился; кто-то, сев рядом, показывал:
– «Вот – Шарль Морис».
И я видел: брюнет с мефистофельским профилем крутит бородку, докладывая о судьбе неизвестного мне альманаха:
– «Поэт де Суза, – гениальный!»
Я видел шатена курносого: ел, как и я.
– «Зулоага – знаменитый испанский художник».
И видел: кофейного цвета кусок пиджака, загорелую шею; и – черное что-то: наверное, – волосы.
Были Поль Фор (поэт, брат Себастьяна), и, кажется, был сам Танкред де Визан, обещающий мастером сделаться; густо висела зеленая скука; и то, о чем спорили, мне, москвичу, показалось азами «Весов»; Жан Гурмон, Рене Гиль обо всем написали: реторика бледная! Избранные в «Симплициссимусе», – те хотя бы резвились; а здесь – неестественно пыжились; Брюсов, конечно же, преувеличил: мы расходились в оценке французов-мо-дерн;136 символизм невозможен, как узкая школочка.
Это я стал проповедовать скоро [См. ряд моих заметок в отделе «На перевале» («Весы», 1907–1909 гг.).].
Опять улизнул; и, случайно попавши в «кино», слушал вальсы плаксивые; видел с экрана, как пес человека спасал.
Человека, пожалуй, спасут на экране и люди:
– «Меня бы спасли?»
Но для этого надо попасть на экран? Точно смертные когти вонзились: ущипом; весьма неприятные боли!






