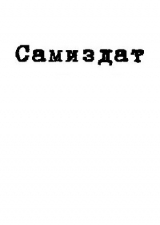
Текст книги "Случайные имена (СИ)"
Автор книги: Андрей Матвеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
И последняя фраза не есть лишь попытка эстетически–точно закруглить предыдущую главу. Декорации необходимы не столько самому повествователю, сколько тому, о чем он повествует. Что же касается лета, то выдалось оно в тот год невнятным, прогорклым, с долгими и мающими душу дождями, с неприятным ознобом, место которому в сентябре, но не в июле, а ведь именно в июле (опять случайность или же новый знак?) Сюзанна и предложила мне разъехаться на время, в июле же, но неделей позже, я оказался в уже упомянутом доме отдыха, только было это довольно далеко от дома – в том месте, что в России называют обычно «центральной полосой».
Путевка у меня была на две недели, верстку я прочитал в первые же три дня, оставалось еще одиннадцать, но прежде, чем перейти к изложению последующих событий, я должен набросать хотя бы приблизительный план местности, сделать эскиз, и отнюдь не твердой рукой.
Что касается самого дома отдыха, то находился он в здании старого барского особняка, долгие годы стоявшего запущенным, но несколько лет назад восстановленного и пусть и переменившего свою внутреннюю сущность, но все равно оставшегося старым барским особняком, с большим пролетом центральной лестницы, с широким холлом на первом этаже и гулкой залой – на втором, с анфиладой комнат, стараниями строителей превращенных в маленькие и не очень уютные палаты, на третьем же этаже, где когда–то были подсобные помещения (то бишь комнаты прислуги), сейчас находилась администрация и была комната отдыха, в которую я, впрочем, не захаживал.
То есть типичный, немного унылый бывший барский особняк, о котором и говорить бы не стоило, если бы не парк, в самом начале которого и стояло здание.
(Повторим: это не произвольно воздвигаемые декорации. Я давно понял, что по странной воле судьбы любая история происходит только в ей присущем окружении, а значит, сюжет того же «Градуса желания» мог возникнуть не где–нибудь, а в Крыму, как «Император и его мандарин» – порождение бестолковых городских улиц и узких переулков с черными дырами подворотен. Вот и эта, нынешняя история, как бы изначально накладывается на изображение парка, причем нескольких, к описанию одного из которых я сейчас и перейду.)
Впервые в парк я пошел утром третьего дня, сразу после завтрака (меню приводить не стоит), день выдался солнечным (в этих местах лето не было невнятным), но пора вновь пережить момент первого со–прикосновения, а значит, приступить к следующему абзацу.
Я долго иду по аллее, окруженной высокими дубами и липами, хотя аллеей назвать это сложно – когда–то аллея, ныне просто пригодное для ходьбы место. Что же касается временного определения «долго», то это значит сто пятьдесят–двести шагов, потом открывается большая поляна, от которой веером расходятся то ли тропинки, то ли дорожки, ровно шесть, как я насчитал впоследствии. Каждый день я взял себе за правило проходить до конца одну, но сделать это было непросто, ибо собственно конца у такой вот тропинки/дорожки нет, внезапно ты оказываешься в лесу, а лес, как известно, в самой своей сути бесконечен. Но и не только в этом дело, через пару дней мне стало казаться, что со времен прежних владельцев я оказался первым, кто взял на себя благородную миссию исследователя, ведь не может быть, думал я, чтобы еще кто–нибудь отыскал все эти потаенные места, наполненные по прихоти давно отошедших из этого мира самыми странными – чем, вещами? Да нет, какие это вещи, скорее уж просто материализовавшиеся картинки прошлого, нечто, сошедшее с пожелтевших от времени листов старинных гравюр, вот то ли тропинка, то ли дорожка делает замысловатую петлю, и ты оказываешься возле развалин оранжереи, прямо у входа в которую высятся все еще действующие (что, если вдуматься, не странно) солнечные часы, на гранитном постаменте которых еле заметны остатки латинской надписи. Вот другая тропинка/дорожка выводит тебя к маленькому прудику, на котором – будто в тумане – чуть проявлен маленький насыпной островок, с развалинами беседки, которой некогда (то есть очень давно) чьи–то руки постарались придать форму античной вазы, но сейчас можно лишь догадываться, как выглядела эта беседка тогда, когда была еще новой и сплошь увитой плющом. Вот следующий изгиб следующей тропы, и ты минуешь мраморное надгробие со скульптурным изображением широколапого приземистого пса с бессмысленно зияющими пустыми глазницами, из которых – если реконструировать замысел создателя – давным–давно били две тоненькие родниковые струйки, только пересох родник, да и мрамор потерял свою белизну. Вот… Но хватит, надо остановиться, сколько можно пытаться поймать время за хвост там, где времени не существует, как не существует, скорее всего, и самого места, ибо что это, как ни греза, внезапно посетившая меня, странная, подернутая точно такой же, как и островок, пеленой тумана, иллюзия, мираж, тысячами километров отделенный от ближайшей пустыни?
Но об одной достопримечательности этого загадочного (самое, между прочим, подходящее слово) парка я еще не сказал: статуи. И дело не в том, что они были изысканно–особенными, нет, обыкновенные мраморные копии (битые, изломанные, изувеченные) хорошо известных античных изваяний, а то и просто неудачные вариации на древние темы. Суть была в их расположении, непонятно по какой причине, но все они были собраны в одно место, хотя по логике любого паркового архитектора их надо расставлять по ходу, чтобы они акцентировали красоту пейзажа, то появляясь, то вновь исчезая в складках земли и деревьев. Здесь же все было не так, между третьей и четвертой тропинками/дорожками образовывался как бы загон (скромный перелесок все из тех же дубков), в котором хаотично стояло около десятка скульптур. Впервые я увидел их вечером, в предзакатный августовский час (да, июль сменился августом, что, если подумать, справедливо), картинно–красный, безветренный августовский час. Даже живности не слышно, молчание парка, помноженное на молчаливую недосказанность неба и заходящего солнца. Тут–то я и увидел эту группу статуй и внезапно застыл, будто сам превратился в битое временем мраморное изваяние, и застыл (надо признаться) не от изумления или восторга, а от неожиданности и страха, ибо показалось мне, что это не что иное, как преддверие входа в ад. Но шок прошел, я подошел ближе и с удовольствием стал разглядывать эти ломаные, битые, изувеченные порождения чьего–то давнего резца. Больше всего мне понравилась двойная скульптура нимфы и сатира, сатир, как то и положено, был мускулистым и некрасивым, его руки плотоядно тянулись к изящным плечам и шее нимфы (у козлоногого не хватало ноги, что до нимфы, то либо время, либо злой умысел лишили ее грудей, сделав гермафродитом, только без мужской оснастки между ног). Самым же замечательным в этой скульптурной группе были не изваяния, а притяжение, которое существовало между ними, будто скульптору удалось ухватить главное, что возникает порою между людьми, – взаимную тягу энергий.
Увиденное настолько поразило меня, что следующим же утром я вновь решил побывать в том месте, но обнаружил, что столь понравившаяся мне вчера парочка опрокинута на землю и разбита на мелкие кусочки – кто мог это сделать, зачем? Тогда я еще даже не представлял себе, что силы, окружающие нас, ведут свою, лишь им подвластную игру и что суть этой игры никогда не станет известна нам, смертным, любопытство, приведшее меня минувшим вечером в заповедное (а никаким другим оно быть не могло) место, нарушило его покой, приоткрыло покров неведомой тайны, а как следствие – наказание и предостережение, вот только при чем здесь бедные мраморные изваяния, думал я, стоя у груды осколков и вновь пытаясь вызвать в памяти то напряжение, что повисло между протянутыми руками сатира и телом убегающей нимфы.
Два раза я посетил это место и больше решил этого не делать, ибо до меня внезапно дошло, что если я приду в третий раз, то еще одна из скульптур (к примеру, тот маленький фавн, наигрывающий на свирели) будет валяться на поросшей мелким кустарником земле, а дубки, печально шевеля кронами, еще теснее придвинутся к статуям, как бы стремясь побыстрее сжить их с поверхности земли.
Что же касается второго, еще более неправдоподобного случая (повторю, никакую цельную картину я не мог тогда даже представить), то он произошел в тот же вечер, то есть утром я нашел развалины еще вчера существовавшей наяву скульптурной группы, а вечером, сидя у себя в комнате и лениво листая толстую книгу, взятую в местной библиотеке (что–то о семантике английских парков ХVIII века, самым странным было наличие этой книги между потрепанными томиками Сименона и Семенова), наткнулся вдруг на гравюру, изображавшую точно такую же скульптурную группу – сатир, пытающийся поймать убегающую нимфу. Из пояснительной надписи, набранной петитом внизу страницы, я узнал, что это типичная малая скульптурная группа для так называемых парков в стиле позднего романтизма, авторство ее неизвестно, а сам сюжет настолько расхожий, что впоследствии его делали все, кому не лень. Но не это было интересным, а то, что шло под звездочкой, обозначающей сноску и набранной уже не петитом, а бриллиантом, и гласящую, что именно с этой скульптурной группой связана одна легенда, далее сноска рассказывала то, что я узнал без посторонней помощи – история повторяется, и сатир, по всей видимости, никогда не догонит нимфу, ибо бег их всегда заканчивается грудой мраморных осколков на усыпанной дубовыми листьями земле!
Я медленно закрыл книгу, отложил в сторону и подошел к окну. Парк чернел в темноте ночи, был сильный ветер, но шума деревьев не слышалось. Не могу сказать, что мне стало страшно или что вдруг на секунду показалось, будто я схожу с ума. Нет, я был опустошен, я стоял и смотрел в безжизненную черноту ночи, в которой непонятным образом вдруг забрезжил просвет, но лучше бы его не было. Впрочем, это не что иное, как метафорическое изображение моего тогдашнего состояния.
Но и это еще было не последним звеном в цепи странных случайностей того двухнедельного промежутка времени. Уже перед самым отъездом из дома отдыха мне захотелось еще раз взглянуть на книгу, но библиотекарь поведала мне, что она пропала, и даже посмотрела на меня неприятно–пристальным взглядом, будто спрашивая: а не ты ли, голубчик, прикарманил ее, ведь кому, кроме тебя, была она здесь нужна?
– Что вы, что вы, – пробормотал я, выскальзывая из библиотеки, и отправился укладывать чемодан.
Всего лишь три странных события, связанных воедино присутствием одного и того же действующего лица. Что это было? Я неоднократно упоминал о Парках, в чьих руках находятся нити судеб, – неужели это они сплели паутину таким образом, чтобы в один прекрасный момент раскинуть передо мною сеть, лишив полного представления о сути происходящего?
В день же, когда я покидал то зачарованное (применим новое прилагательное) место, начался дождь, что сразу же перенесло меня домой, в невнятицу и сумрачность того пейзажа, в котором чуть больше двух недель назад я оставил Сюзанну.
(Тут можно закончить преамбулу. Ведь дальнейшее больше относится к «сейчас», а не к «тогда», ведь мы с Сюзанной так и не разошлись, и еще несколько лет наше сосуществование было примерно на том же уровне, что и в прошлой главе. Но перед тем, как вновь обратиться к той ночи, когда Сюзанна предложила мне пари, а – как я начинаю понимать – собственно та ночь, а не роковой звонок двадцатого июля, и стала непосредственным началом всех последующих событий, я хотел бы рассказать еще кое о чем, относящемся уже не к таким отвлеченным вещам, как таинственные парки и внезапно разбивающиеся скульптуры.)
Сразу по возвращении – да, на удивление, я даже испытывал что–то наподобие тоски по жене, и с радостью позвонил в дверь… Сюзанна открыла и молча чмокнула меня в щеку, из чего я понял, что попал в период молчания. Такая последовательность в поведении внезапно стала мне нравиться, я смотрел, как Сюзанна молча накрывает на стол, как так же молча сидит напротив, пока я ем с дороги, как молча позволяет обнять себя, видимо, решив хоть в чем–то нарушить епитимью после двух недель разлуки, но тут я был не прав – дальше объятий дело не пошло. А значит, все вернулось на круги своя, но вот тут–то я был не прав, ибо мерцала вдалеке таинственная точка, постепенно превращающаяся в мраморные осколки, хотя сейчас мне трудно сказать, было ли это наяву. Когда же очередной цикл молчания закончился (произошло это через три дня), я сразу же поведал Сюзанне историю, приключившуюся со мной в доме отдыха, она отнеслась к ней намного серьезней, чем я мог представить, и, подумав, сообщила, что не видит в этом ничего хорошего.
– Но почему? – изумился я, впрочем, лишь для того, чтобы хоть что–то сказать.
– А потому, – ответила она, – что это просто указание на то, что ты выбрал не тот путь.
– Ну знаешь, – возмутился я, – что это значит, «выбрал», да и как это – «не тот»?
Тут Сюзанна пустилась в длинные и бестолковые объяснения, из которых я понял, что жена моя еще больше укрепилась в понятии греховности и необходимости искупления грехов, чем в тот момент, когда у нее все это началось. Не «тот путь», по ее словам, был не чем иным, как попыткой свержения Бога, хотя – к Господу же и апеллирую – ничем подобным я никогда не грешил (греховности, грехов, грешил, что поделать, если выстраивается именно такой лексический ряд). Пусть даже слово «свержение» слишком многому обязывает, но оно, по ее мнению, самое точное, ведь в нем изначально содержится определение того, чем я занимаюсь.
– Чем же? – поинтересовался я, и тут она вывалила на меня кучу всякой занимательной ерунды, главным в которой было то, что именно мое писательство и заставляет идти по этому ложному пути.
– Смешно, – констатировал я, почтительно дослушав до конца вышеупомянутый бред.
– Нет, – парировала она, обосновав это тем, что нельзя самому бросать вызов Богу и творить несуществующие миры.
– Бред! – повторил я.
– Ты не прав, – сказала Сюзанна и заплакала.
Я был изумлен, я почувствовал, насколько далеки стали мы с ней друг от друга, гораздо дальше, чем в тот первый, пресловутый сентябрьский вечер, когда я еще не мог и представить, насколько дурной метафизикой обернутся невымышленные приключения собственного письма, но что поделать, если именно такой вот дурной метафизикой отдавали, на мой взгляд, безумные размышления Сюзанны о гибельности того пути, на который я вступил, и о том, что судьба подала мне знак (вот и она впервые употребила это понятие), сломав – почти на моих глазах – статуи сатира и нимфы, о чем я и поведал ей с такой страстью.
Бред, какой же все это бред, говорил я Сюзанне, но она то плакала, то смеялась, а потом заявила, что не исключает и той возможности, что наша с ней жизнь есть не что иное, как параллельное исследование двух путей, из тьмы к свету и от света во тьму. Последнее, естественно, относилось ко мне, и тогда–то я впервые и поинтересовался, не увидит ли она ничего странного в том, что я когда–нибудь продам душу дьяволу?
– О нет, – ответила она, вытерев слезы, – странного в этом я ничего не увижу, но пока об этом рано говорить.
– Когда же? – поинтересовался я.
– Через несколько лет.
И вот эти несколько лет прошли, и в ту ночь, когда телефонный провод принес мне известие о том, что за роман «Градус желания» (можно не продолжать, все и так известно)… и Сюзанна спросила меня, что я буду делать, если не получу Хугера, то я ответил теми словами, которые она когда–то уже спровоцировала во мне.
– Серьезно? – спросила Сюзанна (развернем уже прозвучавшую тему).
– Серьезно.
– Хочешь пари?
– А какое?
– Если ты этого не сделаешь, то бросишь писать.
– А если сделаю?
– Если сделаешь, то я пойду за тобой, куда бы это ни привело.
– А ты не боишься?
Сюзанна улыбнулась:
– Хочешь залог?
– Какой? – спросил я.
– Узнаешь. Потерпи до утра.
6Мы молчали до конца завтрака, а потом я не выдержал и спросил ее:
– Интересно, что ты придумала на этот раз?
– Ничего особенного. Я просто хочу сама помочь тебе завести параллельный роман.
– Но зачем тебе это надо, да и потом – почему ты сама хочешь выбрать мне объект?
– Подходящее словечко – объект, – заметила Сюзанна.
– Ты не ответила на вопрос…
– А я и не собираясь отвечать, я просто предлагаю тебе пари, а так как я абсолютно уверена в выигрыше, то предлагаю и залог, ведь он все равно мало что значит в сравнении с выигрышем.
– Дурь собачья, – сказал я, – ты хоть меня спроси, нужен ли он мне?
– А это не играет никакой роли. Просто мне хочется, чтобы залог был именно таким, но с одним условием – я сама хочу помочь тебе сделать это.
– Что – это? – не унимался я.
– Завести роман.
На этой фразе наш диалог замкнулся, и я понял, что мне не то что не переубедить Сюзанну, мне даже не стоит пытаться это сделать, ведь если уж что она вбила в голову, то будет стоять до конца, впрочем, при всей лестности предложения мне совсем не хотелось его принимать, ведь я знал и подоплеку такого поворота событий: это означало бы еще большее погружение Сюзанны в невнятный мир ее переживаний и того, что она называла словом «искупление».
Можно, конечно, просто взять да посмеяться над всем этим и предложить ей не маяться дурью, а жить со мной и впредь так, как живут все нормальные пары, но я хорошо знал, что мы давно уже не были нормальной парой, да и потом: сам смысл пари! Расскажи кому–нибудь о том, ради чего оно заключено, то любой скажет, что мы безумны. Но ведь я не отвергаю ни само пари, ни то, чем оно может стать для меня.
Так не стоит ли тогда принять и залог (или непременное условие, такая формулировка тоже возможна). Принять хотя бы ради того, чтобы попытаться выяснить, чем закончится этот странный сюжет, столь внезапно возникший в моей жизни и оказавшийся более изысканным и напряженным, чем сюжеты моих собственных, вот только не пережитых, а написанных романов?
(Тут вновь стоит вернуться к «Градусу желания» и пересказать одну из сцен, хотя бы ту, где главная героиня, уже упоминавшаяся К., долго идет по ночной Венеции, думая лишь об одном – где ей взять револьвер, чтобы убить – естественно – героя, но заниматься пересказом я не буду.)
И даже то, что Сюзанна сама решила подобрать мне «объект» (закавычим это дурное определение), вполне поддается объяснению: таким образом и она включается в интригу, а значит, несет за нее ответственность, то есть является и участницей, и создателем одновременно. Непонятно лишь то, каким образом она собирается создать романное пространство, и не в том дело, что у нее нет подруг – нет близких, но хорошие знакомые есть, вот только знакомые эти (чего Сюзанна не может не понимать) не способны заинтересовать меня в предложенном качестве, а значит, завязка романа малореальна. Но оказалось, что я ошибался, ведь все было предрешено.
Через несколько дней (опять же – было утро, и мы только что уселись завтракать) Сюзанна объявила мне, что у нее есть небольшой сюрприз.
– Какой же? – поинтересовался я.
– Я предлагаю тебе поехать на недельку в лес.
– А почему не к морю?
– Ну, море – это слишком серьезно…
– Это что? – въедливо спросил я. – Первый акт новой драмы?
– Если бы драмы, – засмеялась Сюзанна, – но, в общем, считай, что так.
– Поехали, – кивнул я, – а кто там нас будет ждать?
– Увидишь, – вновь засмеялась Сюзанна, и я согласился с тем, что – скорее всего – действительно увижу.
(Перечитав написанное, я пришел к выводу, что главное обвинение, которое могу услышать, будет касаться психологической недостоверности происходящего. Попытаюсь возразить. Собственно психологическая достоверность не является той панацеей, что делает изображаемое жизнеподобным. Да и вообще – что есть жизнеподобность и так ли она необходима? Тут можно прибегнуть к одному трюизму, гласящему, что жизнь намного богаче любого выдуманного сюжета. Но ведь мой последний сюжет как раз невыдуман, что же касается достоверности поступков жены, то чего в них странного? Я уже говорил, что Сюзанна – женщина необычная, и наша с ней жизнь никогда – с самого, между прочим, первого любовного объятия – не проходила по банальному сценарию. Отсюда я и делаю вывод, что предложение ее – как это ни смешно – психологически обоснованно и реально, а все остальное (хотя бы та цепь размышлений, которая привела ее к этому предложению) меня не интересует, ведь собственно интерес могут представлять лишь сама интрига, само действо, то есть то, что случается и еще должно случиться (произойти, если кому–то хочется большей глагольной определенности), а не подоплека, так что лучше сразу же перейти к дальнейшему изложению событий.)
Теперь раскроем понятие «поехать на недельку в лес». Это значило, что Сюзанна приобрела путевки в знаменитый местный лесной оазис, известный под названием «Приют охотников», хотя отчего именно такое название было дано этому райскому месту – кто знает. Мой приятель–филолог, обожающий заниматься выискиванием всяческих скрытых значений, даже попытался вывести генезис сего словосочетания из одного известнейшего англо–русского романа, но мне–то кажется, что это просто случайность, за которой – как водится – ничего не стоит, и не надо искать отражений там, где их нет. Добавить следует еще то, что попасть в этот (повторим) оазис было не просто, ведь места эти славились не только красотой (о чем ниже), но и целебностью хвойного (а еще горного, так что считайте это более точным указанием месторасположения «Приюта…») воздуха и неописуемой прелестью (о чем тоже ниже) озера, на берегу которого и располагался «Приют…». Мне давно уже хотелось побывать там, и вот – благодаря совсем уж странному повороту событий – это удалось.
Переходим к описанию места, мне не доводилось бывать в Швейцарии, но если верить плохо отпечатанной рекламной брошюрке, которую Сюзанне всучили вместе с путевками, то разницы между каким–нибудь горным кантоном и поросшими соснами, елями и лиственницами склонами в небольшой долине, между которыми располагался «Приют…» (чтобы не раздражать моего приятеля–филолога, я посчитал нужным именно так писать это название) не было, ибо (как гласил путеводитель) «…сходство знаменитейших горных курортов Швейцарии и нашего скромного пансионата может привести в трепет истинного ценителя и знатока красоты подобных ландшафтов». Тут надо отметить принципиальную бездарность автора рекламного текста, но я этого делать не буду, хотя вполне возможно, что сходство между склонами швейцарских Альп и подобными же склонами (горы – они всегда горы) нашего неприметного и древнего по времени возникновения хребта все же имелось, но – повторю – в Швейцарии я не был, а посему оставим эту тему.
Но как оставим, так и продолжим. Сам пансионат представлял из себя (что поделать, если описания как домов отдыха – см. предыдущую главу, так и пансионатов – см. эту, схожи изначально, то есть всегда начинаются (невольно, то есть вынужденно) с этого самого «представлял») уменьшенное подобие маленького средневекового (кому интересна более точная характеристика, то позднесредневекового, то есть уже стилизованного, уже «как бы», то есть соединение витиеватости ложного – и позднего! – барокко с замшелой непосредственностью не менее ложного раннего романтизма) охотничьего замка, построенного в форме прямоугольника, с четырьмя ажурными башенками по краям и большой башней во внутреннем дворике, соединенной с уже упомянутым прямоугольником крытыми галереями, которых было – соответственно – тоже четыре. Этажей же наличествовало три, имелась и куча всяческих подсобных помещений, включая ресторан, каминный зал, бильярдную, кинозал, бар и бассейн с сауной (сауну с бассейном). Горы начинались сразу за зданием, то есть сам псевдозамок как бы упирался в склон, что же касается фасада, то он выходил прямо к озеру, занимавшему собой почти всю долину. Вокруг озера шла тропа, переходящая в узкую дорогу, которая и была единственным, как это принято говорить в таких случаях, мостиком, соединяющим пансионат с внешним миром (что можно было бы чудесно обыграть, если бы события развивались зимой, тогда придуманный снегопад враз бы отъединил всех гостей псевдозамка от внешнего мира, что и дало бы возможность разыграться настоящей драме, вот только мы с Сюзанной оказались в пансионате летом, а – следовательно – ни о каком снегопаде не может быть и речи). Озеро называлось Глубоким, хотя я бы назвал его Черным или Безымянным, ибо цвет воды его был черным, а в слове «безымянность» можно уловить странную связь с наименованием самого пансионата, к примеру: пишите по адресу – озеро Безымянное, горный (он же лесной) пансионат «Приют охотников», письма доставляются исключительно голубиной почтой (отыщи тут хотя бы одного голубя, смеясь выговаривает мне Сюзанна).
Приехали мы утром, и когда маленький автобус, посланный к поезду, вывернул из–за последнего поворота и въехал на заасфальтированную площадку, от которой и начиналась тропа (до пансионата идти еще минут двадцать пешком, неся вещи с собой, – что поделать, условности ландшафта), то у меня буквально перехватило сердце, ибо то, что я увидел (еще можно сказать так – то, что открылось перед глазами), было действительно прекрасно: и ласковое августовское солнце, еще только– только окрасившее черную воду озера своими спокойными лучами, и нахохлившиеся, не успевшие отойти со сна горные склоны, мрачно–зеленые от всех этих сосен, елей и лиственниц, кое–где перемежаемых большими серыми проплешинами замшево–грубых гранитных валунов, и четко различимое на другой стороне озера (сейчас мы были как раз напротив) здание «Приюта…» с четырьмя ажурными башенками по углам и одной большой внутри темно–кирпичного прямоугольника, который и был той точкой, куда нам еще предстояло добраться, подхватив свои шмотки, уложенные в небольшой кожаный чемодан и серьезно–вместительную кожаную сумку, а для этого следовало… Но мы выбираем иной путь и добираемся до ворот пансионата за каких–то восемь–десять минут на быстроходном белом катере, вмещающем, за исключением моториста, шесть человек.
(Как потом оказалось, катер высылался только к утреннему и вечернему поездам, в дневное же время он стоял на приколе, то ли в целях экономии горючего, то ли для сохранения тишины, впрочем, это не играет никакой роли, ибо не стоит думать, что уже на катере Сюзанна представила меня тому «объекту», ради встречи с которым и привезла мою скромную – это не кокетство, а всего лишь дежурное прилагательное – персону в уже неоднократно упомянутый пансионат, что же касается собственно «объекта»…)
Что же касается собственно «объекта», то – как оказалось впоследствии – ничего (никого) конкретного у Сюзанны не было (и слава Богу, а то я уже начал считать, что встречусь в этом райском уголке с одной из блекло–задумчивых Сюзанниных подруг, что, впрочем, ставило под сомнение всю интригу), просто ей показалось, что именно это место подойдет для исполнения плана, а значит, надо лишь приехать сюда – и все, остальное приложится, надо только подождать, хотя ждать – честно говоря – можно очень долго, ибо контингент (континент, абстинент, отчего–то шухерно промелькнувший «мент») отдыхающих был не из тех, что могли воздействовать на мое тоскующее (по мнению Сюзанны) либидо: главным образом, пожилые и респектабельные семейные парочки, затесавшаяся между ними стайка оголтелых туристов, каждое утро устремляющаяся на покорение очередного муравьино–зеленого склона, две непарные семейные ячейки (в одной – мать с сыном, в другой – соответственно – отец с дочерью, там, похоже, намечалась своя интрига, но оставим ее в покое) да совсем уж здесь случайные молодожены, инфантильно радующиеся каждому чиху и смешку друг друга (как раз они да еще отец с дочкой и были нашими соседями по катеру в то утро, когда раннее августовское солнце внезапно проявило из только что отступившей ночной пелены заманчиво–глубокие воды прелестного горного озера).
А значит, планы, выношенные моей женой, могли окончиться грандиозным крахом, но все же этого не случилось. Но прежде, чем выйти на пристойное подобие дофинишной прямой (ибо какой возможен финиш, когда еще ничего не случилось?), я должен хотя бы в двух словах описать, чем мы занимались с Сюзанной во время нашего вынужденного ожидания.
Так вот если в двух, то практически ничем. То есть мы почти не разговаривали (что было естественно), не занимались любовью (этому тоже нетрудно найти оправдание), а если ходили гулять, то врозь – когда Сюзанна, скажем, решала пойти в горы (но только недалеко, уходить далеко от пансионата она боялась), то я бродил вдоль озера, а если идея пройтись под мрачно–зеленой сенью хвойного леса появлялась у меня, то прогулка вдоль озера доставалась ей. Вместе мы ходили в ресторан (питаться по отдельности было бы странно) да – как это ни смешно – в сауну. И я даже стал забывать о том, что явилось главной (если верить моей жене) причиной нашего появления в этом заколдованном (ведь прекрасное – как и прелестное – всегда заколдовано) месте, как в один прекрасный день (для любителей точного времяисчисления скажу, что пошел восьмой день нашего пребывания в «Приюте охотников»), когда я, проведя полдня в горах, приняв душ (номер, надо отметить, был благоустроенным) и переодевшись, отправился в ресторан, где меня за столиком уже поджидали и обед, и Сюзанна, то последнюю я обнаружил в наипрекраснейшем расположении духа. Сюзанна улыбалась, Сюзанна поигрывала вилкой и ножом, Сюзанна будто пела неведомую мне победную песню, что сразу же заставило меня насторожиться.
– Ты чему радуешься, ангел? – довольно агрессивно спросил я.
– Увидишь, – таинственно промолвила Сюзанна и начала резать бифштекс, рядом с которым на тарелке высилась грудка хорошо поджаренного картофеля да кроваво маячили ломтики аккуратно разрезанного помидора.
– Что увижу? – продолжал допытываться я.
– Я тебя попозже познакомлю с одной, сегодня приехавшей, дамочкой, так вот мне это кажется тем, что надо.
– С чего ты взяла?
– Да вот взяла, – и Сюзанна продолжила терзать бифштекс, как бы приглашая и меня последовать ее примеру. А уже после обеда, когда мы в номере вышли на лоджию (естественно, с видом на озеро) и я уселся в потрепанный гостиничный шезлонг, Сюзанна поведала мне, что еще утром, лишь только я, по обыкновению, отправился в горы, к ней подошла молодая женщина лет двадцати восьми–тридцати, и от нее исходила такая странная энергия, что Сюзанне сразу же показалось, будто это и есть та самая незнакомка, ради встречи с которой мы и торчим здесь (так она и выразилась – «торчим») уже восьмой день.








