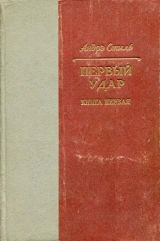
Текст книги "Первый удар. Книга 1. У водонапорной башни"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Вряд ли, – ответил Гиттон. – Однако я постараюсь разузнать. Раз он был в мэрии, там должны помнить, кто это такой.
Все-таки жалко стариков. Только что порадовались тем счастливым дням, когда строили свой дом, и тут же снова вспомнили со страхом, что не сегодня-завтра их могут выбросить на улицу. И главное, Гиттону нечего сказать им в утешение. Чтобы хоть немного подбодрить их, вселить в них уверенность, он решил объяснить, чего может добиться комитет защиты.
– Да, чорт их побери, здоровый кусок земли оттяпали! Немцы и то меньшим довольствовались.
Гиттон ничего не добавил. Если люди начинают прозревать, пусть лучше сами делают выводы. Излишние наставления в таком случае ни к чему, даже мешают.
Прощаясь, Гиттон чувствовал, что оставляет стариков одних, лицом к лицу с мучительной тревогой. Когда он уже переступил порог, старушка не без труда выдавила из себя фразу:
– Мы тут заговорились и ничем вас не угостили.
И когда за Гиттоном захлопнулась дверь, Леа повторила:
– В самом деле, как же это мы? Надо было предложить ему что-нибудь.
Спрятавшись за занавеску, старики смотрели, как Гиттон медленно шагал к своему доту.
– Забываем о том, что повсюду есть хорошие люди, – пробормотал Эрнест, не глядя на жену.
Потом он повернулся к Леа, которая смотрела на него глазами, полными слез.
– Комитет защиты, Леа… Вот до чего мы дожили! На старости лет приходится заниматься политикой…
– Старый дурень, разве стыдно защищаться? – ответила жена.
И, конечно, на следующий день старики явились на первое заседание комитета защиты, вошли в залу мелкими старческими шажками. Конечно, Леа не пожелала отпустить мужа одного. Конечно, господин Эрнест был во всем параде и особенно лихо подкрутил усы, как будто собрался в театр. Что ни говори, отставной лейтенант таможенной службы. Это не кто-нибудь, в грязь лицом не ударит. Странно все-таки чувствуешь себя на собрании, особенно без привычки. Не знаешь, куда сесть, куда стать, а тут тебя толкают, перевертывают во все стороны, как карася на сковородке, даже твою старушку оттерли в сторону. Знакомых почти никого, и не удивительно: ведь старики никуда не ходили. К счастью, появился Гиттон. Леа первая заметила их спасителя и радостно окликнула: «Господин Гиттон!» Здесь ей не пришло бы в голову напускать на себя важность, напротив – Гиттон их единственная опора. Он тут как у себя дома, даже как-то выше ростом стал.
– Советую сесть ближе к печке. Правда, она нетоплена, дров нет, но там будет удобнее.
Чтобы завязать разговор, Эрнест спросил:
– А много ожидается народу?
– Думаю, что много, все решили вступить, – ответил Гиттон и добавил уже на ходу: – За исключением Андреани.
– Ты слышишь, Леа? За исключением Андреани…
Старики пришли немного раньше назначенного часа.
Появляются все новые и новые лица. Леа подталкивает Эрнеста локтем.
– Гляди – Жежен… Легок на помине.
– Ну и ну! Как постарел! Еще больше, чем я…
Старики не знают, подойдет ли Жежен, заговорит ли с ними. После переселения в новый дом, уже целых три года, они живут отчужденно, ни с кем не видятся, не поддерживают добрососедских отношений.
Надо было видеть, как Жежен встретил стариков – комедия, да и только! Жежен никогда не отличался робостью, и тут сразу провозгласил:
– Здорово, вот уж никогда бы не подумал! Папаша Эрнест собственной персоной!
Вот что значит поработать вместе. Даже не потрудился сказать «господин Эрнест».
– Ах, и мамаша здесь! Ну как? Вы все еще настаиваете, что к цементу нужно примешивать глину?
Леа улыбнулась, вспомнив их прежние споры. Но что бы ни выкрикивал Жежен, хорошо уже то, что все слышат его слова, и теперь супруги не чувствуют себя на собрании такими чужими.
– Никак не думал вас встретить на собрании.
– Я и сам не думал, – подтверждает Эрнест.
– Ах да, я и не сообразил, – продолжает Жежен, – ведь янки метят и на ваш дом, извиняюсь, на «наш» дом. Верно я говорю? Как-никак, я тоже руку приложил. А все-таки вы счастливчик!
Эрнест не любит таких разговоров, он сухо обрывает Жежена:
– Счастливчик? Мы всю жизнь себе во всем отказывали ради этого дома.
– Отказывали, – повторяет Жежен, почувствовав колкий намек. – А мне отказывать себе не в чем было. Мне во всем отказали, не спросив моего согласия. Да и откуда у нашего брата могут быть сбережения? Разрешите, я с вами рядом устроюсь, хоть на одной половинке.
Несмотря на то, что в помещение набилось много людей, все-таки холодно. Эрнест и Леа хмурятся, их всегда пугает встреча с настоящей бедностью. Не потому, что они сами богаты. Как раз наоборот – чем меньше расстояние, отделяющее тебя от бедности, тем судорожнее стараешься сохранить спасительную дистанцию, только бы не покатиться вниз. И если ты всю жизнь прожил, задрав голову кверху, так сказать, к верхним ступеням социальной лестницы, то в шестьдесят лет меняться поздновато.
– Леа, как же быть с Андреани, а?
Поставив палку между колен, Эрнест постукивает по набалдашнику. Это заменяет ему знаменитое «бум-бум-бум» и в то же время служит аккомпанементом тому бум-бумканью, которое звучит где-то в глубине души.
– Как они могли не подумать о нас?
Собрание начнется минут через десять, не раньше.
– Ты посидишь здесь одна, без меня, Леа? Я схожу к ним.
– Нет, и я тоже пойду с тобой, поговорю с Карлоттой.
Старики встают.
– Уж не обидел ли я их чем-нибудь, – думает Жежен. – А какие заносчивые! Вздумали разыгрывать из себя важных господ.
Гиттон и его товарищи, столпившись в противоположном углу комнаты, горячо обсуждают положение. Но, увидев, что старики встали, Гиттон быстро подходит к ним.
– Как! Вы уходите?
– Мы вернемся.
– Правда, вернетесь?
Эрнест важно указывает палкой на скамью у печки и говорит:
– Пожалуйста, поберегите наши места.
Господин Эрнест и Леа поддерживают близкие отношения лишь с Андреани и его женой Карлоттой. Так они могут жить, не общаясь с остальными жителями поселка и в то же время не чувствуя полного одиночества. Жизнь Андреани и Карлотты – самый настоящий роман. Сейчас им обоим под семьдесят. Карлотта, должно быть, была необычайно красива, яркой красотой уроженки Корсики. Даже и теперь не требуется много воображения, чтобы представить себе ее былую красоту – словно она не ушла совсем, а только скрылась, застыла под маской благообразной старости, которая дается в дар только женщинам солнечного юга. В молодости они оба служили в Марселе, в большой гостинице: он в качестве метрдотеля, она поварихой. Им не раз доводилось обслуживать сильных мира сего. В 1935 году хозяин купил отель в этих краях и перевел их сюда; оба были уже немолоды и не могли свыкнуться с соленым атлантическим ветром, сразу как-то сдали, словно изгнанники, разлученные со своим благодатным югом. Спустя некоторое время Андреани отошли от дел, надеясь провести остаток своих дней в довольстве и покое. Они купили красивую виллу у самого моря, с большим садом и статуями, все остальные сбережения вложили в постройку нескольких дач, которые отдавали в наем. Кто бы мог подумать, что придет война, что она докатится сюда, так далеко от Германии, сюда, где она еще никогда не бывала. Андреани потеряли все, от их дач остались только груды развалин. Они перенесли удар с достоинством, с каким-то трагикомическим величием – так цветок еще поднимается из травы, хотя стебель его подрезан косой. Им пришлось перебраться в дощатый барак, и они жили на крохи, оставшиеся от прежнего достатка, но Карлотта по-прежнему ходила в своих любимых черных кружевных косынках, да и ее супруг старался одеваться безукоризненно. Они все так же кичились перед бедняками, хотя им с каждым днем становилось все труднее и труднее сохранять позу высокомерных богачей. Особенно после того, как Андреани, гордившийся своей склонностью к поэзии, прочел у какого-то поэта про скорпиона, убивающего себя собственным жалом, – старик не мог с тех пор отделаться от мысли, что этот жестокий образ вполне подходит к его теперешней судьбе.
– Андреани, я, лично я, прошу вас вступить в комитет защиты…
– Неужели, по-вашему, я должен защищать эту лачугу? Да никогда! Простите, Ламбер, но, по-моему, вы просто сошли с ума. Не все ли мне равно, где жить – в этой халупе или в другой…
– Но ведь наш дом… Сделайте это для меня, во имя нашей дружбы.
– Я вовсе не желаю путаться со всеми этими… – широким жестом Андреани как будто стер с лица земли весь поселок. – Да на вашем месте я бы согласился скорее потерять все, чем позорить себя…
– Андреани!
– Сразу заметно, что у вас нет соседей… А мы целые дни слышим через перегородку такие разговоры… Возмутительно! И вы, вы готовы идти вместе с этой публикой, потому что ваш дом могут…
Леа, маленькая и щупленькая по сравнению с Карлоттой, которая и в старости сохранила свою былую дородность, растерянно молчала. Вдруг она тоненько заплакала, должно быть, от унижения.
– Ну, ну, успокойтесь, – ласково сказала Карлотта. – Успокойтесь, – и она взглянула на своего мужа.
Должно быть, они когда-то безумно любили друг друга. Это чувство не исчезло бесследно, как и красота Карлотты… Андреани сразу смягчился.
– Сделайте это ради меня, Андреани, – добавил Эрнест почти умоляюще. – И не забывайте, что именно американцы разорили вас.
– Не надо плакать, Леа. Мы ведь вас очень любим, – сказала Карлотта, – вы сами знаете.
И вдруг после этого разговора – собрание. Какая же это сила, совсем особенная атмосфера! С каким гневом говорили, вставая один за другим, и мужчины и женщины. «И знаешь, Леа, когда они так шумели, стучали кулаками по столу, а некоторые даже выражались не совсем прилично, мне самому хотелось крикнуть им – давай, давай, не стесняйся! Ведь они и наш дом защищали. Рабочие сильны и знают свою силу, не дают себя в обиду, этого у них не отнимешь. И потом, зря говорят, будто они ничего не признают, кроме своих организаций и своих интересов. Когда Гиттон объявил, что Андреани согласился дать свою подпись по просьбе господина Эрнеста, все дружно зааплодировали. У них нет ни злобы, ни зависти. Они рады договориться со всеми, никого не отталкивают. Надо было видеть, с какой симпатией все смотрели на нас… А наш-то Гиттон! Он, оказывается, боевой, не жалеет себя!» Как раз Гиттон сообщил, что он занимается не только рабочим поселком, но побывал и в деревне по другую сторону аэродрома, километра за три отсюда, где американцы собираются согнать с земли крестьян.
– По правде сказать, это получилось случайно. Теперь ведь, куда ни пойдешь, всюду людей подстерегает такая же беда, как и нас. Вы все знаете, что у меня мальчик пропал; его приютил у себя один крестьянин. Он сообщил мне об этом, правда, не сразу, но сообщил – крестьяне не любят спешить. И то сказать, они ведь не сдельно работают. Мы здесь по часам рассчитываем, а они – по месяцам. Как только мне сообщили, где мой сынишка, я сейчас же покатил туда на велосипеде. Теперь я немного знаю, что там делается. Крестьяне, видно, тоже недовольны…
Господин Эрнест подумал сперва: если крестьянам удастся отстоять свою землю, тогда американцы обязательно расширят территорию аэродрома за счет поселка… Но Гиттон как раз говорит обратное – сопротивление крестьян и наше сопротивление взаимно усиливают друг друга. И, слушая слова Гиттона, Эрнест усомнился в своем первом выводе. Тут есть над чем поразмыслить.
Во всяком случае бесспорно, что далеко еще не все потеряно: американцы попомнят свой проклятый аэродром. Ходят слухи, что создается второй комитет, поскольку американцы угрожают также захватить большой дом, где помещалась немецкая комендатура, – после войны в нем устроили школу профессионального обучения. Сейчас школа закрыта на каникулы. Словом, все одно к одному. В этом месте речи Гиттона в зале раздаются недовольные голоса.
– Профшкола – это, конечно, хорошо. Но сейчас-то она пустует, да, поди, и совсем закроется. Почему бы нам туда не въехать? Там больше тридцати комнат получится. Все лучше, чем в наших развалюшках!
Домой старики возвращались в кромешной тьме – ни одного фонаря, ни одной лампочки. Леа повисла на руке мужа, а он осторожно ощупывал палочкой дорогу. Вдруг господин Эрнест сказал:
– В конце концов, Гиттон поступил геройски. Я, конечно, не сравниваю его с нами, но ведь он тоже сумел выйти из положения – приспособил для жилья дот. Кто знает, если бы ему повезло, он бы тоже мог…
– Какой ужас с этим мальчиком, который сбежал! – невпопад ответила Леа. – А мы-то ничего и не знали!
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Старик Ноэль и маленький беглец
И действительно, Поль убежал не очень далеко – всего за пять километров. Он сам не помнил, как очутился на зацементированной дорожке, огибавшей бывший немецкий аэродром, а потом зашагал куда глаза глядят. С наступлением темноты ему стало очень грустно, и с каждым часом мальчик все острее сознавал свою вину перед папой и мамой Гиттон, которых он так незаслуженно огорчил. А все-таки вернуться он не решался. Грубые башмаки больно натерли голые ноги, он чувствовал, что лодыжки у него все мокрые от крови, и ему становилось еще страшнее. К боли он притерпелся, да и на ходу она не так давала себя знать, зато стоило остановиться на минуту, и ноги жгло, как огнем. Если вернуться домой ночью, придется рассказать, как было дело, или что-нибудь сочинить. И от этой мысли Поль тоже страдал… Так он и не посмел повернуть назад. Наконец он добрел до какой-то деревни. Только несколько огоньков мерцало среди разрушенных войною домиков; откуда-то доносился собачий лай. От этих одиноких ферм веяло безнадежной тоской. Черные тучи шли очень низко и очень быстро, казалось, что сама ночь движется над уснувшей деревней и вся эта громада мрака, только каким-то чудом висящая в воздухе, вот-вот рухнет на землю всей своей тяжестью. И лишь одно сковывало эту бегущую куда-то ночь – неумолимый холод, как будто задавшийся целью превратить путника в ледяной столб. Поль крадучись направился к тускло горевшему огоньку. По запаху свежего навоза мальчик догадался, что здесь ферма. Во дворе загремела цепью собака, но не залаяла. Поль подошел на цыпочках к освещенной двери и, сам не зная зачем, стал прислушиваться – его поразил глухой, мерно повторявшийся звук: проснувшаяся корова тихо била хвостом о перегородку; из приоткрытой вверху створки на него пахнуло густым, тяжелым запахом хлева. В хлеву все-таки тепло. Там можно бы дождаться рассвета. Но открыта была только верхняя створка, чтобы скотина могла дышать свежим воздухом. Нижняя створка, очевидно, заперта на засов. Мальчик просунул руку внутрь и стал шарить по доскам. Если удастся открыть дверь, он тут же прошмыгнет в уголок, подальше от коров, которые наводили на него ужас. Привязаны ли хоть они? Засов поддавался туго, но вдруг громко щелкнул. Одновременно скрипнула верхняя створка. Коровы беспокойно задышали. Пес залился оглушительным лаем, в ту же минуту в доме распахнулась дверь и в ярко освещенной ее рамке появился старик с молотком в угрожающе поднятой руке. Поль побежал; однако он боялся, что старик догонит и стукнет его молотком по голове. Поэтому он остановился и закричал:
– Не трогайте меня, дяденька!
Да это мальчишка! Откуда он взялся, что он здесь делает?
Поль, не спуская глаз со страшного старика, медленно, как затравленный зверек, стал отступать в темноту, а крестьянин старался приблизиться к нему, успокоить его, манил рукой. Наконец ему удалось схватить беглеца – хоп, готово! Хоть и старик, а проворства не потерял, привык ягнят в отаре ловить.
– Да не вырывайся ты, я ж тебе ничего худого не сделаю! Медор, чтоб тебя разорвало, замолчи, чортов пес! Ты, парень, что в моем хлеву потерял, признавайся?
– Ничего… я просто хотел туда войти… поспать.
– А я вот тебя сейчас к жандарму отведу. Говори, откуда ты взялся? Кто ты таков есть? Ты, видать, не здешний.
– Я убежал.
– Как так «убежал»? Откуда убежал? Тебя что, родители бьют?
– Нет, никогда не бьют.
Старик сразу размяк.
– Иди-ка за мной. Здесь и замерзнуть недолго. Вон какая стужа!
Поль с трудом передвигал ноги и еле поспевал за широко шагавшим стариком.
Они вошли в просторную комнату, пол в ней был выложен черными неровными плитками, местами уже потрескавшимися. Над большим столом из некрашеного дерева свисала маленькая электрическая лампочка с колпачком из газетной бумаги вместо абажура. В другом углу старомодная печка на четырех высоких ножках, а на ней в котле что-то парилось – судя по неприятному запаху, картофельные очистки. Хозяин, очевидно, оторвался от ужина. Рядом с кружкой молока лежал недоеденный ломоть хлеба, а в большой чашке желтел кружок масла. Но живописней всего был сам старик – очень высокого роста, худощавый, порядком одряхлевший, седоусый. Он встал посреди комнаты, так и не выпуская из рук молотка, с которого Поль не сводил боязливого взгляда.
Заметив взгляд ребенка, старик положил молоток рядом с кружкой, как бы вместо столового прибора.
– А ты меня напугал, малыш, – и добавил извиняющимся тоном: – Здесь мы на отшибе живем. Того и жди, залезет какой-нибудь бродяга.
К чему вдруг он стал рассказывать все это мальчику, который волчонком озирался вокруг? Что этому мальчишке до здешних бродяг? Ничего не поделаешь, привычка думать вслух. Иногда старик обращался с речью даже к своим коровам.
– Ты, должно быть, что-нибудь натворил. Хороший мальчик так, зря, из дому не побежит.
Поль ничего толком не ответил, свое имя он тоже не хотел назвать. Он даже приврал немного – сказал, что пришел издалека. Хотя Поль уже раскаивался в своем бегстве, но страх все усиливался – он боялся гнева и огорчения Гиттонов, а еще больше насмешек сверстников. Старик заставил мальчика поесть, потом, не обращая внимания на его крики, промыл перекисью водорода окровавленные лодыжки и пятки, подтащил к огню сенник и уложил своего гостя. Поль улегся, не раздеваясь, и старик, пожелав ему спокойной ночи, добавил: – Спи, утро вечера мудренее. – Всю ночь Полю снилось, что он идет и идет куда-то по острым камням и они режут его босые ноги. Чуть свет старик Ноэль отправился к мэру, на его ферму.
– A-а, знаю, знаю, – ответил мэр, выслушав рассказ Ноэля. – Я видел в газете объявление. Выдумывает твой мальчишка, что издалека пришел. Он сын здешнего докера. Если по аэродрому пройти, так не больше четырех километров.
– В ихнюю мэрию, по-твоему, заявлять?
– Не надо, ну их! Неприятностей не оберешься! Начнут в полицию таскать. Лучше отвези его потихоньку сам, и дело с концом.
– Ты мне скажи, какой адрес дан в газете. Завтра я на лошади его и отвезу.
Тем временем беглец сидел на ферме Ноэля под замком. Правда, ноги у него так болят, что башмаков он надеть не сможет, но с мальчишками лучше держать ухо востро. Для полного спокойствия старик запер ставни и потушил в печке огонь. В комнате было полутемно, свет проникал только через узенькое оконце над дверью, затянутое паутиной. Приспособив обрывок половика, Поль босиком ловко передвигался на нем, как на плоту, по всей комнате, заглядывал в горшки, открывал ящики, перетрогал множество незнакомых ему предметов.
Но на следующий день задуманная поездка не состоялась. Не до того было. В деревне вдруг появились какие-то незнакомые люди и стали расставлять вешки. Крестьяне заволновались. Хоть бы предупредили, а то ведь никто ничего не знал, даже сам мэр. Правда, месяца два тому назад у них уже побывали какие-то военные и внимательно рассматривали план расположения земельных участков. Кто бы подумал, что это так обернется. Даже гитлеровцы в 1942 году, когда явились в деревню, и то сначала старались вроде как договориться с людьми через посредство мэра. Конечно, они потом распоясались и реквизировали все подряд, уже не спрашивая ничьего согласия. Но, по крайней мере, хоть на первых порах соблюдали форму. А здесь даже и этого нет. Средь бела дня залезают на твой участок, начинают что-то мерить, забивают какие-то колья. Где ж это видано? Кричишь им: «Эй, вы там, чего вам надо?» А они и ухом не ведут. Потом начинаешь сердиться не на шутку. Спускаешь с цепи собаку. Пес выскакивает галопом со двора, скользит, бедняга, по замерзшей траве, чуть себе лапы не ломает в глубоких колеях, перепрыгивает через ямы и колдобины и, добравшись до места, начинает с неистовым лаем кружить вокруг незнакомцев. Те невольно подаются назад – а вдруг вцепится? Вслед за псом является и сам хозяин. «У вас что, язык отнялся, что ли? Ведь это моя земля. Какого рожна вам здесь нужно с вашими окаянными кольями?» Конечно, не всякий так разговаривает, у каждого свой характер. Один подойдет тихонько, вежливенько, начнет расспрашивать, как будто не о его земле речь идет. Другой сразу же бежит к мэру, но и на собственном участке мэра тоже хозяйничают. Так что уж тут говорить… У этих нахалов на все один ответ:
– Уберите собаку. А не то вам придется отвечать. Не мы здесь распоряжаемся. Нам приказано. Не мешайте работать.
– Работай, работай… Так твои колья здесь и останутся, как бы не так. Подожди, что вечером будет…
Вечером управились в два счета. Явилась вся деревня, а когда берешься всем народом – никто не в ответе. Колья, конечно, повыдергивали и сожгли тут же на месте.
На следующий день старому Ноэлю уж совсем было не до поездок. После обеда в деревню прикатил сам префект в длинном черном блестящем автомобиле, за которым несся целый грузовик охранников. Префект прошел в мэрию и немедленно вызвал туда мэра. Такого еще никогда не бывало. Не сговариваясь, крестьяне в один миг собрались перед зданием мэрии. Не прошло и пяти минут, как на пороге появился мэр с перекошенным от ярости лицом, бледным как полотно. Он сошел с крыльца и присоединился к толпе крестьян. Руки и губы у него тряслись, он не мог вымолвить ни слова. Тогда на крыльце появился господин префект. Но ему не дали даже словечка сказать – такой гам подняли. Охранники выстроились между префектом и толпой. Выглядывая из-за полицейских касок, он выкрикнул:
– Опомнитесь! Вы сами не понимаете, что делаете! Вы играете на руку худшим вашим врагам, поддаетесь влиянию коммунистов!
Ему ответили громовым хохотом, люди животики понадрывали. Экую околесицу понес хозяин! А коммунисты здесь при чем? У нас и коммунистов-то один-два и обчелся. Есть Жозеф, так он такой же, как и мы. И земли не меньше, чем у других. Все головы повернулись к Жозефу, посыпались шутки: «Ага, Жозеф, попался, брат!» Жозеф смеялся громче всех и даже покрутил пальцами около лба, будто воробей крылышками: у господина префекта не все дома. Или он просто издевается над народом.
Вдруг Жозеф перестал смеяться и крикнул:
– Стара песня, уж не первый раз слышим! Потому и становимся коммунистами.
Здорово отбрил! Префект так растерялся, что забормотал какую-то чепуху:
– Вот видите, видите теперь!
– Ну видим, а что видим-то? Уж если кому верить, так не тебе, друг любезный, а Жозефу.
Префект пытался продолжать:
– Наши союзники американцы…
Скажем прямо, человек пять шесть, и в том числе старик Ноэль, даже призадумались на минутку: какие такие американцы? С 1944 года, с тех пор как разбомбили почти всю деревню, сюда даже газет не приносят. А у Ноэля и многих других радио нет, и они давно отстали от событий. Конечно, все знают, что американцы в Корее и в Германии, а из остальных мест, по мнению многих в деревне, они убрались к себе в Америку. Слово «оккупация» в представлении большинства связывалось с немцами… ведь еще совсем свежи в памяти те дни.
– Вам, разумеется, возместят убытки!
Опять брехня! Тогда нас тоже уверяли, что оккупанты все возместят.
– Во всяком случае, советую подумать.
Уже без тебя подумали!
После отъезда префекта разошлись не сразу. Тут и там собирались кучками, хотя уже начинало темнеть и ледяная вечерняя мгла пробирала до костей. У большинства здешних крестьян своей земли не было, они арендовали небольшие участки, и лишиться этой земли значило для них лишиться последнего куска хлеба. Не позволим пустить нас по миру! Уходя, Ноэль сказал мэру:
– А знаешь, я ведь до сих пор не отвез мальчишку-то. Сам понимаешь, поважнее дела были. Как бы мне не нагорело!
– Завтра я с утра пораньше сторожа пошлю, – успокоил его мэр. – Теперь у него есть велосипед.
Гиттон прибыл в деревню на следующий день. Напрасно пытался он по дороге узнать от сторожа хоть что-нибудь о Поле. «Да что вам сказать, разве с детьми разберешь?» В душе Гиттона боролись гнев и нежность.
Поль был во дворе; высоко подняв ведро, он выливал помои в корыто, возле которого хрюкали свиньи. Первым его движением было убежать, скрыться. Ноэль не сказал мальчику, что вызвал отца. Но чувство радости победило страх. Поль подбежал к Гиттону, а тот схватил его на руки, прижал к груди и что-то ласково шептал; в волнении он даже не заметил, что бросил велосипед среди двора.
– Поло, зачем ты убежал? Скажи, зачем?
– Я, я во всем виноват! Я злой, а вы с мамой хорошие. Я виноват!
Ноэль и сторож искоса наблюдали за свиданием, стараясь не глядеть друг на друга, – им было неловко.
– Так вот что, Александр, – сказал Ноэль. – Мы вам очень благодарны. Уж и так вы много времени из-за нас потеряли.
Александр понял намек, вскочил на велосипед и уехал. Много хлопот у сторожа в деревне, а тут еще каждый норовит командовать, корчит из себя мэра.
Гиттон не знал, что сказать Полю. Он то брал его за руку, то клал обе руки ему на плечи, даже садился перед ним на корточки и близко-близко заглядывал в глаза, чтобы понять, как могла возникнуть мысль о бегстве за этим нахмуренным детским лобиком. Поль не уронил ни одной слезы. Однако он страдал не меньше, чем сам Гиттон, это было видно по его бледному личику. Но в глазах его Гиттон не мог прочесть желанного ответа, напротив, они, казалось, ставили отцу сотни вопросов. Да, да, Гиттон почувствовал, что он должен что-то ответить сыну. Но что сказать? Он встал и повернулся к Ноэлю.
– Вы сделали доброе дело. По своей воле сделали, вот что дорого.
Ноэль, надув щеки, пожал плечами.
– Всякий бы на моем месте так поступил, – отрезал он.
Но Гиттон уже круто повернулся к Полю и спросил его с замирающим сердцем:
– Ты вернешься домой?
Поль кивнул утвердительно – конечно, вернусь.
Должно быть, старик вообразил бог знает что. Да и не мудрено. Гиттон, покраснев, растерянно поглядел на Ноэля.
– Послушай, дружок, – обратился старик к мальчику, словно поняв, что Гиттон хочет поговорить с ним наедине. – Знаешь что, брат, подбери-ка велосипед и поставь его аккуратно в сторонку. Сумеешь?
– Понятно, сумею, – ответил Поль.
– Вот что, – торопливо начал Гиттон. – Поль мне не родной сын, он приемыш, из приюта взят. А сиротки всегда немного отличаются от остальных ребят. Да и живется нам трудно. Дома у нас нет, пришлось поселиться в доте. У нас еще двое детей, только те помладше. Сам я докер.
– А зачем вы взяли ребенка, раз не можете его прокормить? У вас ведь своих двое, – резко сказал Ноэль.
– Когда мы его взяли, я хорошо зарабатывал. Если работа есть, мы, докеры, всегда можем продержаться, тем более, что за разносолами не гонимся. Ведь и двое младших не мои. Раньше им у нас неплохо жилось.
– У меня тоже детей не было, – вставил Ноэль, даже не глядя на собеседника, по своей привычке рассуждать вслух. – А я всегда очень хотел ребятишек иметь, да жена умерла в тридцать лет. Потом так и не женился второй раз, не до того было. Вы что же, хотите сейчас ехать? Передохните немного. Вам ведь далеко трястись на велосипеде, да еще с малышом. И дождь как раз пошел. Мы только что собирались закусить, – сказал Ноэль, входя в кухню. Приподняв крышку, он заглянул в кастрюльку, стоявшую на огне. – Не бог весть какие кушанья, но зато дают силу. Картошки поедим с салом. Молоко есть, масло, сыр, стаканчик вина найдется. Против ветра оно и легче будет ехать.
– Если бы мы так ели хоть через день! – вздохнул Гиттон.
– Ну, ну, не надо преувеличивать.
– Как так «преувеличивать»? Поль, ведь верно я говорю?
Ноэль взглянул на мальчика, которого отец призывал в свидетели правоты этих слов, и ему стало не по себе. Чтобы переменить разговор, старик стал рассказывать гостю о том, какая музыка шла в деревне вчера и позавчера.
– И у нас то же самое, – подтвердил Гиттон, – но мы еще пока их столбов не тронули.
– Ах, вот как! А у нас вчера говорили, будто они из-за вас сюда переносят аэродром. Ведь сейчас они куда больше земли заняли, чем немцы. Вон, смотрите-ка, видите ферму, где дерево, так они и ее тоже хотят прихватить.
– Нет, это не из-за нас. Они в нашем поселке разошлись почище, чем у вас в деревне. Расширяют прежний немецкий аэродром. Когда я сюда ехал, так мы с вашим сторожем видели, что всю правую сторону поля они уже обносят проволокой. И даже часть дороги туда отходит.
– Значит, мы теперь совсем в ловушке очутимся. Последнее время поезд к нам сюда приходил только два раза в неделю. Потом и его отменили. Снова как в пустыне будем жить.
– Не следует им давать воли, – посоветовал Гиттон.
– И мы тоже не даем, – ответил Ноэль немного невпопад. – Пока дождь идет, ты бы поел с нами.
Старик вдруг, без всякого перехода, начал говорить Гиттону «ты». А «с нами» означало самого Ноэля и Поля.
– Не знаю, как и быть, – ответил Гиттон. – Ехать надо, хочется как можно скорее успокоить жену.
– Ладно, чего там. Дождь-то зарядил, а когда кончится, это уж от господа-бога зависит. Придется переждать, пока перестанет. А ты, беглец, выпей-ка молока. Ну и любит же он молоко! Пьет, что твой теленок! Только подливай.
Гиттон изо всех сил вонзил под столом ногти себе в ладонь. Старик бессознательно нанес ему жестокий удар. Сразу видно, что они тут ничего не знают! Им-то хорошо здесь, в деревне, от земли кормятся. Вот и думают, что везде так. «Не надо преувеличивать!» – сказал Ноэль. А когда в доте появлялось немного молока, Поль оставлял его Клодетте или малышке Жану. Он даже ни разу не заикнулся, что любит молоко. И теперь, когда отец узнал его тайну, Поль густо покраснел.
– И сметану любит тоже, и масло!
Конечно, старик гордится своим молочным хозяйством. Хочет, должно быть, похвастать, что у него такая вкусная снедь. И все-таки…
– И не удивительно, что любит! Ведь дома он никогда не видит ни сметаны, ни масла.
– Быть не может! Неужели так-таки никогда и не видит? – спросил старик, стискивая зубы.
На прощанье Ноэль уложил в скатерку целую кучу продуктов, и туго набитый узелок привязали к рулю велосипеда. Уже в самую последнюю минуту крестьянин, собравшись с духом, сказал:
– Я вижу, ты умеешь на велосипеде ездить. Отец дает тебе машину, а? Так ты приезжай ко мне, беглец, по четвергам или в воскресенье. Навещай дедушку Ноэля.








