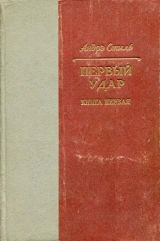
Текст книги "Первый удар. Книга 1. У водонапорной башни"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Да и картошки у нас чуть-чуть осталось, – пришла к нему на выручку Жоржетта. – Дня на два всего хватит…
Люсьен стукнул по столу тяжелым кулаком, стукнул с негодованием, а не со злобой, потому что злоба, в конце концов, – чувство поверхностное.
– Каждый день я прохожу мимо их складов… Четвертый год сотни тонн бобов лежат зря, загнивать стали, крысы их растаскивают. Вместе с селитрой из Чили прислали бобы. Там-то не знают, куда их девать. А теперь, когда товар подпортился, его даже стеречь перестали. Говорят, что плесенью от них песет. Для винегрета еще сгодились бы, сошло бы с луком да с перцем; но лежалый боб не разваривается, не разжуешь его. В другом складе – зерно, оно уже прорастать начало. А в третьем – сахар, уж не знаю, сколько сахару… Сегодня при таком дожде он, поди, весь растаял, течет из-под дверей сироп… Впрочем, сахар – это по другому ведомству, это из запасов для армии… Ну, ладно. Посмотрим, долго ли такое протянется. Какая же ты у нас сегодня чистенькая, Жинетта. Будь вежливой со старшими, девочка. И не капризничай, не пользуйся тем, что люди к тебе хорошо будут относиться, поняла?
Но девочка не успела ответить – в наступившей тишине слышно было, как Анри прислонил к стене свой велосипед. Люсьен и Жоржетта разом поднялись с места. Мать не могла сдержать слезы. Отец сердито кусал губы. И девочка, глядя на родителей, вдруг начала колебаться, вопросительно переводила глаза с матери на отца. До этой минуты все казалось ей простым.
Люсьен обнял жену за плечи, то ли хотел утешить ее, то ли поддержать – трудно ведь сказать, что произойдет в такую минуту.
– Ты не первая уезжаешь, Жинетта. Во время «Дьеппа»[2]2
То есть во время забастовки докеров, отказавшихся грузить оружие на пароход «Дьепп» для воины против Вьетнама. – Прим. ред.
[Закрыть] больше пятидесяти детей уехало. И все благополучно вернулись, ты же сама знаешь. А как их баловали там – словно принцев!
В комнату вошел Анри.
– Не плачьте, Жоржетта, – сказал он. – Жорж хорошо знает эту семью. Они не в партии, но очень славные люди.
Люсьен, стоя позади Жоржетты, крепко сжал ей плечо и сделал Анри неприметный знак – поторопись, мол, не задерживайся.
– Видишь, – обратился Люсьен к жене, – и Анри то же самое говорит.
– Ну, нам пора, – сказал Анри. – А то не успеем до поезда закусить.
Больной мальчик, спавший у печки, опять проснулся. Он удивленно огляделся вокруг, хотел было заплакать, видя, что плачет мама, но не посмел.
– Что это? – спросил он.
Люсьен прижал к себе Жинетту, быстро поцеловал ее в обе щеки, затем неловко коснулся губами белокурых волос. Пришлось чуть не силой вырвать дочку из рук Жоржетты, которая совсем уж не понимала, что происходит. Анри быстро привязал корзину к багажнику – к счастью, у него были с собой ремни. Затем он посадил Жинетту на раму велосипеда и даже пошутил:
– Пассажиры на Париж, по местам!..
При виде плачущей матери Жинетта совсем растерялась. Теперь она начала сомневаться в прелести поездки. Анри взглянул на Люсьена, тот опять сделал ему знак. Но едва только отъехали метров десять, как Жинетта стала биться на раме и заплакала. Мать пронзительно закричала. И даже Люсьен на мгновение потерял голову: что произошло с ним в эту минуту, он и сам потом не мог объяснить. В такие минуты человек способен задушить, убить. Он сделал два шага, словно хотел броситься вдогонку за тем, кто увозил его ребенка. Однако он не окликнул Анри. В груди у него словно что-то оборвалось.
– Ну, что ж. Так лучше…
Из бараков вышли люди. Соседки приблизились к Жоржетте, им хотелось помочь ей, утешить. Сам не зная почему, Люсьен махнул рукой: не надо, спасибо.
– Пойдем, – сказал он Жоржетте, – пойдем скорее. Не нужно, чтобы люди видели… Пойдем.
Жоржетта, рыдая, припала грудью к столу. Но когда она почувствовала, что пальцы Люсьена, с силой сжимавшие ей плечо, вдруг ослабели, она тревожно оглянулась.
Люсьен был крепкий человек, быть может, во всем порту не найдется и двух таких, но сейчас он побледнел как полотно.
– Люсьен!
Если бы Жоржетта не знала, какой твердый характер у ее Люсьена, она не так бы испугалась. Она глядела, как он молча сжимал огромные кулаки. Ведь борьба для него всегда проявлялась в мускульном действии, даже борьба с самим собой.
– Люсьен!
Люсьен взглянул на нее, не отвечая, он стоял вытянувшись, как будто окаменел. Вся его сила сосредоточилась сейчас во взгляде. И впервые за их долгую совместную жизнь Жоржетта увидела, что глаза Люсьена затуманились слезами.
– Люсьен, – сказал она тихо. – Послушай меня, Люсьен…
Жоржетта, жена и мать, не думала больше о себе. Сейчас самое главное – он. Губы Люсьена дрожали. И он с трудом выговорил наконец:
– Мне больно с ней расставаться, но еще тяжелее сознавать, что я, мужчина, не могу прокормить свою семью. Мне стыдно, Жоржетта, как же мне стыдно!..
– Не говори так, Люсьен! Успокойся, сейчас дети вернутся из школы. Они могут заметить.
Больной малыш снова заснул.
– Какое горе! – быстро проговорила Жоржетта и умолкла, потому что вернувшийся из школы мальчик уже открывал дверь.
ГЛАВА ПЯТАЯ
На ячмене
– И чего ты все ноешь? Есть у тебя работа – ну и работай!
Кругом такой шум, что можно только кричать; да кричать и лучше – прокричишь фразу и быстро закроешь рот, чтобы уберечься от серой пыли, от которой остается привкус соломы. Говорить обыкновенным голосом можно лишь в короткие минуты передышки, когда машина уже нагружена…
По правде сказать, Жак не ожидал от Дюпюи такого резкого отпора. Он думал, что Дюпюи коммунист. Даже почти был уверен в этом. И потому ему не терпелось узнать мнение Дюпюи. А тот взял да и обрезал его, ничего толком не объяснив.
– Эй! Осторожней все-таки, гляди в оба!
Дюпюи вовремя предупредил Жака – над головой его повисла в нерешительности тяжелая ржавая бадья. Жак быстро отодвинулся. Впрочем, стоя по колено в сыпучем зерне, трудно двигаться быстро: движения становятся неуклюжими, словно у тебя на каждой ноге по пуду. Бадья шлепнулась рядом с Жаком.
Жак украдкой оглядел трех своих товарищей, с которыми нагружал бадью. Ему показалось, что они потихоньку хихикнули. Ясно, что когда человек с перепугу шарахается в сторону, вид у него не особенно внушительный. Но почему Дюпюи сказал «все-таки»? Уж не в насмешку ли? Ясно, что все они имеют зуб против него. А может, он сам все выдумал?.. Однако за последние дни эта мысль не давала ему покоя. Вот почему ему хотелось поговорить с Дюпюи.
Они вчетвером нагружали в углу трюма высокую бадью, равномерно подымая лопаты какими-то странными, веерообразными движениями: взмах шел за взмахом, как у ярмарочных силачей, когда, повращав над головой молот, они забивают колья, чтобы растянуть шатер бродячего цирка. Вторая бадья, в противоположном углу, спускалась прямо в середину кучи или чуть-чуть сбоку, словно ища людей, а затем медленно шла кверху, расплескивая груженное вровень с краем зерно.
– Поберегись!
– Эй ты, наверху! Чего ты там мудришь?
Стоп, бадья застряла на полпути. Описав широкий круг, она всей тяжестью своих девяти тонн с размаху ударилась о балку. Ну и махина! Звук удара отозвался по всем закоулкам огромного судна. Из накренившееся бадьи полилось зерно, высыпалось по меньшей мере лопат двадцать. Что он вытворяет, крановщик? За один только час четыре раза такое проделал. Из-за него нам одну и ту же работу дважды выполнять? Чего доброго, он еще бадью на нас опрокинет. С него станется! – Эй, ты, кто тебя работать учил? – Крановщик молча пожал плечами: я-то, мол, здесь при чем? Для вящей убедительности он даже показал на сигнальщика, очевидно желая пояснить, что в нем корень зла. Старик-сигнальщик весь побагровел от негодования и погрозил крановщику кулаком. Грозись не грозись, дед, кто тебя такого испугается? Ничего не поделаешь, теперь люди чуть что готовы лезть в драку, уж очень жизнь тяжелая стала.
Хозяева жмут, будь они прокляты, лишнего гроша не дают заработать, норму взвинтили – дальше некуда. Еще утром был об этом разговор с секретарем профсоюза Робером; грузчики остановили Робера на палубе, спросили его мнение. Он быстро сделал в уме подсчет и прямо заявил: «Вам и норму-то не выполнить. А уж о приработке и говорить нечего, ноги протянете. Надо соображать, ребята». А тут еще этот криворукий зерно рассыпает…
Четверке, грузившей в середине трюма, было все-таки легче. А там, где работал Жак, зерна оставалось не густо. Только лопатой приходится действовать. У тех зерна вон еще сколько. Можно спокойненько положить бадью на бок и толкать ее вперед руками, грудью, коленями, как попало. Через минуту бадья уж доверху наполнена. Именно они-то и двигали всю работу, хоть на том спасибо. А четверка Жака, если посмотреть со стороны, состояла при них чуть ли не в подметальщиках. Правда, первой четверке здорово достается – не всякий выдержит. Ведь там иногда по самую поясницу в зерно уходишь. Посмотрите-ка, что с Соважоном творится: до крови себе всю кожу расчесал, хорош он будет к вечеру. У некоторых докеров от малейшего прикосновения ячменя бывает чесотка, в каждой складочке кожи расчес… От одного вида ячменя заболевают; спустятся в трюм – и сразу же все тело начинает гореть. Это только докеры могут понять. Жаку хорошо, ему ничего не делается. А Лебуа вчера в последний раз решил попробовать. И тут же ему пришлось уйти, а уж на что, кажется, здоров. Соважон еще пытается держаться. Он ведь за этот месяц считанные разы выходил на погрузку, в его рабочей карточке почти все клетки пустые. Десятник, проходя по палубе, нет-нет да и взглянет на Соважона, кивнет ему головой: ну, как дела? Соважон старается удержать непослушные руки, стискивает зубы и машет в ответ: держусь кое-как. Он даже пытается улыбнуться. Чего только не вытерпишь!
Вот и приходится соображать. Люди нуждаются в работе, а хозяева этим пользуются, как только могут. Раньше в подобном случае все побросали бы работу. А сейчас голод, детишки, а иной раз и жена заставляют. Тут десять раз подумаешь. Жак, например, первый воткнул бы лопату в ячмень и заявил: хватит, ухожу. Но не так все это просто, как кажется. Ведь Жаку сейчас полегче живется, чем другим. Последние две недели ему здорово везет. Такой удачи у него не было целый год. Но вот тут-то и загвоздка. В этом везении есть что-то подозрительное, темное. И Жак все время думает – так это или нет? Начал было даже расспрашивать других. Не оттого ли Дюпюи его отчитал, да и остальные смотрят косо… Значит, его удача вызывает у них сомнения.
Вот это все и раздражает Жака. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему хоть слово, будьте уверены, Жак бы сумел ответить. Не дал бы спуску. Уж такой у него характер… Чуть что, вся кровь закипит, как прибой в скалах. «Сам знаю, что делать, и пусть меня никто не учит». Ведь ему самому от этой удачи, ох, как горько на сердце! Значит, нечего им такие рожи строить. Что они вообразили, в самом деле?
Через минуту гнев его улегся. Теперь он уже сердится не на товарищей. Он снова обвиняет самого себя. Допытывается у себя объяснения… Допрашивает кого-то, кто сидит в нем самом, придирается к нему, теснит шаг за шагом, требует отчета – пусть все будет ясно.
Пока шел дождь со снегом, ветер было совсем утих, но сейчас снова разгулялся на просторе. Он возвращается как хозяин, беспрепятственно завладевает всем судном, как бы в отместку за вынужденное свое безделье, вылизывает из конца в конец все небо, сгоняя тяжелые тучи. Иногда он с воем залетает в трюм, как концом влажного полотенца проходит по кучам ячменя и по лицам докеров, взвихривает нагревшееся зерно; грузчиков то обдает ледяным дыханием, то снова засыпает густой теплой пылью. В наступившей на минуту тишине слышно, как высоко в небе, над мачтами и подрагивающими снастями, задевая за что-то звонкое, порывами налетает бешеный ветер; шквал переворачивает на крыло чаек, которые кажутся еще белее на фоне потемневшего неба, и встревоженные птицы, хоть и знают, что придется уступить ветру, медлят, как будто прикрывают собой от напора близкой бури огромную стаю, замешкавшуюся в море.
Первым, к кому Жак обратился за советом, был Декуан. Выбор, быть может, не очень удачный, как это теперь понимает Жак. Произошло это позавчера, и тогда он сделал одно невеселое открытие. Жак с Декуаном еще с давних пор, со школьных лет, были закадычными друзьями. Но в последнее время между ними наступило охлаждение… Декуан, когда нищета взяла их всех за горло, оказался слаб, не выдержал. Стал пить. Грубо обращался с женой. Случалось, даже бил ее. По правде говоря, и она не лучше. Оба забросили детей. Безработица затянулась. Вот тогда-то Декуан и пошел под гору. Даже теперь, когда ему вдруг стали давать работу, продолжалось и пьянство и все остальное. Но у Жака были свои заботы. Ему не особенно хотелось взваливать на себя чужое горе. Однако позавчера он решил немного прощупать своего дружка.
– Отчего это нас с тобой теперь слишком часто берут на работу?
– А тебе что, плохо? Стало быть, мы с тобой заслужили.
Тут только Жак вспомнил, что в течение двух недель нанимает их на работу все один и тот же десятник – Медар, или «Сахарин», как его прозвали. А этот Медар у докеров не на хорошем счету.
– Что другие подумают? Ведь их никогда не нанимают: из трехсот докеров двести работают всего одну неделю в месяц.
– А тебе-то что? Такелажников тоже всегда берут, ведь никто против них не говорит…
– Такелажники другое дело. Это уж издавна повелось. Не всякий с их работой управится. Тяжеловозы, поэтому их и берут. И потом это не наше дело. Да и их тоже иной раз осуждают. Говорят: пусть по очереди людей нанимают, не все одним и тем же работать.
– Ты пересудов испугался? Людей боишься, а коммунистов, наверно, больше всего?
Жак искоса посмотрел на своего бывшего дружка и промолчал. Он не терпел, когда людей делили на категории. Коммунист или не коммунист – все мы докеры. И он любил повторять себе: если человека надо толкать, чтобы он хорошее дело сделал, немногого он стоит. Что Декуан болтает: «Ты боишься!..» Бояться коммунистов? Что это значит? Тут ведь совсем другое дело…
Разгрузив зерно в одном отсеке трюма, докеры переходят в соседний, снова выгружать ячмень. Здесь работать полегче. Не так, чтобы очень… Дует не особенно, зато пыли хватает с избытком. Ячмень лежит высоким ворохом. Грейфер, как жаба, широко раскрыв свою пасть, жадно зарывается в зерно и подымается вверх, выплевывая тонкие струйки ячменя. Трюм оживает, зерно ползет в углубление, вырытое «жабой», переливается, как желтое озеро, полное до краев пива, потом успокаивается, и только там, куда падают из грейфера косые струйки ячменя, вздымаются маленькие фонтанчики.
– Передохнем минут пяток, пока старый хрыч старается, – говорит Дюпюи, растягиваясь прямо на зерне под узеньким навесом, который идет вокруг всего трюма. Остальные следуют его примеру.
– Говорят, платить будут меньше, раз здесь «жаба» работает, – заявляет Соважон.
– Ну, это еще поглядим! Они вообще бы рады ничего не платить. Никто их не просил пускать эти грейферы. Пусть нас на другую работу переводят… Да не чешись ты так, ведь хуже будет…
Последние слова относятся к Соважону, который, запустив руку за пояс, ногтями раздирает себе живот. Он спохватывается, словно его уличили в позорном поступке, переваливается на другой бок, весь съеживается и сжимает кулаки, стараясь побороть невыносимый зуд.
– Завтра я всю семью чесоткой перезаражу, – ворчит он. – Каждый раз одно и то же!
Жак не решается сразу перевести разговор на волнующую его тему и начинает издалека:
– Что там ни говори, а если человек месяц сидит без дела, никакого у него вкуса к работе нет. Еще немного, и перестанешь чувствовать себя докером, будто никакой у тебя нет специальности.
Дюпюи с любопытством поглядел на Жака. Хотел было возразить ему, да вовремя удержался, вспомнив наставления Анри. Если я сейчас его оборву, Анри обязательно скажет, что я слишком сурово с ним обошелся… «Правда, случай его не совсем простой, – непременно скажет мне Анри, – но пока осуждать Жака мы не имеем оснований…» Поэтому Дюпюи решительно подымается, засовывает руки в карманы и говорит, вкладывая в свои слова тайный смысл:
– От таких разговорчиков мне кой-куда пойти захотелось.
Он направляется к трапу, но Жак увязывается за ним, догоняет Дюпюи на мостках. Мокрый ветер сердито проходит между ними, как поток воды.
– Ты мне все-таки скажи, Дюпюи, – начинает Жак, и в голосе его слышатся угрожающие нотки, – скажи, что бы ты стал делать на моем месте?
– На каком твоем месте? – спрашивает Дюпюи, желая выиграть время.
– Ты отлично понимаешь. Нехорошо с твоей стороны избегать меня.
– А ты разве не знаешь, что нельзя доверять всем и каждому?
Вся кровь бросилась Жаку в лицо, но он сдержался.
– Чего ты от меня хочешь? – продолжает Дюпюи. – Дают тебе работу – бери, не в этом, брат, дело. Важно выяснить, почему они именно тебя всякий раз выбирают, почему тебе отдают предпочтение перед остальными.
– Вот это-то меня и смущает. Уж поверь, я для этого и пальцем не пошевельнул.
– Что ж, я тебе верю, – говорит Дюпюи, но по голосу его чувствуется, что думает он обратное. – Берут, должно быть, потому, что имеют на тебя виды. Во всяком случае, я лично тебе не завидую…
– Ну, а другие? – перебил его Жак.
Они подошли к краю мостков. Дюпюи старался обернуть разговор в шутку, чтобы не углублять спора.
– Сам видишь, я тут ни при чем. Отойди-ка в сторонку, от греха подальше, а то здесь такой ветер, неровен час… – Дюпюи попытался рассмеяться. Но Жак не расположен был шутить.
– Стало быть, ты мне не веришь?
Это уж слишком. Дюпюи резко оборвал Жака:
– Послушай, друг любезный, отстань ты от меня со своими расспросами, честью прошу. Я тебе советов давать не собираюсь. Это твоя забота! Я в нынешнем месяце первый день работаю, а тебя уже третью неделю подряд назначают. Пойми ты, я лично ничего против не имею. Но чего ты хочешь? Чтобы я тебя же еще и жалел в придачу?
В словах Дюпюи слышался не гнев, а горечь. И Жак почувствовал это. Они молча поднялись по мосткам, и сразу же их окутали густые облака пыли: широко раскрыв челюсти, грейфер высыпал в порожний грузовик зерно.
Теперь им приходилось сгребать ячмень в кучи поближе к грейферу. Жак и Дюпюи работали рядом. Их лопаты то и дело сталкивались в сыпучем зерне. Оба молчали. У Жака гнев против Дюпюи быстро улегся. Теперь он снова мучительно спорил с самим собой. Верно, сам он ничего не предпринимал, не сделал ни одного шага, но почему десятник всякий раз назначает на работу именно его? Должны же быть тому причины. Какие? Надо их узнать. И Жак как будто ворошит лопатой горы зерна в своей душе. Когда заставляли грузить пароходы во Вьетнам, он отказался, как и все прочие, – значит дело не в этом. Он участвовал во всех забастовках и держался до конца. Он член профсоюза, входящего в ВКТ[3]3
Всеобщая конфедерация труда. – Прим. ред.
[Закрыть], опять-таки как и все докеры. Правда, он не состоит в коммунистической партии, зато и ни в какой другой тоже не состоит, да и не он один беспартийный. Но то, что он не коммунист, начальникам известно. Выть может, эти сволочи потому и благоволят к нему. Лопата его снова стукнулась о лопату Дюпюи. «Они имеют на тебя виды», – только что сказал Дюпюи. Но и в прошлом своем Жак не может обнаружить ничего худого. Что же там было? Отец состоял в социалистической партии. Поэтому и Жак в 1936 году записался в организацию социалистической молодежи. Попал не на ту полочку, но не каяться же поминутно всем и каждому. А хозяева, стало быть, думают: раз социалист – значит их пособник. К Жаку это, во всяком случае, не относится. Другое дело те, в Париже, министры разные или здешний мэр Гужон со своим заместителем из РПФ[4]4
Фашистская организация де Голля. – Прим. ред.
[Закрыть] – те, конечно, очень даже могут сподличать, даже наверняка. Но только уж не он. Жак вовсе не состоит в социалистической партии, да и где она, эта самая партия? Что бы там ни было, эти мерзавцы, должно быть, именно поэтому и рассчитывают на него. Ну что ж, придется сказать словцо вслух, в открытую, чтобы все стало честным, ясным… Где-нибудь сказать при докерах – в столовой или в их знаменитой пивной «Промочи глотку». Ладно! Ну, а почему Декуан так себя ведет? То, что Жак услышал от него позавчера, так далеко от всего, что передумал он сам за последние дни! Насчет Декуана сомневаться не приходится – он доволен, что для него все так хорошо сложилось. Но ведь все знают, что Декуан его приятель. Вот и вообразили, что Жак тоже рад-радешенек. Кто знает, возможно и сам Декуан распространяет такие слухи. Ладно! Тогда он отведет Декуана в сторонку и без шума, без крика скажет ему, кто такой Жак, чтобы Декуан знал, с кем имеет дело.
Погрузившись в размышления, Жак подгребал ячмень, потом почти машинально отходил в сторону, чтобы дать дорогу грейферу, и снова сгребал зерно, которое бежало к воронке, обтекая грубые башмаки грузчиков. Всех тут захватывало непрерывное однообразное движение, круговорот зерна и мыслей.
«Они, должно быть, имеют на тебя виды». Погоди. В прошлом вроде как все благополучно, ну а впереди что будет? Вдруг он поддастся им, попадет в силок? Да нет, что он, ребенок, что ли? А все-таки… Жак сейчас об этом даже думать не хочет. Если завтра, скажем, велят грузить пароход для отправки во Вьетнам, ты, конечно, откажешься, ты останешься таким же, как и сейчас. Ясно, не пойдешь на подлость. А если… вообрази, если Дюпюи или кто-либо другой скажет тебе резкое слово, намекнет на твою «удачу», – что ты тогда сделаешь при твоем-то характере, а? Даже нынче ты дважды наскочил на Дюпюи. Почему? Да потому, что очень ты обидчив, все думаешь, не считают ли тебя товарищи мерзавцем, хозяйским прихвостнем. Ходишь, как преступник, как прокаженный, потому что посмел работать при нынешнем положении. Все время оглядываешься – а вдруг товарищи за тобой наблюдают. Глядите-ка, хорош гусь! Сегодня опять его наняли! Сейчас в трюме ты, брат, от каждой тени шарахаешься, всё наверх, на палубу смотришь – может, еще кто видит, что ты работаешь. Как будто чувствуешь себя виноватым. А при твоем-то характере… Еще удивительно, как ты до сих пор не объявил Дюпюи и прочих своими врагами, чтобы оправдать себя, и не переметнулся к сволочам. Жак вдруг вздрогнул всем телом. Нет уж, оставьте! Но ведь ты же об этом думаешь, братец!..
– Как это ты в такую погоду ухитрился так распариться? – спрашивает Дюпюи.
Ничего не отвечая, Жак размазывает по лицу пот рукавом обтрепанной куртки.
– У тебя платка, что ли, нет? – продолжает Дюпюи, вынимая из кармана громадную клетчатую тряпку.
– Спасибо, – говорит Жак и, взяв платок, одним движением быстро вытирает лицо.
Дюпюи хочется как-нибудь возобновить разговор. Но выдумка с платком не особенно удачна. Впрочем, это как-то получилось само собой. Но почему получилось – понятно. Дюпюи снова вспомнил Анри. «Надо быть чутким… Не забывай, что всем сейчас нелегко. Надо объяснять… Конечно, будь осторожен, не прими какого-нибудь негодяя за хорошего парня. Но негодяев не так уж много. Иногда можно толкнуть человека на плохое дело, если не разобраться и сразу отрезать». В этих словах – весь Анри, это вечная его песня, и подчас она даже надоедает. А все-таки знаешь, что он прав.
Минута передышки. Очевидно, с грузовиком что-то случилось. На этот раз сам Дюпюи отводит в сторону Жака. И сейчас оба чувствуют, что они действительно братья, и даже спор этот как будто их сблизил.
– Слушай, Жак, – говорит Дюпюи, – я не желаю тебя ни к чему понуждать. Ты сам подумай, что тебе делать.
– Вот она, нищета, – вслух размышляет Жак. – Краснеешь, стыдишься, что тебя назначают на работу, а все потому, что люди без работы сидят.
Дюпюи снова запинается. Ну, представьте себя на его месте: что бы вы сказали Жаку? И Дюпюи говорит первое, что ему приходит в голову:
– Вот через нищету-то они и хотят нас заполучить. Значит, держи ухо востро.
В сущности, это не то, что следовало бы сказать. Вернее, недостаточно. Дюпюи и сам это понимает. И все же его слова напомнили Жаку очень многое. Нужда для него – это Франсина, жена. Она никогда не заплачет при нем, крепится. Поженились они всего пять лет назад. Франсина совсем молоденькая. У них уже двое ребятишек – сын и дочка, оба красавчики. А теперь она ждет третьего. О своей беременности Франсина узнала в самые тяжелые дни безработицы. За неделю до этого пришлось отправить старшего мальчика в Тур, в семью виноградаря, который решил взять к себе ребенка безработного докера. А девочке уже давно не покупали молока. Приходилось – до чего только не доводит жизнь! – класть ей в рожок размятый в воде вареный картофель. В тот вечер они оба не сказали ни слова, а все же между ними шел разговор о самом страшном. Жак не посмел дать ей совет. Но он прекрасно знал, о чем думала Франсина теперь, когда в ней зародилась новая жизнь; она понимала, что это пока еще только комочек жизни и так легко превратить его в ничто, но она сознавала свою ответственность, и у нее разрывалось сердце. И сейчас Жака пронзает жгучая боль при этом воспоминании. Они молча сидели с женой, а девочка играла на полу у их ног. Она ласкала, целовала свою самодельную куколку, свернутую из тряпок; Жак боялся, что это привлечет внимание Франсины, но не решался взять куклу из рук дочери. Вечер выдался на редкость тихий, только с моря доносился иногда жалобный мерный лязг якорной цепи бакена. Франсина вдруг потеряла власть над собой и начала потихоньку плакать; крупные слезы падали на вязанье, на руки, которые быстро-быстро перебирали спицы, словно действовали сами по себе и знали только одно: нужно вязать этот крохотный чепчик, который был почти готов, и если распялить его двумя пальцами, видно, для кого он предназначается. Жак тогда крепко обнял жену, и она, не удерживая больше слез, зарыдала, прижавшись к нему. Мало помалу она затихла.
И Дюпюи мыслями тоже был не здесь. От всей этой жизни становишься не в меру задумчивым, сосредоточенным. Жак не отрывал теперь глаз от стального стояка, поддерживавшего галерею, – на нем была выбоина с острыми краями. Должно быть, во время войны судно попало под обстрел или в бомбежку. Если неосторожно пройдешь мимо, заденешь, можно покалечиться об эту страшную закорюку с острыми, как кинжал, краями. Поскользнется человек на куче ячменя – и рассечет ему плечо или голову…
Самое страшное, что нищета не щадит ничего. Голод и холод – это еще не все… Она, подлая, прокрадывается всюду, уродует и тебя самого и твоих близких, вползает в самые чистые, в самые сокровенные глубины человеческой души, касается самого лучшего, самого дорогого тебе. Пачкает все. Его Франсина иногда колеблется и слушает не Полетту, жену Анри Леруа, а эту Люс, жену Декуана, которую Жак, откровенно говоря, терпеть не может.
Ну и привязалась же к нему эта мысль… Жак не сводит глаз со стального стояка. Изувечить себя – только одно и остается…
– Дюпюи! А что, если получить страховые?
С теперешним двухнедельным заработком можно будет прожить некоторое время. Ведь страховые выплачивают из расчета последнего полумесячного заработка. И тогда уж никто из товарищей не взглянет на него косо… А может быть, даже догадаются. Нечестно? А доводить людей до нищеты – это честно?
Дюпюи не по душе подобные истории. Жак быстро оглядывается – здесь никто не может их видеть; вытаскивает из кармана складной нож, открывает его.
– Послушай, Дюпюи, окажи услугу!
Он намечает повыше локтя знак, похожий на римскую цифру V. Можно разрезать так, чтобы вышло похоже, и Жак показывает глазами на стальную закорюку.
Дюпюи через плечо глядит на Жака, и ему хочется отвернуться. Не из-за раны, конечно, не из-за крови. В порту всего навидались. Дня не проходит без несчастных случаев. Как часто, пожимая руку товарищу, чувствуешь непривычную пустоту на месте оторванного пальца. Но это другое дело. А что, если Жак провокатор? Глупость сделать недолго. Тебе покажется, что нужно помочь, а обвинять будут партию.
Дюпюи отрицательно качает головой и отходит. Но вдруг, словно предчувствуя беду, оглядывается.
– Жак!
Он успел заметить только, что Жак изо всей силы навалился на острый край выбоины, словно выламывал дверь. Рукав разодрался, брызнула кровь.
– Ох, чорт, больно! – глухо простонал Жак, зажимая рукой рану.
Докеры услышали крик Дюпюи, сбежались узнать, что случилось. Потом позвали десятника.
– Я видел, как он свалился и налетел на стояк, – говорит Дюпюи. – С кучи соскользнул. Надо быть поосторожней, ребята, ведь эта штука вся ржавая.
Но, взяв под руку побледневшего как полотно Жака, он тихо шепчет ему:
– Малодушие тебе не к лицу.
Жак не совсем понял его слова. Впрочем, и Дюпюи затруднился бы объяснить, что он собственно имел в виду.
Решиться на такое дело, только чтобы не наняли работать! А ведь Жак не лентяй. Уж кто-кто, а Жак всей душой любит свою работу.
Товарищи сняли с него куртку. Разорванная рубашка прилипла к ране.
– Как бы ему на холоде хуже не стало.
Ну и разворотило! От плеча вдоль всей руки из широкой раны течет кровь.
В ворохе ячменя расплывается красное пятно. Так иной раз к пиву, которое мирно пьет ничего не подозревающий обыватель, примешивается капля человеческой крови.








