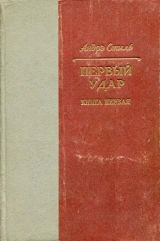
Текст книги "Первый удар. Книга 1. У водонапорной башни"
Автор книги: Андрэ Стиль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
О чем мечтают люди ночью
Давно пора убрать клетку. Пусть уж лучше голая стена, чем пустая клетка.
Конечно, они сглупили, не надо было продавать попугая. Хотя это только так говорится, что продали, а на самом деле отдали за долг. Попугая забрал лавочник, отпускавший в кредит молоко. Ему приглянулась красивая птица. Лавочник уверял, что попугая он берет только в качестве залога, желая помочь соседям, и, конечно, отдаст обратно, когда ему уплатят долг. С попугаем было как-то веселей: он стал членом семьи. Детишки горько плакали. Им объяснили, что попугая унес на время тот самый дядя, который дает молоко: иногда ведь папа и мама целый месяц не платят ему денег. Подумаешь – молоко! Дети считали, что оно само собой берется. И попугаи тоже. Ведь попугай у них давно. Достался он Анри и Полетте от одного моряка, который расчувствовался под хмельком и уступил диковинную птицу за бесценок; получилось очень кстати, вместо свадебного подарка. Клетка обошлась дороже самого попугая. Но теперь, когда она опустела, действительно лучше убрать ее совсем.
– Завтра же я сниму клетку, – заявляет Анри, – не знаю только, куда мы ее денем.
– Давай пока спрячем. Мало ли что бывает. А вдруг опять пригодится, – отвечает Полетта.
Они только что легли. Ночь выдалась славная, тихая, яркий, чистый свет луны льется в щели ставен. Анри и Полетта лежат рядышком, держась за руки, словно дети.
– Знаешь, Анри, это теперь для меня самые лучшие часы.
Анри сжимает пальцы Полетты и поворачивается к ней. Другой рукой он нежно гладит ей плечо, шею.
– Полетта!
Он целует ее в уголок рта, потом укладывается поудобнее, прижавшись лбом к ее щеке.
– Ты устала? Голова у тебя не болит?
– Нет, ничего.
Совсем рядом слышится ровное дыхание ребятишек.
– Ну, как его ручка, лучше?
– По-моему, подживает, но уж очень сильный ожог. Не знаю, хорошо ли мы сделали, что прикладывали пикриновую кислоту, как ты думаешь? Правда, ничего другого не оказалось, а боюсь, как бы от кислоты не стало хуже.
– Какое несчастье, что им приходится сидеть одним. Я уверен, что при тебе ничего бы не случилось.
Полетта чуть было не ответила: «А на что бы мы стали жить, если бы я не зарабатывала?», но во-время удержалась. Она отлично знает, о чем думает Анри и о чем он никогда не говорит вслух: уже не первую неделю вся семья живет только на ее заработок. А для мужчины это очень нелегко. Когда за день столько накипает на сердце, любить, жалеть как раз и означает не касаться, не трогать всех этих ужасных вопросов. Нельзя говорить все, что думаешь, а то невольно заденешь близкого человека неосторожным словом. Конечно, без этой проклятой нищеты и всего, чем она чревата, любовь означает совсем другое. Тогда можно сказать любимому все, что приходит в голову, не выбирая слов. Тогда делишься всем без утайки. И не нужно замыкать свое сердце, гнать прочь мучительные мысли. Но Анри сейчас думает о своем.
– Если бы у меня было свободное время, – говорит он, – я бы мог найти работу; хоть какую-нибудь, а нашел бы.
Но теперь уже Полетта поворачивается к Анри и, смеясь, щиплет его за руку.
– Не болтай глупостей. Ты отлично знаешь, что я об этом совсем и не думаю.
Анри вытягивается на спине. Ему приятно лежать чуть ниже ее плеча, словно она старше его, словно он у нее под крылышком. Как хорошо, что Полетта все понимает… Еще отраднее чувствовать рядом с собой подругу, когда знаешь, что она одобряет все твои поступки.
– Мы ведь хотим изменить нашу жизнь, ради этого стоит отдать все свои силы, – продолжает Анри, как бы желая окончательно убедить Полетту и почувствовать, что жена разделяет его мысли. – Ну вот, скажем, я решу в один прекрасный день, что главное – это выпутаться нам самим. Начну подрабатывать, ведь не глупее же я других; предположим даже, мне удастся принести домой немного денег, – все равно и у нас дома и у всех будет все та же нищета. Надо смотреть глубже. Конечно, нам сейчас тяжело, тяжелей, чем другим, но мы знаем, что рано или поздно все переменится. Станет на свое место. Мне приятно будет сознавать, что и я тоже послужил общему делу… Я считал бы, что прожил свою жизнь напрасно, если бы не сделал всего, чтобы приблизить победу.
Полетта ласково прикладывает палец к его губам, словно желая сказать: «Да знаю, все знаю, можешь меня не убеждать». Анри замолкает на минуту и щелкает зубами, как будто хочет откусить дерзкий палец.
– Ну, кончил свою речь? – поддразнивает Полетта.
Ночь и тишина приводят с собой юность. Сон спускается ясный, тихий, как летние сумерки. Сам ты чувствуешь себя чистым, легким, и на минуту от тебя отступают все тяготы жизни. И пусть ты беден, но у тебя молодые руки, молодые мускулы, молодые губы. Тебе двадцать пять лет. В твоих речах приоткрывается будущее, тебя переполняют молодость, желание жить, любить.
– Будто я не понимаю, куда ты клонишь. Ты завел разговор потому, что хочешь согласиться, если тебе предложат… И ты решил подготовить меня, чтоб я не ворчала. Да?
Анри уклоняется от прямого ответа.
– Знаешь, как можно ошибиться в человеке. Я всегда считал, что Франкер недолюбливает Жильбера. Еще неделю тому назад на собрании он говорил мне: «Не забывай, что Жильбер учитель, он нами, докерами, не особенно интересуется, потому и не пришел». Сегодня я встретил Франкера и говорю ему: «А знаешь, почему Жильбер не пришел на собрание?» Франкер даже побледнел. Он понял, что был неправ, он уже все знал. Он мне ответил почти со злостью: «Ну ладно, ладно. Пожалуйста, не приписывай мне того, чего я вовсе не говорил. Я сам знаю, какой Жильбер преданный человек. Не в этом дело. Если бы ему больше помогали в работе, он не дошел бы до такого состояния…» Оказывается, Дюпюи уже все сообщил Франкеру. Он не знал только, в какой санаторий уезжает Жильбер и что врачи потребовали немедленного отъезда. «Видишь, – говорю я, – прежде чем обвинять человека, надо сто раз подумать». Его это задело за живое, и он, знаешь, что мне ответил? «Нехорошо с твоей стороны, Анри, так говорить. Ты меня просто не понимаешь. Я тебе сейчас все объясню… Вот, например, на собрании ты сказал Роберу о том, что нам требуется мужество, помнишь? А Жильбер не мог бы так резко сказать, потому что сам-то он не безработный, он аккуратно получает жалованье в школе. Поэтому он не мог бы все объяснить Роберу, как ты, как равный равному, с тем же авторитетом. Конечно, Жильбер извелся на работе, и я понимаю, что он жертвует собой, как и все наши товарищи. Только со стороны это меньше заметно. Робер тогда тебе ничего не посмел возразить, а Жильбера он мог бы, пожалуй, попрекнуть». Я сказал Франкеру, что вовсе не хотел его обидеть, да и, по правде говоря, я с ним тогда обошелся не так, как нужно. Франкер этого не заслужил… «Ты совершенно верно говоришь, – заявил мне Франкер, – что мы недостаточно бережем наших товарищей, которые живут в таких трудных условиях. Люди не щадят себя, а мы ничего не предпринимаем. И таких много – и в руководстве и у нас. В руководстве – Морис, здесь – Жильбер. Как будто заботиться о своем здоровье стыдно. Возьми хотя бы депутата Жоржа. Его замучила какая-то желудочная болезнь, а он об этом и не думает. Этой беззаботностью гордиться нечего. А ведь у нас чуть ли не хвастаются: я болен – выходит, я самый преданный, прямо герой». Какой смешной Франкер – говорит, а сам руками размахивает, а руки у него длинные-длинные… Ты спишь?
– Какой же ты у меня глупый! Я вовсе не сплю, а думаю, что никогда бы не допустила тебя до такого состояния. Попробуй только! Будешь иметь дело со мной.
– Видишь ли, Полетта, Жильбера доконало то, что он живет один, без семьи. Одному, говорят, легче: жены нет, детей нет. Значит, ты можешь целиком отдаться делу и никто от этого не страдает. А ты как считаешь?
Полетта молча щиплет Анри за руку, как бы желая отомстить ему за такой намек.
– Но, с другой стороны, каждый вечер после собрания возвращаться домой, проехав на велосипеде километров двадцать, а дома не топлено, постель холодная, поесть не приготовлено. Знаешь, Жильбер мне сам признавался, что он по вечерам и голода не чувствует, а думает только о том, как бы лечь в постель, сил нет даже суп разогреть… И в смысле душевного состояния это тоже нелегко; ведь учительствовать – не то, что работать на заводе или в порту, когда вокруг тебя вечно народ. Учитель, пусть он даже очень любит детей, все-таки чувствует себя одиноким, не с кем слова сказать.
Анри прижимается к Полетте.
– А мы с тобой будто влюбленные – целый час болтаем. Если бы ты знала, до чего же мне с тобой легко.
– Ох, и хитрый, – говорит Полетта. – Ведь вижу, ты еще что-то задумал. – Она берет руку Анри и баюкает ее, как куклу. – Умеет подластиться! Если тебе предложат, значит, ты согласишься?
– Надо же кому-нибудь работать.
– Ладно, ладно… Признайся лучше, что ты просто гордишься. Помнишь, когда тебя в бюро секции выбрали, ты целую неделю ходил сияющий. От меня ничего не скроется.
– Во-первых, об этом по-настоящему еще не было речи, может, мне просто показалось. А главное, не знаю, справлюсь ли я… Что я по сравнению с Жильбером?..
Вернувшись под вечер домой, Анри рассказал Полетте о болезни Жильбера и в заключение добавил: «Может, я ошибаюсь, но весьма возможно, что товарищи предложат мне заменять Жильбера».
Полетте хочется поддразнить мужа, и она говорит притворно строгим тоном:
– А если я скажу – нет?
– Ты не скажешь!
– Ну а если все-таки скажу?
Анри перестает смеяться.
– Ты что, серьезно?
Полетта чувствует, как Анри весь сжался.
– Это было бы нехорошо с твоей стороны, – говорит он.
Полетта понимает, что этими сдержанными словами он не выразил и сотой доли своих мыслей.
– Я же шучу, дурачок, – говорит она. – Но видишь, какой ты! Уже решил, а моего мнения спрашиваешь только для порядка.
– Решил, решил… Не я решаю, а товарищи. Если, конечно, они меня выдвинут, я не стану отказываться. Но это вовсе не значит, что я очень уверен в своих силах.
Полетта тихонько смеется.
– Ты всякий раз так говоришь.
Женщины созданы для того, чтобы вселять в душу прекрасное чувство уверенности. Сколько раз Анри убеждался в этом. Когда рядом с тобой твоя Полетта, все кажется легко.
– Тут вопрос не только в том, справлюсь я или нет. Ведь, кроме докеров и коммунистов, я никого не знаю. Я никогда не сталкиваюсь с торговцами, с ремесленниками, с крестьянами. А ведь для секретаря секции сейчас, в момент американской оккупации, когда возникает столько вопросов, важнейшая задача – это суметь вовлечь в борьбу не только рабочих, но все слои населения. Задача реальная, разрешимая. Несомненно, есть для этого пути, но, с другой стороны, враг столько сделал, чтобы отдалить докеров от прочих. Потому и селят нас всех вместе, стараются загнать подальше. И во всем та же политика. А как поднять людей, когда не знаешь, чем они дышат, что думают? Мне, пожалуй, будет трудно найти с ними общий язык хотя бы потому, что я занимался только портом, и даже с беспартийными рабочими общаюсь мало, не говоря уже о нерабочем элементе. В ту ночь, когда пропал мальчик Гиттона, мы поехали его искать с доктором Деганом. Я сначала не знал, о чем с ним говорить. Еду в машине и молчу; он говорит, говорит, а я отвечаю только – «да» и «нет». Мы в своем кругу толкуем все об одном и том же и редко касаемся вопросов, которые интересуют какого-нибудь торговца или интеллигенцию. Между тем таких вопросов немало, и они важны и для нас, хотя, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к политике. Доктор Деган, например, говорил сначала о детях, потом перешел к гирям и штангам – видно, это его конек, – рассказывал об охоте, о медицине, об экспонатах, которые следовало бы выставить в музее Вивьен. И самое интересное: о чем бы мы с ним ни беседовали, он каждый вопрос сводил к политике и, думаю, вовсе не из вежливости, не ради меня. Когда речь зашла о тяжелой атлетике, он тут же привел в пример достижения советских гиревиков, назвал имена чемпионов, перечислил рекорды. Он, оказывается, знает все это не хуже, чем я Историю ВКП(б), – помнишь, ты мне подарила книгу? Сказать откровенно, я никогда атлетами и гиревиками не интересовался, даже советскими чемпионами. А уж на что, кажется, докеры мастаки по части тяжелой атлетики.
Полетта шутливо зажимает ему рот.
– Скажи, ты до самого утра собираешься разговаривать?
Анри мягко отводит ее руку и говорит:
– Когда думаешь о некоторых вещах, и сон пропадает. Такая охватывает радость, что, кажется, всю бы жизнь не спал. И голова такая ясная…
Да, ночь меняет все… Совершенно меняет; в том уродливом мире, в котором мы живем, человеку требуется завеса ночи и тишины, чтобы дать волю своим чувствам и мыслям.
– Ничего-то я не знаю, – вздыхает Анри. – И людей не знаю, если не считать тех, кого встречаю на собраниях. Ты хоть у мясника сталкиваешься с разными людьми, в лавках бываешь, а я… Вот что меня беспокоит. Если меня выберут, мне как раз в этом отношении будет всего труднее. Кстати, о чем толкуют у мясника?
– Ну, они скорее за…
– За кого?
– За американцев.
– Ничего, передумают, уверен, что передумают. Не может быть, чтобы не передумали. Ведь факты сильнее.
Мальчик заворочался на тюфяке, и на минуту Анри умолкает.
– А все-таки они презирают нас, – продолжает Анри. – Докеров они ни во что не ставят. А ведь именно мы сразу поняли, что происходит, и им еще поможем понять. Весьма возможно, что мне придется руководить их сопротивлением против оккупантов. Понимаешь, что это значит? А сейчас не удивительно, что у них такая путаница в голове.
Потом, без всякого перехода, Анри говорит:
– Какая ты у меня красавица! – Он нежно закидывает руку за шею Полетты и гладит ее плечо.
– Хороша красавица, вся коса разлохмачена, тебе только не видно. Потрогай сам.
– У тебя никогда не бывало, что вдруг ни с того ни с сего вспомнится какая-нибудь песенка? У меня вот сейчас вертится в голове один мотив, только никак поймать не могу: ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля.
Анри рассеянно перебирает волосы Полетты.
– Сам не знаю, почему эту песню вспомнил, а не какую-нибудь другую.
– А я знаю, почему. Потому, что в ней говорится:
Если друг в бою падет,
Верный друг ему придет
На смену…
– Нет, не потому. Я и не думаю о таких вещах. Мне ничто не грозит.
– А там, помнишь, какие еще строчки есть?
Ночью под покровом тьмы
В хижине убогой мы
Мечтаем…
– Да, это больше подходит.
Анри прикрывает ладонью веки жены.
– Не открывай минуточку глаза. Вообрази, что здесь у нас все, как там. Мы с тобой живем, как тамошние рабочие, – в большом доме с центральным отоплением и прочими удобствами, у нас светлая комната. Дети спят каждый в своей кроватке. Я, конечно, был бы стахановец, потому что там, должно быть, есть и докеры-стахановцы. Всего у нас с тобой вдоволь. Кончили работать, скажем, в шесть часов. И никаких у нас с тобой больше забот нет. Детишки чистенькие, умытые, резвятся в сухой и теплой комнате, игрушек у них уйма, и присматривают-за малышами товарищи воспитательницы, все в белых халатах. Мы с тобой решили прогуляться под ручку, совсем как влюбленные. А потом заглянули в клуб на площади: где теперь отель «Модерн» – там будет наш клуб. А в нем библиотека, много книг, и все хорошие; есть в клубе и шахматы, и шашки, и карты – и, конечно, радио, телевизор, разные пластинки, все что душе угодно, даже небольшой зал для демонстрации кинофильмов и для театральных постановок. И мы проведем вечер в тысячу раз веселее и лучше, чем всякие там богачи. Возвращаемся домой обнявшись. Верно, Полетта? У меня даже слезы на глазах выступают, так хорошо об этом думать. Как будто я смотрю советский фильм: когда появляются на экране счастливые, смеющиеся лица наших советских товарищей, у меня глаза затуманиваются от слез. Знаешь, что я тогда делаю? Сожму изо всех сил кулаки, чтобы совладать с собой… Потом мы заходим за ребятишками – детский сад в первом этаже того большого дома, где мы живем. Берем их на руки, они уже сонные-сонные, особенно наша Ненетта, она всегда сразу засыпает. Несем их домой, укладываем в постельки. И нам уже пора спать. Вот мы вместе, вдвоем, и нет этих вечных забот. И мы думаем только друг о друге. Верно ведь? Думаем о своем… Верно, Полетта?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Особняк «господина Эрнеста»
Да, старика, по его любимому выражению, на мякине не проведешь, никто не посмеет сказать, что он не догадался. Как только он в первый раз заметил, что какие-то подозрительные типы расставляют вешки и смотрят в свою трубку, он тотчас решил пуститься на разведки и объявил супруге:
– Тут дело нечисто. Они что-то затевают. Только бы не…
Пришельцы были еще далеко на пустыре, они смешно приседали около своей астролябии, переставляли ее то ближе, то дальше, а вокруг теснились и глазели мальчишки.
Господин Эрнест подошел поближе, но не сразу смешался с толпой ребятишек, сперва подкрутил пышные седые усы и с самым непринужденным видом начал вполголоса напевать: «бум-бум-бум».
– Стало быть, мерите? – спросил он.
Те взглянули на него и ничего не ответили – будто сам не видишь, что мерим. Мальчишки многозначительно переглянулись, подталкивая друг друга локтями. А ну, посмотрим, скажут они что-нибудь этому старику или нет. Он, гляди, какой важный, должно быть, генерал в отставке. Господин Эрнест молча проследил, в каком направлении идут вешки, несколько минут смотрел, как землемеры дергались, словно паяцы на веревочке, то направо, то налево – глядеть тошно! – потом медленно направился обратно и снова заладил «бум-бум», что означало у него напряженную работу мысли. Шагов через двадцать старик обернулся. Так он и думал – линия вешек шла за ним по пятам. Если поведут ее и дальше в том же направлении, значит, упрутся прямо в дом. Не ясно только, обойдут они дом справа или слева. Шагая к своему крылечку, господин Эрнест все время чувствовал за спиной эту линию вешек, словно они выслеживали его – не сбился ли он с дороги.
Еще на пороге он крикнул жене:
– Леа, старуха! Из них прямо слова не вытянешь. Тэк-тэк-тэк. Так и запишем… Это подозрительно.
Страшно стало жить в их районе. Как только начинаются какие-нибудь работы, невольно возникают самые мрачные подозрения.
– Одно из двух: или хотят, как немцы, устроить здесь аэродром, или прокладывают свой пресловутый нефтепровод…
На следующий день там, где начиналась намеченная вчера линия, обнаружилось нечто новое, довольно крупное по размерам, а вешки продолжали наступать на поселок и подошли совсем близко. Посмотрим, что они еще затевают… Хотя на мякине тебя и не проведешь, но все-таки в твои годы мякину от овса не сразу отличишь. Господин Эрнест снова пустился на разведки. Оказалось, что они понатыкали в ряд металлические столбы. Вверху столбы были загнуты крючком, смотревшим в сторону поля, и в этих крючках имелись отверстия – несомненно, для проволоки. Ого, дело табак! – как выражается Андреани. Яснее ясного. Они собираются обнести лагерь изгородью из колючей проволоки. И ориентируются при этом на водонапорную башню. Однако, надеюсь, домов не захватят, и моего в частности.
Вешки все ближе и ближе подступали к поселку, и теперь уже не только дети, но и взрослые заинтересовались происходящим. Женщины глядели издали, с порога своих лачуг. Мужчины подходили ближе, задавали вопросы и были куда настойчивее, чем господин Эрнест во время своей первой вылазки. Эрнест с сильно бьющимся сердцем наблюдал, как люди вдруг начинали размахивать руками, слышал их громкие, взволнованные голоса. Старик, как обычно, держался поодаль от рабочих. Он ничего не имел против них, но мало ли кто мог быть в такой толпе. Однако на сей раз он не выдержал и, подойдя, громко спросил, не стесняясь присутствием незнакомцев с портфелями и записными книжками:
– Вы видели, какие они там столбы врыли?
– Еще бы не видеть!
– Я нарочно совсем близко подходил. Столбы с отверстиями для проволоки.
– А как же иначе. Ведь для того и делается.
Разговор становился все громче и громче, и господа с портфелями сочли за благо удалиться. Так и не удалось установить, куда направятся вешки, дойдя до границы поселка, – то ли разойдутся по обе его стороны и он останется вне лагеря, то ли возьмут его в обхват с тыла.
– Леа, старуха, я опасаюсь… Тэк-тэк-тэк. Очень опасаюсь!..
Через два дня незнакомцы явились в сопровождении двух охранников в касках, с винтовкой за спиной, с дубинкой у пояса, и снова вешки пошли в наступление на поселок, перерезая его на две части. Дом господина Эрнеста оказался как раз на захваченной территории.
Старик вернулся домой совсем расстроенный.
– Леа, Леа, иди сюда! Ах, ты здесь. Немедленно бегу к мэру. Они не имеют никакого права. Участок мой, я его купил!
– Вот видишь, я тебе тысячу раз говорила, не нужно было строиться здесь. А ты, по обыкновению, не послушался.
– Нашла что вспомнить, а главное, нашла время попрекать!
Господин Эрнест был взбешен. Он кусал свои пышные, внушительные усы. Леа сидела молча, как в воду опущенная. От таких неприятностей и заболеть недолго.
Но к мэру господин Эрнест так и не попал. Впрочем, чего и ждать от социалистов. И как это РПФ могла пойти на избрание мэра-социалиста! Да… Все-таки Эрнест дождался приема у заместителя мэра, одного из руководителей местной организации РПФ, но тот только твердил: «Мы тут бессильны, так распорядились американцы. И вообще это зависит от военного ведомства». Он даже не объяснил: сам-то он за или против? Впрочем, Эрнесту наплевать, что эти РПФ думают, раз они, видите ли, бессильны. «Но ведь американцы пока еще не начали работы. Быть может, если вам удастся побудить мэра вмешаться, они изменят свои планы?» Напрасные старания! Заместитель как будто не слышал и произнес несколько невразумительных фраз, где двадцать раз повторялось «господин мэр», «господину мэру», «господина мэра»… Больше ничего он выдавить из себя не мог. Ну, погодите! Чтоб я на следующих выборах голосовал за них? Да никогда в жизни!
А на другой день к господину Эрнесту явился Гиттон, тот самый «троглодит из дота», как называл его мэр. Эрнест, сидя у окна, курил трубку и видел, как Гиттон заходит то в один, то в другой барак. Старик крикнул жене:
– Смотри-ка, к нам идет. Чего ему опять надо?
– Не зови его в комнаты, а то он натопчет, – ответила Леа и демонстративно направилась в спальню.
Эрнест принял гостя свысока, с высоты лестничной площадки.
– Что вам угодно?
Опять, наверно, явился с подписным листом. Эрнест обычно давал деньги, чтобы не отстать от других. Перед тем как открыть двери, Эрнест крикнул жене: «Кошелек при тебе?» Гиттон в это время стоял на крыльце и, быть может, слышал.
– Здравствуйте, господин Эрнест!
Хочешь или не хочешь, но приходится забирать товар в тех же лавках, что и соседи. А поскольку торговцы называли Эрнеста просто «господином Эрнестом», не добавляя фамилии, все остальные тоже стали так его называть.
– Здравствуйте. Что вам угодно?
– Мы организуем комитет защиты жилищ – в связи с угрозой захвата их американцами. Я зашел узнать, не захотите ли вы вступить.
– Тэк-с!
Старик чуть было не повернулся и не окликнул жену, которая с недовольным видом стояла в дверях спальни, но во-время удержался. Не годится ему, мужчине, в присутствии другого мужчины ждать решения от женщины! Поэтому он кратко осведомился:
– А каковы условия?
Господин Эрнест подразумевал взносы, которые требуются при вступлении в любое общество. Гиттон пожал плечами.
– Условия? Да никаких. Политические взгляды здесь роли не играют. Мы все в равной мере под угрозой.
– Я спрашиваю, платить нужно?
– Нет. И платить не нужно.
«С первого же слова – недоразумение, – вздохнув, сказал про себя Гиттон. – Старик говорит о деньгах, а я думал о политике. Надо следить за каждым своим словом».
Стоявшая в конце коридора старушка смотрела на гостя настороженным, сердитым взглядом и без стеснения громко закричала мужу:
– Запри двери, холоду напустишь!
– Хорошо, сейчас, – ответил Эрнест.
Но для того, чтобы закрыть двери, требовалось либо выйти с Гиттоном на улицу, либо пригласить его в комнаты, потому что предложение стоило обсудить подробнее.
– Конечно, почему бы мне и не вступить?
– Вы совершенно правы, надо же защищаться. Значит, мы вас известим.
Как! Гиттон уже уходит, ничего не объяснив толком? Ну что за люди! Очевидно, привыкли все на ходу решать, на скорую руку. Присоединяетесь? Да? Нет? Им все кажется простым. Раз-два и готово. Вступил – и точка. Вас, видите ли, известят.
– А что мы будем делать в этом комитете? Присоединиться недолго. Но если мы ничего не будем делать – значит, все это зря.
В силу долголетней привычки Гиттону казалось настолько ясным и само собой разумеющимся назначение комитета защиты, что он очень удивился, как это можно не знать таких простых вещей.
– Как это «что делать»? – переспросил он. – Да много что можно сделать. Хотя бы, к примеру…
– Вот что, вы лучше войдите. А то я замерз, как собака. Мне ведь не двадцать лет. Входите, входите, поговорим.
Леа, по-прежнему дежурившая у дверей спальни, сделала страшные глаза. Никак ей не втолкуешь, что надо все-таки сдерживаться при людях. Конечно, гость понял, что хозяйка дома не в восторге от его посещения. Да он еще, как на грех, назвал ее «мамашей».
– Хоть ноги-то вытрите! – закричала Леа, не выходя из своего укрытия. А потом так же пронзительно скомандовала мужу:
– Проведи его в кухню!
– А вы недурно устроились, – сказал Гиттон, оглядев стены и потолок. – Ничего не скажешь, молодец!
– А главное, все сам, своими руками, – подхватил польщенный Эрнест. – Один только рабочий мне помогал. Все я сам сделал: чертежи, фундамент сложил, и за плотника работал, и за каменщика – за всех. Только деревянную обшивку заказывал столяру. Но, должен вам заявить, мне это даром не прошло, состарил меня этот дом…
– Вы счастливец, – сказал Гиттон. – У вас еще больше оснований защищаться, чем у всех нас. Мы-то живем в бараках, в такие же бараки нас и выселят.
– Как так «выселят»?
До этой минуты Эрнест даже не допускал подобной мысли; он побледнел, беспомощно захлопал красноватыми веками.
– Леа, Леа, да ты послушай! Леа, ты слышишь, что говорит… – Эрнест показал на Гиттона и нерешительно добавил: —…господин… Они хотят забрать себе все, что попадает на территорию аэродрома.
– Быть этого не может! – в ужасе воскликнула Леа, выглянув из спальни. – Они не имеют права!
Гиттон выразительно махнул рукой. Что для них права!
– Право? – повторил Эрнест, – Будто ты не понимаешь…
– Но ведь это наша собственность, – перебила его Леа. – Вы, быть может, этого не знаете, так знайте. Это невозможно. Кто им позволит?
– Это больше, чем наша собственность, – добавил Эрнест, потрясая перед Гиттоном большими руками с узловатыми пальцами, и громко хлопнул ладонью о ладонь. – Полюбуйтесь-ка, вот этими руками все сделано! Ничего не просил у правительства, только разрешение выхлопотал. Одного гроша, ломаного гроша они в это дело не вложили. Послушайте, господин… простите… ах да, Гиттон. Так послушайте, вы ведь не знаете, как я дом построил. Всю жизнь я мечтал о собственном домике, еще перед войной прикопил денег и мог бы построить что-нибудь посолиднее. Но, слава богу, я вовремя почувствовал, к чему идет дело. Один раз со мной уже сыграли шутку во время войны четырнадцатого года. Вместо дома в Камбре, который мне остался после отца, я получил одни развалины… Поэтому я вовсе не желал строить для того, чтобы другие разрушали. И сколько раз, Леа, мы во время войны с тобой радовались, что не поспешили. А потом, когда война окончилась, все уверяли, что на этот раз мирная жизнь установится прочно. И тут я наконец решился. Я не мог поручить постройку подрядчику, слишком накладно, и подумал, что пятьдесят пять лет – не бог весть какая старость и, если взяться самому с помощником, дело пойдет. К тому же и время свободное было.
– Да, вспоминаю, – подтвердил Гиттон. – Я тогда только что вернулся из Германии, из нацистских лагерей, и мне так приятно было проходить мимо вашей стройки. Лежит груда новеньких кирпичей, фундамент растет на глазах. Детишки целый день здесь торчали…
– Правильно, правильно! – подхватил Эрнест и, повернувшись к жене, спросил. – А ты помнишь? Ребятишки тогда просто с ума посходили, не прогонишь их, бывало. И даже помогали, представьте себе… подносили кирпичи, возили тачки. Сначала я боялся, что они все перепортят, перебьют, песок растаскают.
Да, теперь, когда дом уже готов, когда у тебя есть свой угол, редко вспоминаешь эти горячие деньки. Пришлось повозиться, и немало. Все соседи следили, справлялись, как подвигается дело… и помогали. А вот когда есть крыша над головой, становишься эгоистом.
– Вы, господин Гиттон, помните тех двух стариков, а? Один – Жежен, а другой, как же его звали? Ну, у него еще жена больная. Так со стороны можно было подумать, что они для себя дом строят. Каждый день являлись, все общупывали, давали советы, помнишь, Леа? «Я бы на вашем месте так сделал. А я вот вам что посоветую…» Свод над входной дверью – там кирпичи как раз Жежен укладывал. Сам-то я не знал, как взяться…
– Да, в то время было совсем по-другому, – добавил Гиттон. – Тогда говорили, что бараки поставлены только временно. Начали закладывать первый поселок Бийу…
– Нет, пожалуй, даже раньше, в январе, я начал рыть котлован, – вспоминал Эрнест. – В то время я только что выхлопотал разрешение. Что касается Бийу – вы не подумайте, что это я для вашего удовольствия говорю, – так вот Бийу хоть и коммунист, а много нам тогда помог. Верно, Леа? Он свое дело хорошо знал. При нем сразу же все пошло по-другому. Меньше чем через месяц после того, как Бийу стал министром, он прислал сюда какого-то своего помощника – начальника канцелярии, должно быть, или что-то в-этом роде. Я ходил к нему на прием, когда он принимал пострадавших. Сам-то я не пострадал, конечно, но все-таки пошел. Что хорошо у вашего Бийу, чем его метод хорош? Это то, что он заставлял выслушать человека, поддержать хорошую инициативу. Верно я говорю, Леа? Его представитель – очень солидный мужчина, в очках, видный такой. Думаю, что он не коммунист. У него перед фамилией даже приставка «де» есть, господин де… де… не помню сейчас. На него стоило посмотреть, а, Леа? Ведь Леа тоже со мной ходила, вдвоем легче защищаться. Посмотрели бы вы, как он улаживал дела… Все у него в руках так и горело: распределение помещений – пожалуйста, строительные материалы – пожалуйста, разрешение – пожалуйста. На первый взгляд даже странно казалось: подумает минутку и тут же дает ответ. Когда я ему изложил мое дело, он меня чуть на смех не поднял: «Участок у вас есть? Строительные материалы есть? Так в чем же дело? Действуйте, чего вы ждете? Разрешение вышлем позже. Да не будет у вас никаких осложнений, ручаюсь вам! Клянусь головой моих предков!» Так и сказал, помнишь, Леа? Мы тогда с женой даже переглянулись. Знаете, прямо не верилось, очень уж просто. Он только записал мою фамилию и адрес. В час он, должно быть, человек двадцать принимал. Как он только тогда свои очки не сломал: все вертел их, то в рот возьмет дужку, то висок ею почешет… И представьте, не забыл своих обещаний: как он сказал, так все и сделал. Это была самая счастливая минута в нашей жизни. Я до сих пор каждую мелочь помню. Было это зимой, вот в эту же пору. Солнце еле пробивалось в окно, а он как раз у окна сидел, в серой бархатной куртке, так она вся как будто в синих полосах была, ведь в мэрии стекла синие. Если бы я знал, что он до сих пор в министерстве, я бы прямо ему написал или даже поехал бы в Париж. Будьте уверены, он всю их идиотскую затею с лагерем пресек бы. Да, у него размах был. А как вы думаете, он сейчас на своей должности?








